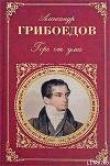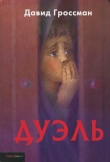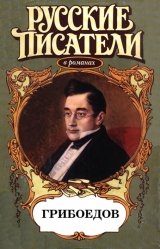
Текст книги "Дуэль четырех. Грибоедов"
Автор книги: Валерий Есенков
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 40 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Александр смутился, но ответил беспечно:
– Желанья столько нет.
Шаховской пребольно хлопнул его по плечу, негодуя:
– Вот этаких бы сечь!
Вырвал из его рук манускрипт, оттолкнул его самого, отворотился, весело заорал:
– Ремонт окончен! Имеет быть поставлена в Большом! Роли дадим, ах как мы роли дадим! В лучшем исполнится виде! Клянусь моими шишками! Вот погодите, запляшете у меня!
Смеющимися глазками обвёл всех актёров, смиренно сидевших вдоль стен, огромными ногами выкинул что-то из Бог весть которого танца, вздёрнул вверх пухлый палец, тоненьким голоском возгласил:
– Валберхова играет Элидину, раз! Лизу – Брянская – это два, зарубите себе на носу! Рославлева – Брянский – это вам три! Ленского – друг мой Сосницкий – это четыре, поздравляю тебя, сукин сын, послужи! Блестова, Блестова Рамазанов исполнит, всенепременно, всенепременно, прошу и не спорить со мной, что за бунт, это пять! Теперь и начнём!
Сосницкий, Князев любимец, шельмец, негромко сказал:
– Роли бы надо списать.
Шаховской ястребом взглянул на него:
– Что ты сказал? Повтори, сукин сын! Тебе ещё и роли списать? Ваше сиятельство, без этого таланту нет у тебя? Марш ко мне, сукин сын, бесстыжая харя! Бери и читай!
Сосницкий остался сидеть, говоря:
– Да вы сами взгляните: его же руки не разобрать никому, точно курица лапой, как он сам-то читал, удивляюсь ему.
Шаховской в самом деле взглянул, в досаде присел:
– Чёрт тебя побери, Александр! Как ты не выучился прямо писать! Это же срам! Образованный человек! Теперь не секут, а я погляжу, и в детстве тебя не секли, матушкин грех, куда глядела она? Зарезал, без ножа зарезал меня! Изыди от глаз!
И в гневе мгновенном затопал ногами, брызжа слюной:
– Лентяи! Одну ночь, но не больше одной! Макар перепишет! Завтра с утра! Театр как пожар – всё сгорит от минуты без дела! А теперь чай пора, Катерина Ивановна ждёт, мне покою не даст, когда не выдует трёх самоваров!
Подхватил его под руку, фальцетом вскричал, глотая разом по нескольку букв:
– Александр Сергеич, умоляю, не убегай, пощади, убьёт же меня!
Александр покосился на него снизу вверх, пожалел старика:
– Полноте, не сбегу.
Шаховской, отдуваясь, обтёр затылок платком:
– Так ведь как чай пить у нас, так тебя след простыл, а, признаться, слишком нехорошо. Катерина Ивановна намедни сбиралась сердиться, ты же знаешь характер её, тебе лучше бы над ней не шутить, дама строгая, мне за тебя попадёт. Уж ты изволь-ка, изволь-ка со мной. Она чтит в тебе нашу славу, да, брат, дождался, ужо!
Александр искренне удивился последним словам:
– Это какую?
Шаховской дружески обнял его, к тому же страшился его упустить:
– Экий скромник! Да ту, что, она говорит, непременно, непременно взойдёт на российском театре, это, брат, да!
Он смутился, позабывши своё самолюбие:
– Что ж, на театре...
Шаховской восторженно перебил:
– Именно, именно, на театре, а где же ещё?
Он справился со смущеньем, ответил беспечно, шутя:
– Я об том, что будет со мной, на днях ездил к Кирхофше гадать, так Кирхофша об этом знает не больше меня, врёт такой вздор, хуже комедий Загоскина.
Шаховской рассмеялся довольным, мелким старушечьим смехом:
– Какое сравненье! Ты, ради Христа, только вот ей-то, ей не скажи! Катерина Ивановна почитает себя пророчицей верной всего, что положено в мире театральном случиться, так она, право, очень, очень немногим, самым твоим близким друзьям, уж ты на неё не сердись, говорит, что из тебя выработается с годами русский наш Молиэр, так и возвестила на днях, чёрт побери, какой у женщины ум!
Александр шутовски поклонился:
– Благодарствую за комплимент, только что же Мольер, один Мольер уже есть, зачем же другого иметь?
Шаховской засеменил перед ним, вглядывая с мольбой и хитро:
– Экие бестолковые все! Русский, тебе говорят, Молиэр, русский, этого рода таланта не бывало у нас, и много повыше, я помышляю, чёрт подери! Нынешней Европе этакого таланта даже не снилось! Я тебе даже завидую, того гляди, обскачешь меня, что ж я-то буду тогда, я ведь завистлив, ты знаешь, разрази меня гром, подлец я, как есть подлечише, вранам падаль мою!
Александр досадливо возразил:
– Э, мартинисты вечно попрекают Европу порчею нравов, да истощением духа, да упадком талантов, а Европа-то сдуру производит то Гёте, то Шиллера, то Бомарше.
Шаховской прижал умоляюще руки к груди:
– Сделай одолжение, на старика не сердись, уже слова сказать не даёшь, а я с добрым сердцем, а не иначе, к тебе, ободрить тебя, подвигнуть к трудам, и Катерина Ивановна, ей-же богу, права, только вот некому тебя малость посечь, так от этого разве её предсказание может не сбыться?
К ним приблизился Сергей Трубецкой, тоже пропуская вперёд вереницу гостей, человек пятьдесят, высокого роста такого, что и в гвардии редко сыскать, с носом большим и печальным, худой, но статурою стройный, вопросом их разговор перебил:
– Александр Александрович, дозвольте узнать, вы решились возобновить «Мизантропа», и в ином переводе, как слышу?
Шаховской отскочил от него со страшным лицом, с большими глазами, каким-то чудом непомерно растопыривши их:
– Это кто вам налгал?
Трубецкой покраснел, с запинкой сказал:
– Но этот юноша милый читал монолог, с какой бы тогда стати читать?
Шаховской склонил торжественно голову, громким шёпотом зашептал:
– А, вот вы об чём, так я задал ему упражненье, только вижу, корм не в коня, комического чутья ни на грош, а талант, бессомненный талант, вы ещё на него надивитесь, Катерина Ивановна говорит, что из этого Каратыгина станет российский Тальма!
Трубецкой вымолвил, тоже невольно понижая свой голос:
– Очень жаль.
Шаховской звучно шлёпнул ладонью но лысине, взвизгнул в праведном гневе, запрыгал:
– Как это жаль? Довольно нам, русским, глядеть на Россию из окошка Европы! Россия богаче талантами всех этих вшивых Европ! У нас нет, я вам доложу, одного: нам всем необходима неистребимая, ненасытимая, неистощимая жажда труда, да-с, труда-с, непрестанного-с, а у нас в три года написать два водевильца почитается чуть не за подвиг! В Молиэры сейчас возведут! Это стыдно, стыдно, чёрт побери! Будь моя воля, сечь всех подряд, да и полно! Европе на срам!
Трубецкой, застенчивых правил, покраснел ещё более, словно бы высечь собирались его, и, позапнувшись несколько раз, возразил:
– Не то очень жаль, что мы богаты талантами, это и славно, что ж я России не враг, я Россию даже очень люблю, а то очень жаль, что не увидим мы «Мизантропа».
Шаховской, припрыгнув, втянув голову в плечи, замахал руками, точная мельница на ветру:
– Что вы сказали? Вам жаль? Да это трагедия, чёрт побери, какая тут, к чёртовой матери, малость! Сюжет замечательный, доложу вам, для комедии лучший в мире сюжет! Умный человек, а всюду как есть в дураках! Это же явление истинно русское и вместе с тем европейское, мировое, у них же всплошь, как есть, дураки! А? Вы не согласны со мной? Как вы только смеете быть не согласны со мной? Это же голый факт, как моя голова? Но как же прикажете этот сюжет разыграть? По-французски? Но к чему изображать нам французские нравы? У нас, сударь, и нравы свои, нам достойно играть «Мизантропа» по-русски, а где, покажите, такого рода пиэса? Вы возразите, мой перевод? Покорно благодарю, обо мне говорят, что я кого хочешь из зависти осмею и сотру в порошок, что у меня самолюбие, самомнение и само что-то ещё, только всё это дрянь, то да сё, враньё, чушь собачья, каламбуров предмет, бездарных стишков, Александр Сергеич, будь судья, подтверди, не больше того, порвать мой перевод на клочки да и сжечь, вот вам и весь перевод!
Трубецкой, нечаянно улыбаясь, моргал и уж отбивался с заметным трудом:
– Право, я об вашем переводе нисколько не думал, что вы, клянусь, однако ж, помнится, Кокошкина есть перевод[93]93
...Кокошкина есть перевод! – Кокошкин Фёдор Фёдорович (1773-1838) – драматург, переводчик, в 1820-е годы управлял московскими театрами.
[Закрыть]!
Тут Шаховской закатил глаза, заткнул себе уши руками, расслабленно взвизгивая, припуская в голос слезу, великий актёр, старый шут:
– Это что же ещё? Этот дурак, этот Кокошкин переложил глупейшим образом на русские нравы несчастного Молиэра, как будто бы без него никто не смыслит этого сделать, и вы ещё берётесь этого стервеца защищать!
От неожиданности лицо Трубецкого сделалось глупым, Трубецкой замялся, приложил руку к сердцу, пришаркнул ногой:
– Помилуйте, ваше сиятельство, я только сказал...
Шаховской вспыхнул, сделался грозным, хорош, представил прекрасно, и впился в Трубецкого крысиными глазками:
– Этот Кокошкин, этот накрахмаленный галстук, который по-человечески рта не умеет разинуть! Он хотел было учить меня и всех петербургских артистов, как нам надобно разыгрывать Молиэра! Он, признайтесь, это он вас ко мне подослал? Вы шпион?
Трубецкой чуть не заплакал, ужасно порядочный, искренний человек, свойства мягчайшего, крем не душа, так и тает, точно на жарчайшем солнце стоит:
– Помилуйте, ваше сиятельство, я довольно времени как в Москве не бывал!
Выпятив живот, точно щит, скроив грозно рот, Шаховской на него наступал, как в бою:
– Нет, это славно, из этого надобно соорудить водевиль посмешней для бенефиса Катерины Ивановны! Уж я ему устрою потеху! Запомните вы меня, я вам клянусь, ого-го!
Трубецкой был сражён и не находил, что отвечать, пятясь от напирающего на него живота, этакой глыбы, этакой бочки ворвани с китобойного судна, этого тарана древнейших времён. Со вниманием наблюдая всю эту сцену потешную, веселясь про себя, Александр увидал, что пришло время вмешаться, выручить, чуть не спасти, и, дразня Шаховского, скромным, раздумчивым тоном сказал:
– Юпитер, ты сердишься, стало быть, ты не прав. В самом деле, перевод Кокошкина не без достоинств, хотя, впрочем, если правду сказать, весьма небольших.
Шаховской стремительно разворотился к нему, чуть не свалив с ног Трубецкого своим животом:
– Ага! Ты тоже с ним! И ты меня предаёшь?
Александр, продолжая дразнить, медлительно начал:
– Вы мне друг, этого факта я не признать не могу...
Шаховской опешил, страдальчески взглянул на него и перебил едва слышно, точно нанесена была смертельная рана и он умирал:
– Послушай, ежели хочешь по истине да по правде...
Вдруг схватил себя крепко-накрепко за остатки волос, с силой рванул, сделался красен как рак и закричал на весь зал, уже опустевший и гулкий, называя Кокошкина своим самым бранным словцом, пропуская буквы в словах:
– Друг мой Кокошкин, этот мой друг, чёрт возьми, так постарался перевести, что бумага, бумага горит от стыда! Нет, вы не подумайте, не вообразите, я Кокошкина очень, очень люблю, я его уважаю, однако ведь он немного нелеп, ведь он совершенно испакостил нам «Мизантропа», изгадил, сил моих нет! Переплавить как следует, вовсе перенести на русские нравы храбрости у него, разумеется, недостало, московский герой, чего с него взять, сукин сын, а всё же Альцеста переварганил в Крутона, и какую-то палату приплёл, и даже русскую песню ввернул, как только рука его блудящая не отсохла, и выкинулся совершенный сумбур, прости ему Господи все прегрешенья, но только не это! Где же у Кокошкина русские люди, вы покажите, вы оба мне покажите! Это же вовсе не люди, это чёрт знает кто все такие, я бы сказал, уж я бы сказал вам, ваше сиятельство, с луны они попадали, что ли? Ну, вот послушайте, разве этак-то кто-нибудь говорит: «И, словом, тот, кто друг всего земного круга, того я не могу считать себе за друга»? Ну, что вы оба так смотрите, что? Может, полагаете, что я нарочно солгал? Так ведь нет, так-таки и отпечатано, чёрт его задери вместе с чулками, а ведь у Молиэра сказано просто: «Друг всего света не может быть моим другом». Что, узнаете? Очень похоже? Эх, ваше сиятельство, ваше сиятельство. И ты, Александр!
Он нарочно помедлил, нехотя согласился:
– Пожалуй, в этом месте Кокошкин сделал ошибку.
Шаховской медленно выпустил остатки волос, разжимая крючковатые пальцы, и посветлел:
– Так бы и сразу, голубчик ты мой! Умница ты, это я всем про тебя говорю. Вот тебе бы явить эту мысль Молиэра по-русски. Боже мой, какой богатейший сюжет! Мне бы таланты твои, твою молодость или хоть тебе бы мою страсть труда! Ах как я завидую, голубчик, тебе! Ты меня обгони, тогда тебе честь! А ты занят чем?
Он не стал отвечать.
Шаховской потоптался и двинулся прочь с опущенной головой, шаркая стариковски ногами.
И они с Трубецким наконец появились в столовой и сели, на радость Ежовой.
В столовой было шумно, что там базар, мясные ряды, чепуха, тишина, мир да покой. Все пили чай, точно бились с врагами. Катерина Ивановна тотчас заулыбалась и протянула ему с краями полную чашку. Александр принял её, поблагодарил кивком головы и между тем говорил Шаховскому, задевшему сильно его самолюбие, поневоле решившись продолжать разговор:
– Что бы было тогда, позвольте узнать?
Шаховской, суетливо и с боязнью поглядывая на Катерину Ивановну, взглядом выспрашивая её, довольна ли, душенька, свет мой, вот и привёл, погляди, переспросил, уже позабыв, что кричал:
– Ты это об чём?
Александр неторопливо отхлёбывал чай, размышляя, не здесь ли призвание, овому талант, овому два, а у него или вовсе ни одного, или что-то слишком уж много, куда пристроить хотя бы один.
– Да вот если бы вам мою молодость и таланты мои?
Шаховской спохватился:
– Тогда? Что тогда? Право, я вижу, тебе вся моя мысль пока не доступна, молод ещё, а Россия бы тогда обогатилась твореньем, без спору, великим, может быть, величайшим, вот так!
Он был и без того раздражён до каленья, сгорая от жажды великого, никак и нигде не чувствуя сил на него, немудрено, что решительно поставил чашку на стол и поднялся:
– Тогда разрешите откланяться.
Не смея взглянуть на Ежову, Шаховской с неподдельным ужасом ухватил его за рукав:
– Это что же? Куда ты? Откушай ещё хоть одну! На тебя же Катерина Ивановна беспрестанно глядит!
Наслышан и наблюдая не раз, что Катерина Ивановна в гневе ужасна и что Шаховской будет с криком разруган, если не побит во всю ночь за него, он опустился на прежнее место, однако отодвинул чай ещё дальше:
– Ваша страсть наконец одолела меня, что же чай, времяпрепровождение вредное, ваш долг меня призывает трудиться.
Откровенно довольный, что остановил, оставил его, Шаховской весь расцвёл и ласково ворковал, голубь, любовь, благодарность, милейший старик, со страстями только с двумя, к театру и к Катерине Ивановне, невозможно определить, какая сильней, да можно поклясться, что вторая больней:
– И как не стыдно, смеёшься над стариком.
Александру в самом деле хотелось смеяться, да было жаль и себя и его, и он как можно серьёзней взглянул сбоку в молящие глаза Шаховского:
– Ничуть не смеюсь.
Шаховской исподтишка взглядывал на Катерину Ивановну и жалобно ей улыбался, чуть не с нежностью выговаривая ему:
– Я же знаю тебя преотлично, ты же извечно смеёшься над всем и над всеми. Оно, может быть, и так, что познанием да умом у нас равных тебе нынче нет, что об этом невероятности толковать, коли это если не чистейшая правда, так недалече от ней. Загоскин-то прав, разделал тебя за учёность, дурак, а всё же смеяться надо мной тебе грех.
В самом деле, смешон, а смеяться грешно, молодец, доброта, остроумец, талант, жизнь готов положить за театр, непременно русский, непременно великий, и он тотчас переменил тон на дружеский, ласково улыбаясь одними глазами:
– Я посмеялся, то правда, однако ж самую малость, вы великодушны, вы простите меня.
Шаховской от неожиданности чуть не заплакал:
– Милый ты мой, вот за это я тебя и люблю, сердце у тебя голубиное, хоть всё остришь, не всякому видно, а я-то наблюдаю давно, миленький мой дурачок. Ещё бы больше любил, когда бы над тобою сбылось предсказание Катерины Ивановны, улыбнись ей разок, тебя не убудет, она хотя и строга нестерпимо, да женщина славная, сама доброта, если правду сказать, ты мне верь, жизни нет без неё.
Он склонил голову над столом, уставленным пирожками, сухариками да мармеладами:
– Может статься.
Шаховской пригибался, взглядывал чуть не со страхом, от всей души умолял:
– А ты постарайся, постарайся, голубчик, пособери-ка себя, не зарывай, не закапывай талантов своих, Господь не простит!
Он задумчиво протянул, подняв машинально чайную ложку, со вниманием беспредметным разглядывая замысловатый узор чёрной нитью по серебру:
– Как знать.
Шаховской вплотную придвинулся, притиснулся мягким плечом, со страстью зашептал ему в самое ухо:
– Дай слово.
Он вдруг рассмеялся, швырнув ненужную ложку на стол:
– Даю.
И поднялся.
Трубецкой поднялся следом за ним.
Они вышли вдвоём, не сказавши друг другу ни слова, точно сговорились куда-то идти.
Мороз покрепчал, иней белел на ветках деревьев, было тихо и прекрасно свежо.
Ему было за угол, рядом, но Трубецкой застенчиво предложил на углу, опираясь на трость:
– Пройдёмся немного, я потом тебя провожу.
Александр согласился охотно, как ни поздно было уже, часа три, страшась остаться нынче один, всё с теми же мыслями, что ему делать с собой:
– Изволь, проводи.
Трубецкой тепло улыбнулся, выбросил трость в такт шагам, повернулся к каналу:
– Страшный чудак, но человек замечательный, русский театр ему слишком многим обязан.
Он заложил руки за спину, держа трость под мышкой, шагал медлительно, с удовольствием, чуть подавшись вперёд.
– Ты прав, его комедии многие почитают слишком пустыми, это прискорбно, однако же так, а не примечает никто, что для русской сцены он создал превосходный язык, который нынче годится на всё, а своей неугомонной энергией создал целое поколение первоклассных актёров, которые без его понуканий бы обленились и не годились бы ни на что, особенно из них те, кто горазд куликнуть.
Трубецкой простодушно спросил:
– Он, кажется, весьма любит тебя?
Он отозвался:
– Я, по-своему, его тоже люблю.
Трубецкой вдруг замялся, несколько шагов сделал молча, не умея скрывать своих чувств, простота и наивность в союзе с высочайшим благородством души, и вымолвил наконец, из стеснения не взглянув на него:
– Впрочем, я зазвал говорить тебя об другом.
Этой манерой своей Трубецкой похож был на красную девицу, застенчивый, мягкий, пяльцы бы под окно иль слезливый французский роман, и Александр негромко подбодрил его, а возвысить голос нельзя, можно бы было спугнуть, закраснеет и замкнётся в себе:
– Изволь об другом, когда хочешь, рад тебя слушать обо всём и всегда.
Трубецкой помедлил ещё шагов пять, поправил тёплый картуз и встал перед ним, тяжело опираясь на трость, глядя всё-таки мимо него:
– Мне слишком жаль, что приключилось, ну, та история, с Шереметевым, понимаешь меня?
Александр понимал, но холодно возразил:
– Мне ещё более жаль.
Трубецкой смутился, двинулся дальше, тростью помахивал, взволнованно говорил:
– Поверь, коли бы знал, остановил бы и тех, и тебя, и особенно Якубовича, этого прежде других, по нраву общего дела, горяч, сорвиголова, некуда силу девать. В Петербурге он был бы нужнее. Люди такие лишены права на зряшные ссоры с приятелем, вот что должен понять.
Предугадывая вперёд, куда тот клонил, Александр обронил только то, что действительно думал:
– Я полагаю, на такие ссоры между приятелями не имеет права никто.
Трубецкой на ходу обернулся, просиял всем своим простодушным лицом:
– Рад за тебя.
Тогда он решился и резко спросил:
– Так ты не веришь, что я струсил тот день, как повсюду, мне говорят, раззвонил Якубович?
Трубецкой с неподдельным жаром воскликнул:
– Нисколько!
Открыт был всегда, не поверить нельзя, у него комок в горле застрял, и Александр замедленно проговорил, опасаясь выдать себя:
– Благодарю, душа моя.
Чутко уловивши это волненье, Трубецкой поспешно оборотился к нему и сделал два шага спиной:
– Что ты намерен делать теперь?
Он усмехнулся, тотчас справясь с собой:
– Это вопрос! Что делать умному человеку в России?
Трубецкой передёрнул плечами, непривычно сузил глаза, в глубоком раздумье подождал его и зашагал рядом с ним:
– Мне нестерпимо смотреть, как лучшие силы нашего общества, подобно тебе, распыляются на вздоры, на стычки, на распри, на безделье и пустоту прозябанья.
Он заговорил обыкновенным своим, чуть холодным, чуть насмешливым тоном, ощущая, неопределённо и смутно, что тон подходящ не совсем, не находя в волненье другого:
– Сознаюсь, виноват, однако ж в смягченье вины ты возьми то, что затеял историю глупую Якубович, и Шереметева кровь куда больше на нём, чем на мне, хотя и на мне, и на мне, я с себя вины не снимаю.
Трубецкой сокрушённо вздохнул:
– Якубович уж слишком горяч.
Он резко поправил:
– Скорее пошляк и позёр.
Трубецкой выпрямился, точно определение метило в него самого, высокий и стройный, и горячо возразил, сбиваясь с ноги, сильно толкнувши плечом:
– Он жизнь за общее дело отдаст, когда надо, это во вниманье прими, когда судишь об нём.
Он выпростал руки из-за спины и с этим движением чуть отстранился от своего добровольного собеседника:
– Когда случится на публике, при скопленье народа, так и отдаст, в расчёте услышать хлопки одобренья, а будет один, так самый великий час проворонит, случись на нашем веку такой час.
Не приметив его лукавых перемещений, вновь приближась чуть не вплотную к нему, Трубецкой заверил убеждённо и торопливо, словно бы знал, что час уже близок и надо спешить:
– Ну, слава Богу, он не один, не сомневайся хоть в этом, мало ли кто теперь рядом с ним.
Глядя под ноги, взмахивая медленно тростью, обдумывая скрытый смысл этих слов, он неохотно сказал:
– Право, наслышан я и об них.
Трубецкой заговорил торопливей и сбивчивей, повторяя почти то слово в слово, что с год назад довелось ему услыхать от Якушкина:
– Вот видишь, с окончаньем войны, ты это, разумеется, помнишь отлично, имя императора Александра гремело по всему просвещённому миру, народы и государи Европы, его великодушием неожиданным поражённые, предавали судьбы свои его воле, рассчитывая обрести независимость и свободу.
Он усмехнулся:
– Охота тебе на их счёт заблуждаться.
Трубецкой не смутился, поглядел на него очень пристально, зашагал ещё твёрже, чем за миг перед тем:
– Это как?
Над их головами неярко тлел невысокий фонарь, слабо освещая исхоженный снег и низкую припорошённую решётку канала. Вдоль канала, то отступая, то совсем близко приступая к нему, угрюмо молчали сплошные дома, в которых строго чернели все окна. Над двумя припозднившимися прохожими, над каналом и над домами висело чугунное небо с мелкой россыпью звёзд.
Пустые это всё разговоры, неприготовленные сужденья людей, желающих обнаружить именно то, чего не было, однако же Александр, поёжившись, точно от холода, подняв воротник, без вдохновенья, терпеливо и скучно стал изъяснять:
– Мнение народов о добродетелях нашего государя нам неизвестно, оттого оставим его. Что касается до государей Европы, то мнение их нам уже слишком известно. У каждого как имелись, так и нынче имеются свои, непримиримые, враждебные всем остальным, интересы, большая война, более двадцати лет сокрушавшая города и царства Европы, пошла на пользу только Британии, её развязавшей, из жажды уничтожения Франции, как об этом не знать. Её пространства удвоились присоединением Гельголанда, Мальты, Сейшельских островов, Капской колонии, Иль де Франса, Цейлона, Тасмании, Сен-Люси, Табаго и Тринидада, а в Индии Майсура, Дели, Непала и, кажется, чего-то ещё, всего не упомнил, прости, а не надо бы забывать, мыслящему человеку нет худшей слабости, чем слабость памяти. Однако ж и этого, представь, было Британии мало. Беда этой конституционной империи в том, что все эти земли служат ей рынком плохим. Сейшельские острова и Тасмания едва ли и вовсе являются рынком. Ей было необходимо проникнуть со своими товарами, прочными и недорогими в цене, в обширные владения Испании и Португалии, и вот тебе пример либерализма, когда речь заходит об государственных выгодах, к каковым интересы внешней торговли относятся в первую очередь: Британия поддержала в испанских и португальских колониях освободительное движение. Больше того, лет десять назад торговля чёрными в пределах её владений запрещена, вовсе, разумеется, не из гуманных соображений, не надейся на это, а ради того, чтобы ослабить своих конкурентов, которые, не имея достаточно произведений ремёсел, какими располагает она, обогащаются главнейшим образом тем, что торгуют рабами, и нынче Британия требует запретить торговлю неграми во всех прочих странах. Так вот, если рассуждать об интересах торговли, кто оказался в Европе важнейшим, самым опасным противником для Британии? Франция и Россия, это очевидно как день, первая своей восточной торговлей и флотом, вторая, к несчастью, одним безумным стремлением в Константинополь, что непременно вытеснит британских торговцев с Востока, впрочем, как и французских. И ты полагаешь, что Британия предала свои судьбы на волю нашего государя?
Ноги его стали мёрзнуть, и он, удивляясь, что эта посторонняя тема так внезапно его увлекла, попросил:
– Давай повернём.
Они повернули, и он, всё глубже кутаясь в меховой воротник, думая оборвать разговор, когда предлагал повернуть, вдруг стал продолжать, разгорячаясь всё больше, но внешне оставаясь холодным, точно лишь оттого продолжал, что не хотел оказаться невежливым и поддерживал начатый не им разговор:
– Ничуть не бывало. Против разгромленной Франции Британия всё-таки решилась усилить Голландию, отдав ей взамен Капской колонии и Цейлона соседнюю Бельгию и провинции за Маасом до Рейна. Кроме того, предполагался брак наследного принца голландского с единственной дочерью принца-регента Августой-Шарлоттой, которой сравнялось едва восемнадцать, а созданные таким образом Нидерланды должны были вступить в союз с Ганновером, этим родовым владением британской короны. На рейнские провинции претендовала и Пруссия, и Британия была готова отдать ей взамен них всю Саксонию и прежние польские земли, что прямо противоречило национальным интересам России, а в Италии Британия была готова предоставить Австрии такие возможности, чтобы та могла противостоять на её восточных границах России, а на её западных границах французам. России же было необходимо усилить Пруссию на Рейне и тем поставить в зависимость побеждённую Францию, а также в Саксонии, чтобы связать таким образом Австрию, которая является нашим неизбежным и упорным врагом на Балканах. Австрии же, в интересах России, должна была в Италии противостоять побеждённая Франция. И ты полагаешь, что Меттерних[94]94
Меттерних Клеменс (1773-1859) – министр иностранных дел и глава австрийского правительства в 1809-1821 гг.
[Закрыть] этой комбинации не понимал и добровольно руки сложил крестом на груди, ожидая, пока наш благодетельный государь благополучно разрешит все свои проблемы в Европе и направит на Восток все свои силы, где не сама же собой завязалась внезапно война на Кавказе?
Целый не фантастический, но действительный мир грозных намерений и грозных последствий для народов, республик, королевств и империй открывался ему, и он, поражённый, как все бесчисленные интересы и сшибки связывались невидимой нитью в его голове, сильней взмахивал тростью, точно готовил удар, пытаясь сильным движеньем согреться, не замечая, что это внутренний был холодок.
– А Талейран? Как полномочный министр, он должен был спасти целостность и независимость Франции, которая занята была чужеземными армиями, и этот хитрый, хладнокровный политик, в своей долгой жизни сыгравший множество самых различных ролей, подобно актёру театра, умеющий при случае играть даже роль вполне честного человека, возвышенный революцией, развернувший свои таланты во время Империи, выдвинул в Вене принцип легитимизма, согласно которому завоевание не даёт никаких прав победителям распоряжаться ни одной короной, ни одной территорией, пока от них сам собой не отказался законный владыка. Ты полагаешь, Талейран и сам уверовал в легитимизм, после стольких захватов, которые он скрепил договорами в правление Бонапарта, ещё раз явив миру свою беспринципность? Я так не думаю, скорее всего, у Талейрана в самом деле никаких принципов нет, однако ж на этот раз выгоды государства, выгоды поверженной Франции потребовали от пего этого принципа, и он этот принцип провозгласил. А чем его изворотливость обернулась на деле? На деле она обернулась идеей справедливости, и один Талейран её защитил, тогда как прочие государи опирались только на право оружия, между ними и наш государь. Пруссия лишилась прав на Саксонию. Каковы же причины? А таковы, что здравствует саксонский король! Сбережение же независимой Саксонии, Майнца и Люксембурга означало безопасность для Франции. Мы же, согласно этому принципу, лишились права на Польшу. Замечательней же всего, что ни у кого из государей Европы не могло быть против этого милого принципа возражений. И чем же окончилась находчивость Талейрана? Она окончилась тайным союзом Франции, Австрии и Британии против России, а ты говоришь: предали судьбы свои покладистой воле нашего государя. Полно, мой милый, куда там!
Трубецкой растерянно, негромко спросил:
– Откуда ты всё это взял?
Отчего-то решив, что вопрос относился к одной тайне союза против России, он ответил сердито:
– В дипломатии тайн не бывает, мой милый. До прибытия Талейрана решено было не приглашать на совещания победивших держав, соединившихся в Вене[95]95
...победивших держав, соединившихся в Вене... – Речь идёт о Венском конгрессе (1814-1815), завершившем войну коалиции европейских держав с Наполеоном.
[Закрыть], представителя Франции, а через два месяца Кэстлри потребовал приглашения Талейрана. Тут и слепому открылись все замыслы, удивляюсь тебе. Кроме того, Бонапарт нашёл текст договора, неожиданно воротившись в Тюильрийский дворец, и любезно переслал его нашему государю. Как видишь, победители объединились с той стороной, которую победили главным образом русским оружием, и дружно выступили против России. В итоге стольких интриг Британия получила позиции в Европе сильнейшие, а мы не можем опереться на Францию, которая осталась без армии, имеем против себя Австрию, а Пруссия, единственный наш союзник в Европе, оказалась разъединённой и к тому же занятой своими внутренними делами. Таким образом, нам интригами той же Британии навязали войну на Кавказе, а наши дивизии должны стоять наготове в Европе. Вот до чего народы и государи поражены были великодушием нашего государя, как ты имеешь удовольствие полагать.
Трубецкой встрепенулся, точно он его вдруг разбудил, и с твёрдостью объявил:
– Однако ж Россия гордилась своим государем и ожидала от него новой судьбы, в первую очередь для себя.
Он возразил, усмехаясь:
– Новой судьбы не ожидают, мой милый, новая судьба приготовляется последовательным ходом вещей.
Трубецкой на мгновенье запнулся, но взял через миг тот же возвышенный тон: