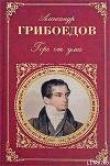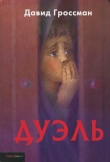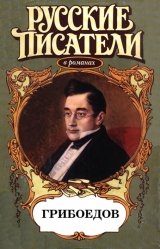
Текст книги "Дуэль четырех. Грибоедов"
Автор книги: Валерий Есенков
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 40 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Выслушивая с должным вниманием, он умолчал, что давно уж лелеет мечту о трагедии из русской истории, что сюжетов замечательных наприметил не один и не два, но именно, именно, был ещё ученик, рука была неопытна и слаба и трагедия была далеко, далеко, об чём же было сказать?
Никита тепло улыбался, поблескивал глазами, продолжал увлечённо и длинно, как влюблённые говорят о любви:
– Вся древняя история вообще имеет перед новейшей то преимущество, что она большей частью писана людьми, которые первые в правлении занимали места, а не одними только литераторами. По этой причине она отличается особенной важностью, глубокомыслием, полнотой и строгим приличием, тогда как наши смелые и неутомимые историки, не ведая обязанностей звания, ими на себя принятого, пишут одни только похвальные слова, не сознавая того, что истинно высокие дела, как справедливо сказал один из новейших немецких писателей, требуют только простого и ясного изложения.
Именно так, он с Никитой был совершенно согласен, вовсе не желая быть одним литератором, как литература издавна ни приманивала его, однако ж какие могут быть для него в правленье места, какие истинно высокие дела его ожидают?
А Никита, ощущая, должно быть, особенное вниманье его, увлекался, точно его соблазнял:
– Представьте нам тогдашнее положение дел, затем опишите происшествия так, как случились они, и великий муж, великий полководец нашим взорам предстанут во всём своём истинном блеске, ему не нужны восклицания безызвестных панегиристов. Весьма естественно по этой причине, что таковые писатели не удовлетворяют нашему любопытству и читателей образованных мало находят. Сей недостаток хороших исторических книг особливо чувствителен для военных, которые беспрестанно поучаются в истории браней. Россия имела Румянцева, Суворова, Каменского[76]76
Каменский Михаил Фёдорович, граф (1738-1809) – генерал-фельдмаршал.
[Закрыть], Кутузова, однако их дела надлежащим образом никем не описаны, точно они народов других достоянье. Юный воин, лишённый пособий отечественных, должен пользоваться примером народов иных, как будто бы мы были скудны своими. Эти размышления, горестные для патриотов, привели меня к мысли о том, что нет ещё до сих пор истории русской Суворова, первого из наших вождей. А между тем должно распространять в Отечестве нашем круг размышлений, вперяя в умы, что нелепо ограничивать предметы и образы оных. Ньютон, Коперник, Галилей – словом, все великие мужи, какой бы ни занимались отраслью наук, сидели бы в остроге и долженствовали бы отвечать перед полицией, которая бы весьма легко опровергнула все лжемудрствования и лжеучения. Нет, нам должно поощрять отвлечённые и умозрительные науки, которые требуют и влекут за собой свободу рассуждения и некоторую благородную и необходимую независимость мысли, основу добродетели, ибо они отвлекают от низких помышлений эгоизма. Но разве я свободен, если законы налагают на меня притеснения? Разве я могу считать себя свободным, если всё, что я делаю, согласовано с разрешением властей, а другие пользуются преимуществами, в которых отказано мне, если без моего согласия могут распоряжаться моей независимой личностью? И потому я вижу необходимость поднять Россию на высочайшую степень благосостояния и благоденствия посредством учреждений равно благотворительных для всех состояний людей, которые находятся в ней, а также твёрдого устройства судебной части в нижних инстанциях и гласности во всех действиях правительства. С этой целью положил я усовершенствовать себя в военной истории, фортификации, а наиболее в стратегии, коими занимаюсь без руководства.
Поощрённые такими речами молодого хозяина, счастливого вдохновением замыслов, юные гости приходили в восторг, горячо произносили друг перед другом изречения Монтескье[77]77
Монтескье Шарль-Луи (1689-1755) – французский просветитель, философ. Выступал против абсолютизма.
[Закрыть] и Руссо о высшем благе Отечества и обязанностях истинных граждан, с жаркой ненавистью проклинали тиранов, убеждали друг друга в святости вечной борьбы против них, спорили о достоинствах республики и конституционной монархии, громко декламировали стихи о свободе и дружно, со строгими лицами пели свой гимн:
Отечество наше страдает
Под игом твоим, о злодей!
Коль нас деспотизм угнетает,
То свергнем их трон и царей!
Свобода! Свобода! Ты царствуй над нами!
Ах, лучше смерть, чем жить рабами, —
Вот клятва каждого из нас...
Слова этого новейшего гимна принадлежали Павлу Катенину. Он и не помнил, когда они подружились, должно быть, тотчас, как он впопыхах примчался из Бреста. Каким способом намеревался Катенин повергнуть трон и царей, оставалось довольно туманным. С Катениным он более трактовал о театре. Не находилось такого поэта, такого прозаика и драматурга, которого бы Катенин не знал, театр же был его исключительной страстью. Вершиной искусства величал Катенин по праву трагедию, беспрестанно трудился над переводом Расина или Корнеля и над излюбленной своей «Андромахой» и ратовал жарко, совместно с Шишковым, за несметные богатства старинного русского языка, своим упорством и неисчислимыми знаниями всюду рождая себе заклятых противников, даже врагов. Когда его вопрошали с насмешкой, в какой именно книге находит он истинный русский язык, Катенин без промедленья язвительно отвечал, что такой язык ни в какой книге найти невозможно, и разражался разгневанной речью, принимая позу оратора, заимствованную им у Тальма[78]78
...позу оратора, заимствованную им у Тальма. – Тальма Франсуа Жозеф (1763-1826) – французский актёр. Во время Великой французской революции участвовал в создании «Театра республики» (1791-1799).
[Закрыть]:
– Народные песни изменялись, по всей вероятности, беспрестанно. «Слово о полку Игоря» написано белорусским наречием. Летописи почти все начертаны варварским языком. Феофан имел порывы красноречия, Кантемир ум образованный[79]79
Феофан имел порывы, красноречия, Кантемир ум образованный... – Прокопович Феофан (1681-1736) – церковный и политический деятель, писатель, историк. Кантемир Антиох Дмитриевич (1708-1744) – русский поэт, дипломат, один из основоположников классицизма.
[Закрыть], но их язык дурен. Ломоносов первый его очистил и сделал почти таким, каков он и теперь. Чем он достиг своей цели? Приближением к языку славянскому и церковному. Должны ли мы сбиваться с пути, так счастливо проложенного им?
Оглядывал слушателей пронзительным взглядом и возвышал голос так, чтобы овладеть их вниманием без остатка:
– Не лучше ли следовать по нему и новыми усилиями присваивать себе новые богатства, сокрытые в нашем коронном языке? Если это язык, как утверждают, не наш, а чужой, то почему он нам так понятен? Почему Библию легче разуметь всякому, чем какую-нибудь летопись?
Выпрямлялся с независимым видом, выставлял ногу вперёд, как в декламациях делал Тальма, и подпускал в грозный голос насмешки:
– Знаю все издевательства новой школы над славянофилами, варяго-россами и прочим, но охотно спрошу у самих издевателей: каким же языком нам писать эпопею, трагедию или даже важную, благородную прозу? Лёгкий слог, как говорят, хорош без славянских слов. Пусть так, но в лёгком слоге не вся словесность заключена. Он даже не может занять в ней первого места. В нём не существенное достоинство, а роскошь и щегольство языка. Исключительное предпочтение всего лёгкого довело до того, что, хотя число стихотворцев умножилось, число творений уменьшилось. Перечтите их собственный список, вы увидите, что в последнее время одни трагедии Озерова не мелкие стихотворения. Конечно, есть люди с дарованиями и способностями, но отчего же они не пользуются ими и не трудятся над предметами, которые были бы достойны внимания? Не оттого ли, что почти все критики, а за ними и большая часть публики расточают им вредную похвалу за красивые безделки и тем отводят их от занятий продолжительных и прочных?
Преображался, скрещивал руки, уподобляя себя полководцу, который уже видел победу, пустивши в дело последний резерв:
– Сравните наших старых писателей с нынешними. Оставя в стороне дар природы, найдёте в первых истинную любовь к искусству, степенное в нём упражнение, трудолюбие и душевное старание об успехах языка и поэзии. Они боролись с большими трудностями. Каждый в своём роде должен был созидать язык, и заметьте, что, которые держались более старого, те менее всех устарели. Самые неудачи их могут служить в пользу последователям, да последователей нет, вот где беда. Много пишут, а написано мало. Хвалят автора, но его творение боятся назвать.
Разгорячённый донельзя, сверкая злобно глазами, жаждущий испепелить в уголь каждого, кто осмелится хотя бы жестом и взглядом противоречить ему, Катенин, при своём малом росте возвышаясь у полок, закрывавших доверху стены его кабинета в Преображенских казармах, выхватывал книгу за книгой, раскрывал тотчас на месте, необходимом для доказательства по ходу его рассуждений, и принимался тут же читать, слегка растягивая слова, как это делывал великий Тальма, искусство которого Катенин изучал дотошно в Париже, бывая на всех его представлениях, пока гвардию не воротили в Россию, однако ж читал то упиваясь чудной музыкой возвышенных славянизмов, то кривясь от пресной лёгкости нынешних легкомысленных стихотворцев, в беспечности рождавших куплет.
У Жуковского строгий Катенин не обнаруживал ничего ни большого, ни истинно русского, ни своего. В особенности неудовольствие гневливого критика вызывала «Людмила», переделанная Жуковским из Бюргера. В пику этой балладе Катенин нарочно сделал свой перевод, чтобы воочию всем показать истинные достоинства подлинника и на первом месте немеркнущие богатства старинного русского слога. Скандал вокруг его «Ольги» стоил скандала вокруг «Липецких вод». Весёлые арзамасцы были возмущены не на шутку. Претензия хотя бы в чём-то состязаться с неповторимым Жуковским им представлялась кощунственной, чуть не преступной. Мрачный Гнедич пространно доказывал, что все, кто нынче сочиняет баллады, лишь неумело подражают Жуковскому, что народную немецкую балладу можно сделать для русских приятной лишь переложением, а не прямым переводом, обзывая сделанный Катениным перевод непоэтичным и оскорбительным для рассудка и вкуса, и нападал на Катенина с самыми мелкими и необоснованными придирками.
Он тотчас выступил на защиту Катенина, поместив в том же «Сыне отечества» большую статью «О разборе вольного перевода Бюргеровой баллады «Ленора», предпослав эпиграф латинский: «Несправедливость противной стороны вызывает справедливую войну». Он писал вызывающе, страстно, независимым тоном, часто прибегая к холодной иронии, рассуждая о том, что ему нестерпима всякая поэтическая кудрявость, в особенности слезливость, и что в поэзии достоинство главнейшее – натура и простота. Он обрушивался на Гнедича, из какой-то причины скрывшего своё всем известное имя за подписью «Житель Тентелевой деревни»:
«Г-ну рецензенту не понравилась «Ольга»: это ещё не беда, но он находит в ней беспрестанные ошибки против грамматики и логики, – это очень важно, если только справедливо; сомневаюсь, подлинно ли оно так; дерзость меня увлекает ещё далее: посмотрю, каков логик и грамотей сам сочинитель рецензии!..»
И посмотрел со своим логически беспощадным умом:
«Г. Жуковский, говорит он, пишет баллады, другие тоже, следовательно, эти другие или подражатели его, или завистники. Вот образчик логики г. рецензента. Может быть, иные не одобрят оскорбительной личности его заключения, но в литературном быту то ли делается? Г. рецензент читает новое стихотворение, оно не так написано, как бы ему хотелось, за то он бранит автора, как ему хочется, называет его завистником и это печатает в журнале и не подписывает своего имени. Всё это очень обыкновенно и уже никого не удивляет».
Затем приступает к грамматике:
«Грамматика у г. рецензента своя, новая и сродни его логике: она, например, никак не допускает, чтоб
Рать под звон колоколов
Шла почить от всех трудов.
Вступать в город под звон колоколов, плясать под музыку. Так говорится и пишется и утверждено постоянным употреблением, но г. рецензенту это не нравится: стало быть, грамматически неправильно...»
Он доказывал, что строгий Катенин верно передал красоты немецкого подлинника и что в катенинских звучных стихах вполне торжествует дух старинного русского слога, и заключал суждением о задачах истинной критики, до сих пор не исполненных:
«Чтоб не нагнать скуки на себя, ни на читателя, сбрасываю с себя маску привязчивого рецензента и в заключение скажу два слова о критике вообще. Если разбирать творение для того, чтобы определить, хорошо ли оно, посредственно или дурно, надо прежде всего искать в нём красот. Если их нет – не стоит того, чтобы писать критику, если же есть, то рассмотреть, какого они рода? много ли их или мало? Соображаясь с этим только, можно определить достоинство творения. Вот чего рецензент «Ольги» не знает и знать не хочет».
Его статейка тоже наделала шуму. Ему передавали, что разгневанный Батюшков советовал Гнедичу не отвечать и что будто прибавил при этом: «Надобно бы доказать, что Жуковский поэт, тогда все Грибоедовы исчезнут», и что Василий Львович Пушкин[80]80
Василий Львович Пушкин (1767-1830) – поэт, член «Арзамаса», дядя А. С. Пушкина.
[Закрыть], старейший весельчак и простодушный стихотворец, в краткой приписке недоумевал: «Откуда взялся этот рыцарь Грибоедов?», а литературные друзья наперебой поздравляли его.
У него бы не оставалось сомнений, что он мог занять в российской, ещё не родившейся критике первое место, кабы не строгий логический ум: ни у Жуковского, ни у Дмитриева, ни у Гнедича, ни у Батюшкова, ни у Давыдова, ни у своего приятеля Шаховского, властелина комической сцены, не находил он довольно красот, чтобы стоило об них говорить и печатать.
Что ж было делать? Чем занять тоскующий ум?
Он снова встретился с Чаадаевым. Когда-то в Москве оба слыли великими книжниками. Под рукой серьёзного Чаадаева была редчайшая библиотека его деда Михаила Щербатова, в которой, как изумлялись досужие московские кумушки, как мужеского, так и женского пола, насчитывалось до пятнадцати тысяч томов, однако и этого изобильного кладезя им было мало. Едва выбравшись из детского возраста, самолюбивый, себя предназначивший на великое поприще, Чаадаев пустился собирать книги сам, сделался известен всем букинистам в Москве, вошёл в письменные сношения с известным Дидотом[81]81
Дидот (Дидо) – семья французских типографов, издателей. Речь идёт о Фермене Дидо (1764-1836).
[Закрыть] в Париже и толковал беспрестанно с московскими знаменитостями об искусстве, религии и науках, большей частью исторических и философских. В чаадаевской библиотеке имелись редчайшие экземпляры на языках европейских и русском. Её большая часть состояла из трудов английских и французских философов, а также по истории, политике и богословию. Эти тома служили постоянными его собеседниками. На их широких полях набрасывал Чаадаев заметки для своих будущих, непременно прославленных сочинений и язвительные свои афоризмы, делал пометки, высказывал о прочитанном свои мнения, записывал планы и даты, заносил рецепты и адреса, покрывал всё пространство массой никому не понятных значков, помечавших места, особенно его поразившие, отчёркивал вертикальной чертой, ставил звёзды, чертил кресты или круги, видом своим походившие на омегу или скрипичный ключ. Порой, должно быть, бывало мало и этого арсенала. Тогда Чаадаев перечёркивал всю страницу модным карандашом или перегибал её пополам.
Они сблизились на лекциях эстетических, которые читал им приватно замечательно умный профессор Буле. Интересы их и мечтания оказались почти одинаковы, и они вели бесконечные разговоры, всё, что ни попадало им на язык, от философии старцев Платона и Аристотеля до новейшей европейской политики, подвергая бесстрашно придирчивому суду своему. Только после многих бесед, прогулок вдвоём и зажигательных споров чувствительный Чаадаев подпустил его к своим книгам. Для него, ненасытного в знании, почти не имевшего собственных книг, явилась истинным наслаждением подобная милость, знак приязни и дружества: с той поры приобрёл он возможность прочитывать самые лучшие, самые обстоятельные труды по любому предмету своей любознательности, то есть решительно обо всём.
После университета Чаадаев вступил, согласно семейной традиции, в Семёновский полк и с этим полком проделал кампании двенадцатого, тринадцатого и четырнадцатого годов, бывши в сражениях при Бородине, Тарутине, Малом Ярославце, Люцене, Бауцене, Кульме и Лейпциге, перевёлся в Ахтырский гусарский полк, затем был перечислен в лейб-гвардию.
Лейб-гусары стояли в Царском Селе. Время от времени Чаадаев приезжал в Петербург и поселялся в номере, постоянно снятом у Демута, где приказал поставить превосходный трельяж с набором щипчиков, ножниц и пилок, а по бокам глядели с портретов на утренний его туалет гордый Байрон и сумрачный Бонапарт.
Обыкновенно заставал он старинного друга перед этим трельяжем: Чаадаев то старательно подпиливал и без того безупречные ногти, то взволнованно выстригал какой-нибудь не к месту пробившийся волосок. Они запирались, чтобы никто не мешал, и завлекались, как прежде, бесконечными разговорами, однако прежнего вдохновения отчего-то не слышалось ни в том, ни в другом.
Между тем Чаадаев был будто прежний: утончённый, изысканный, независимый, сдержанно гордый, изящен и меток, всё той же оставалась неумолимая приверженность к книгам, всё так же глубок и пытлив несметно образованный ум, только красота ещё приметней стала бросаться в глаза, стройный и тонкий, румяный, голос приятный и благородство манер, только будто бесстрастней сделался голос, похолодело лицо, застыли большие глаза и неожиданней и смелей парадоксы ума. Весь застыв, задумчиво глядя куда-то поверх его головы, едва шевеля маленьким выпуклым ртом, неторопливо, размеренно Чаадаев вдруг изрекал:
– Доказать, что счастливыми могут быть одни дураки, есть, представляется мне, прекрасное средство отвратить некоторых от пламенного и бесплодного искания счастья.
Напоминая Катенина, но не страстно, а медлительно, равнодушно извлекал из бокового кармана потёртый, всюду исписанный томик и с холодной усмешкой читал:
– «Людей учат чему угодно, только не порядочности, а между тем всего более они стараются блеснуть порядочностью, а не учёностью, то есть как раз именно тем, чему их никогда не учили».
Он обнаружил, к удивлению своему, что всё чаще Чаадаева увлекают богословские темы, которые его самого не занимали нисколько: как будто один вглядывался всё пристальней в небо, а другого всё более интриговала поспешно и глупо устроенная земля.
Нет, это расхождение не ломало их прежнего дружества, однако сойтись душа в душу они уже не смогли.
Что же всё-таки ему было делать?
Он пробовал найти неопровержимый ответ у масонов и вошёл в ложу «Соединённых друзей». На своих таинственных и тайных собраниях посвящённые братья возвещали борьбу с фанатизмом и с ненавистью к иноземным народам, проповедовали естественную религию, объявляли всех людей равными перед Богом и признавали свой идеал в триединстве Солнца, Знания, Мудрости, однако ж в речах братьев не примечал он обширных и подлинных знаний, а суждения о братстве и равенстве представлялись ему чересчур уж рассудочными, чересчур отвлечёнными, не применёнными ещё никем и нигде к нынешним земным отношениям.
Он встречался с хромым Николаем Тургеневым, вместе с которым тоже слушал московских профессоров.
Выросший в просвещённой семье, имея отца, которому большим другом был Новиков[82]82
Новиков Николай Иванович (1744-1818) – просветитель, писатель, журналист.
[Закрыть] и который принимал в масонскую ложу молодого Карамзина, вспыльчивый, замкнутый, склонный к страдальческой меланхолии и к размышлениям мрачным, обладая трезвым и практичным умом, любивший чтение, как Чаадаев, истинную учёность поставлявший превыше всего, Тургенев учился легко и беспечно, зная почти всегда наперёд, что читали профессора, в Гёттинген отправился лишь потому, что перед тем в тамошнем университете обучался сам Штейн, слушал Шлепера, Геерена и в особенности юриста Гёде, который своей рациональной теорией в прах развеивал все ходячие понятия об наказаниях, преступлениях и осуществлении права наказывать как пустые и вредные предрассудки, воротился в Россию перед самой войной, определился в комиссию законов, однако вскоре определён был в сотрудники к Штейну и при этом государственном муже завершил своё юридическое и политическое образование, какого не получишь ни в одной академии, был в Париже во время нового политического устройства французов, вместе со Штейном присутствовал на Венском конгрессе, вновь воротился в Россию и был назначен на должность статс-секретаря в Департаменте экономики, важнейшем из департаментов Государственного совета.
Привезя с собой планы преобразований самых решительных, Тургенев был поражён, что государь, прежде провозглашавший необходимость реформ и во всеуслышанье обещавший в Париже, что без промедления займётся внутренним устройством России, кажется, перестал даже и думать об этом деле наиважнейшем. Размышления его делались день ото дня всё мрачней. Тургенев в сердцах восклицал иногда:
– Что за прелесть жить в этом хаосе мрака и унижения без всякой надежды светлых дней для Отечества!
Выводы Тургенева из этих первых, неожиданных наблюдений, таких не походивших на то, что он только что наблюдал в Париже и в немецких столицах, поневоле выходили печальны:
– Как посмотришь, в каких руках финансы, торговля, промышленность, полиция, правосудие, законодательство! Что после этого остаётся для честных людей? У нас всякий день оскорбляется человечество, справедливость простейшая, просвещение и, одним словом, всё то, что не позволяет земле превратиться в пространную пустыню или в вертеп кровавых разбойников! Видя и слыша всё, что делается у нас, я более и более теряюсь в соображениях о несчастном положении России. Я убеждаюсь, что на моём веку её счастья мы не увидим. Эгоизм, грабительство, подлость. Как и куда всё это идёт? Кто обо всём этом думает?
Передвигаясь по кабинету с мрачным лицом, заметно хромая, Тургенев вдруг восклицал:
– Жить тяжело! Всё, что вижу и слышу, печалит и бесит. Там невежды со всех сторон ставят преграды просвещению, там усиливают шпионство. Свежей мысли нигде не слыхать. Бостон, этот опиум, действует вернее всех прочих мер, приучая не думать. Душно, брат, душно!
Останавливался, склонив голову, и всегда замкнутое лицо неожиданно искажалось брезгливой гримасой:
– Меня гнетёт, уничтожает мысль, что я при жизни своей не увижу Россию свободной на правилах конституции мудрой. При всяком добром намерении падают руки, как вспомню, что я осуждён прожить вторую половину своего века в том же порядке вещей, который доселе существовал. Это печально, грустно, ужасно, унизительно до презренья к себе!
Опустошённый, с немигающим остановившимся взглядом, опускался старчески в кресло, вытягивал ноги, долго молчал, потом раздумчиво говорил:
– Хуже всего, может быть, то, что я не верю, чтобы в России какое-нибудь общество, о каких теперь говорят, могло бы доставить необходимые средства для достижения значительного и сложного результата, то есть уничтожения рабства и вместе осуществления конституции. Для этого требуется прежде всего появление серьёзных писателей, которым были бы хорошо знакомы различные отрасли человеческих знаний, но особенно люди, одинаково сильные и в теории и на практике, тогда как Россия подобных людей почти лишена, а без них все рассуждения о благе Отечества грозят остаться только благими намерениями.
Иногда успокаивался, становился рассудительней и ещё холодней:
– Люди долго искали и долго ещё будут искать цель своего бытия, но то время придёт наконец, если, впрочем, можно надеяться на усовершенствование человека, когда люди познают истинное своё назначение и найдут его в любви к Отечеству, в стремлении к его благу, в пожертвовании себя всего на пользу его. Это чувство любви, как представляется мне, врождённое в человеке. Это искра божественности, и только действия этого чувства пленяют нас и возвышают нам душу. В чём не имели люди блаженства? Чем не хотели удовлетворить стремление души к чему-то высокому? Усилия их всегда оставались тщетными, если не имели предметом Отечество, мысль же об Отечестве всегда услаждала пожертвования их, удовлетворяла сердечным влечениям, приближала их к совершенству, наивозможному для человека.
И размышлял неторопливо, пространно, не ожидая ответа, желая, должно быть, высказать вслух свою мысль, своим судом проверить справедливость её:
– Всякое начало трудно. Это простая, но великая истина. Начинающим и ныне предлежат великие трудности, это тем более, что могут быть различны мнения в средствах, которые, по важности своей, иногда становятся целью. Но должны ли трудности вас устрашать? Должны ли мы к началу не приступать лишь потому, что окончания, может быть, не увидим? О, нет! То, что мы предпринимаем, рано или поздно должно быть начато и свершено. Что скажут те, которые станут то же дело предпринимать после нас, когда ни в чём не встретят предшественников себе? Что скажут внуки наши о своих предках, прославившихся многим, не найдя одного важнейшего цветка в венце их славы? Предки наши, скажут они, показали доблести свои в действиях за честь и гремящую славу Отечества, но где дела их на пользу гражданского благоустройства и счастья? Неужели народ, родивший столько героев, показавший столько блестящего ума, характера, добродушия, столько патриотизма, не мог иметь в себе людей, которые, избрав в удел себе действовать во благо своих сограждан, постоянно следовали бы своему предназначению, которые, не устрашась препятствий, сильно действующих на людей бесхарактерных, но воспламеняющих огонь патриотизма в душах возвышенных, стремились бы сами и влекли за собой всех лучших своего времени к святой, хотя и далёкой цели гражданского счастья? Какое сердце не содрогается при упрёках таких? Какие парадоксы могут их опровергнуть?
В такие моменты голос делался твёрдым, в строгом упрямстве поднимались небольшие, но красивые по-женски глаза:
– Истинное несчастье России заключается в том, что немедленное введение у нас конституции было бы вредно. К кому перешла бы тогда у нас власть? Без сомнения, к тем, кто владеет крестьянами. Захотели бы они отказаться от права владения? Это было бы для них невозможно. Защитников иметь будет рабство всегда, пока оно выгодно, прибыльно тем, кто сам не разделяет печальной участи рабства. Надо помнить, что роскошь и расточительность увеличились и требуют всё новых издержек. Напротив, получив по конституции власть, они увековечат состояние рабства, которое выгодно им. Всё в России должно быть сделано правительством. В первое пятилетие необходимо составить кодекс законов, упорядочить финансы и провести реформу администрации. Во втором пятилетии необходимо ввести в действие эти законы и проверить на опыте. В третьем пятилетии необходимо создать правительство пэров из тех, кто добровольно освободит своих крестьян. В четвёртом пятилетии станет возможным отменить рабство объединёнными усилиями правительства и таких пэров. В пятом пятилетии станет возможным ввести народное представительство, при котором самодержавная власть ограничится, но не так, как в Англии и во Франции: у нас самодержавная власть всегда будет и должна быть сильнее.
Тургенев, должно быть, издавна готовил себя к этому первому пятилетию, может быть, даже и в пэры, и со всей своей упорной, неохладевающей страстью занимался политической экономией, намереваясь увлечь и своего молчаливого собеседника:
– Она самая замечательная из наук государственных. Кроме существенных выгод, которые она доставляет, научая не делать вреда, когда устремляешься к пользе, она благотворна в своих действиях на нравственность политическую. Занимающийся политической экономией, рассматривая систему меркантилистов, невольно привыкает ненавидеть всякое насилие, самовольство и в особенности делать людей счастливыми вопреки им самим. Проходя систему физиократов, он приучается любить право, свободу, уважать класс земледельцев, столь достойный уважения сограждан и особенной попечительности правительства, и потом, видя пользу, которую приносит эта, впрочем, неосновательная система, убеждается опытом, что при самых великих заблуждениях действия людей могут быть благодетельны, когда имеют источником желание добра, чистоту намерений и благоволение к ближнему...
Он не смотрел на русскую жизнь с такой мрачностью, политическая экономия была ему отлично известна, однако какое же место мог он занять в обдуманной программе Тургенева? На нём чин губернского секретаря, которому место в переписчиках канцелярских бумаг, а земледельцами он не владел и не мог по этой причине сделаться пэром, если бы пожаловал им доброй волей свободу. Так с чего же ему начинать?
Разочарования преследовали его и в масонстве. Время от времени Тургенев оказывался уж слишком прав: роскошь и расточительство в самом деле проникали повсюду, требуя алчущим всё новых средств на поживу, неминуемо втаптывая в порок.
В ложе «Соединённых друзей» разразился грязный скандал. Один из членов её, актёр французского театра Дальмас, продал масонскую степень за триста рублей человеку, который оказался, естественно, недостоин её. До той поры подобные сделки были в масонстве неслыханны, ныне жажда обогащения выжигала совесть и честь далее в добродетельных братствах, составленных для того, чтобы укреплять свои силы души. В «Соединённых друзьях» приключился раскол. Одни, которые оказались покладистей, остались членами в обесчещенной ложе, другие, которых позор, павший на духовное братство, по-прежнему оскорблял, без промедления вышли, не желая носить несмываемого пятна, пристававшее, натурально, ко всем остававшимся, и объединились в новую ложу, намереваясь свою нравственность блюсти незапятнанной. Он, разумеется, вышел совместно с другими и подписал учредительный акт.
Проведавши об его намерении экзаменоваться на звание доктора, матушка наконец сменила гнев свой на милость. Получив от неё пенсион, переместился он на Екатерининский канал у Харламова мосту в угольный дом Валька. Квартира у него была славная. Вскоре воротился из деревни Степан[83]83
Вскоре воротился из деревни Степан... — т. е. С. Н. Бегичев (см. выше).
[Закрыть], они зажили вместе. Понемногу составился самый тесный кружок самых близких друзей, сердечное братство, без какого жизнь была бы не жизнь. На первом месте стоял, конечно, Степан, а кроме Степана Катенин, Жандр и Чипягов. Они в душе все были поэты, читали обильно, сообщали один другому планы будущих своих сочинений и смотрели на него подобно тому, как он смотрел на себя, хотя у него не составлялось планов обширных, которые мог бы он им сообщить, и пророчили ему великое будущее, которое издавна в душе своей предчувствовал он, но к которому приступить никак не умел. С ними часто проводили вечера тоже славные лица: Всеволожский Никита, Сергей Трубецкой, Семёновские Толстые и лысый капитан Фредерике. Бывало весело, шумно, под перестрелку острот, он истинно счастлив был с ними.
Но что же он был должен начать?
Вдруг составилась помолвка Элизы с Паскевичем, получавшим за ней полторы тысячи душ.
Он был в один миг уничтожен, ни в какой Дерпт не поехал и, к негодованию своему, заболел, а затем, едва поднявшись с одра, пустился в разгульную жизнь, словно бы вымещая вероломной кузине её, как напыщенно он выражался, измену. С его неистощимой весёлостью, с искромётностью его остроумия, с образованностью почти безграничной, со свежим умом он поневоле являлся душой любого беспечного молодого кружка, самолюбие его тем утешалось.