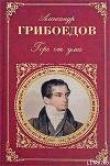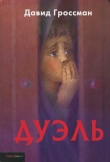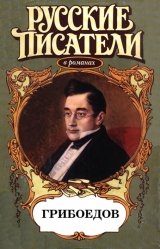
Текст книги "Дуэль четырех. Грибоедов"
Автор книги: Валерий Есенков
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 40 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Эта безнравственная свобода от долга, от обязанностей перед собой и людьми произвела необычайное действие и легко, бесприметно подхватила его. Завсегдатай кресел и театральных кулис, непременный гость маскерадов, он бесновался, веселился напропалую, волочился, кутил и играл, решившись выиграть хотя бы на эту беспутную жизнь, и выигрывал часто, как и должен выигрывать тот, кому в любви не везло, сыпал остротами и бессмысленно прожигал свою жизнь, им же самим предназначенную на что-то высокое.
Предназначенную им же самим, и потому иногда, пробудившись к обеду с больной головой, он вдруг задавался мрачным вопросом о том, для чего он живёт, и неизменно переходил от себя к ещё более горестным размышлениям о смысле всей нашей случайной и хрупкой человеческой жизни.
Натурально, на больную голову размышления бывали слишком бесплодны. Он не сомневался, может быть, только в одном: до двадцати двух годов, пока не определился доброй волей в гусары, он жил исключительно книгами и мыслил, возможно, много и хорошо, да мыслил только из книг, что в жизни военной уж слишком оказалось смешно и делало его ни к чему не пригодным, пока не перешёл он в резервы, где обнаружил без промедления то, чего и в помине не заключалось в самых замечательных книгах, из чего неминуемо выходило, что было бы слишком глупо и далее жить и мыслить из книг.
Но как тогда жить?
И вновь он пускался в беспечный разгул, определившись для успокоения сердечно любящей матушки в Коллегию иностранных дел. Определение состоялось с тем же несносным чином губернского секретаря. Вместе с маленьким Пушкиным и невообразимо смешным Кюхельбекером в придачу, с высокомерно-сухим Горчаковым он расписался под обязательством о неразглашении государственных тайн, введённом указом Екатерины, подумавши вдруг, что, может быть, хотя в этой службе принесёт посильную пользу Отечеству, однако ж польза Отечеству ограничилась тем, что он дежурил раз в месяц в коллегии, толкуя во время дежурства чёрт знает о чём, лишь бы праздное время протекло поскорей и можно было отправляться играть и кутить.
Так что же ему было делать?..
Сашка вдруг встал в дверях, из которых потянуло на него холодком, и укоризненно пробубнил:
– Всё сидите, сидите, пошли бы куда.
Александр с живостью обернулся, довольный, что мрачные размышления о никчёмности жизни вдруг оборвались, испытующе взглядывая в рябое лицо:
– Аль сам со двора захотел?
Сашка самым безразличным тоном ответил:
– Мне-то что, хотя бы и век весь дома сидеть. На вас сердца жалко глядеть.
Внезапно растроганный, он строго прикрикнул:
– Дует, дверь-то прикрой! Да куда же пойти?
Сашка с покорностью небывалой прикрыл дверь за спиной, дёрнув для наглядности ручку несколько раз, и прислонился плечом к косяку:
– К дяде бы, что ль, оне любят вас.
Он внимательно посмотрел:
– Так что ж из того?
– Уважили б, глядишь, старичка, нехорошо родню забывать.
– Точно, Сашка, нехорошо.
– Подать одеваться?
Александр представил, как явится, как увидит Элизу, как услышит пространный рассказ об счастье, которым Ивана-то Фёдорыча[84]84
...Ивана-то Фёдорыча...— т. е. Паскевича (см. выше).
[Закрыть], белозубого генерала, облагодетельствовал вновь государь, поручивши сопровождать великого князя в длительном путешествии по просторам Руси, понурился и проворчал:
– Нет, погоди. Дядя любит племянника, не Александра, то есть, выходит, любит себя. Как войдёшь, тотчас про долги, а я, брат, долгов не люблю.
Сашка рассудительно повертел головой:
– Да об них московские, почитай, не знают никто. Они здесь и до се почти никому не открылись, вот вроде вас да того, ну, этого, знаете сами, смирно живут, так те-то их авось не найдут, об чём разговор.
– Ну, ты знаешь его, он весьма прыток и здесь. То картин заберёт, невозможная дрянь, а надобно перед будущим зятем на всех парусах, то пойдут мебеля из чухонской берёзы, подделанной под красное дерево, то английский ларец ярославской работы. Вексель за векселем так и плывут. Дурак да жулик, славный у нас хоровод.
Сашка с важностью согласился, не отходя от дверей:
– И то, на кухне больно скудно стало у них.
– Из оброчных едва сводят концы, а тут приданое выложи, эка загнул старичок, пыль-то больно любит пустить.
– Того гляди, разорит деревни вконец, вот вы бы и поговорили им об этих делах, каково мужикам?
Подумав о том, что отныне с Паскевичем дядя не пропадёт, он согласился угрюмо:
– Отчего не сказать.
Сашка оживился, поворотился уйти:
– И то, я приготовил сертук, вычистил славно, как новый совсем.
Александр покачал головой:
– Только без толку всё. Прошлый раз говорил, что у плотника Фомки сын в рекруты сдан, так Фомке не потянуть. Нет, говорит, мне дела нет, рекрут тот для царя, так чтоб двадцать пять рублёв наготове держал. Откуда же, вопрошаю, Фомка такие деньги возьмёт? А старичок-то в ответ урезонил меня: хоть роди, да подай!
Сашка сделал шаг, протянул руки, укоризненно попенял:
– Ну, вы бы поговорили ещё вдругорядь, может, и польза бы вышла какая, дядя-то ваш тож, поди, человек.
– Дёшевы нынче слова, деньги дороже куда.
– Это что говорить... Тогда б поехали в клоб, тож забава для вас.
– Что ж клуб? Старички соберутся, взовьются об высокой политике трактовать, а сойдутся непременно на том, что нового лучше бы не было ничего, а всё бы оставалось, как при отцах, оно бы спокойней, да и сытнее, что говорить.
– Старички точно, вредное завсегда говорят. Вот вам бы и урезонить, растолковать, что там и как оно должно завертеться по первейшей науке, авось...
– То-то вот и беда, что сами-то они впопыхах за куском да чинком ничему не учились. Что же я тебе за дурак перед ними бисер метать? Как ни бейся, один чёрт ни зги не поймут, пока не помрут, а помирать охота кому?
Сашка присел, покосившись, на краешек стула, руки положил на колени, в глубоком раздумье спросил:
– Тогда разве на бал, дают где-нибудь, балов полно, фрак-то я вычистил тож?
– Эк рассмешил. Что в Петербурге за бал? Военные да чиновные, больше и нет никого. Чиновные, эти сидят по углам, тихо-тихо, как мыши. Военные же приедут, все комнаты обойдут, покрутят усы, благо есть, и тотчас уедут назад, да и как ему оставаться, сам возьми в толк: он ещё дома в три зван, оттого что жених, военные в моде, военные нынче в цене, первейшее дело, у маменек и у дочек, так везде и зовут, куда бы гораздо лучше не ездить совсем, ежели только за тем же, что пройтись да усы покрутить, вот и дядя наш тоже не промах, толк в петличках да в выпушках знает, хоть сам-то не служит давно. А не уедет, положим, более не зван никуда, вовсе дурен лицом, без состояния, корнет либо прапорщик чином, так за крепе усядется будущим старичком, за бостон, потолкует об лошадях, об переменах в форме мундира, заспорит об каждом ходе в игре, точно знаток, заорёт во всю лужёную глотку, привык, подлец, на нижних чинов реветь на плацу, не то так на ухо с соседом пошепчет, добро, что при людях, им ничего. Хозяйка тщится гостей позанять, музыканты битый час по-пустому играют, никто и не встанет: этот, вишь, не танцует, у того колено, кстати, болит, вот беда, старая пуля, француз прострелил, а всё вздор. Наконец иного загоном изловят, насилу упросят, тот выбором удостоит какую-нибудь нарумяненную счастливицу, прокружит по зале её раз-другой – глядь, и устал молодец, уж точно до ужина просидит не вставая. За ужином, сам понимаешь, ни один не устанет: наедятся, напьются да разъедутся спать. Посуди, что за охота ехать на бал?
– Оно, правду сказать, скучновато, балы нынче только в Москве.
Александр хохотнул:
– И в Москве, брат, нынче одним дуракам хорошо, Чаадаев-то прав.
Сашка напряжённо сморгнул, пораздумал, по-птичьи склонивши голову на плечо, уселся вольготней на стуле, живей говоря:
– Вам вон сколько Бог ума дал, что и не знаю. Разве к князю пойти? Князь от нас недалече, совсем за углом.
Александр потянулся, откинулся в кресле и протяжно зевнул:
– К князю бы хорошо[85]85
К князю бы хорошо... – т. е. к А. А. Шаховскому (см. выше).
[Закрыть], да уж больно кричит, мне, брат, нынче не до того.
– Князь оглашённый, это вы правду изволите говорить, а так ничего.
– Нет, брат, не оглашённый. Правду-то если сказать, так комедиант настоящий, доподлинный, только что пустоват, что дело, что не дело, без разбору кричит.
Сашка тряхнул волосами, обстриженными в кружок, решительно возгласил:
– Тогда одно остаётся: ступайте в театр!
Сцепив пальцы рук, Александр подложил их себе под затылок, мечтательно подхватил:
– Эх, Сашка, шельмец, разумная голова, только театр – это жизнь, а всё остальное – пустое, как говорят, вот только если бы так. Да постой! Ты куда?
Сашка отозвался от двери:
– Изволили фрак приказать.
Александр повернул к нему голову, ехидно спросил:
– Тоже вычищен и тоже готов?
У Сашки плутовски блеснули глаза.
– Как же-с, вычищен и готов, иначе нельзя-с, я же вам доложил-с.
Такое признание развеселило его:
– С каких это пор «иначе нельзя»?
Сашка не моргнул глазом, отрапортовал совершенно серьёзно, тоже не был дурак:
– Какой день пошёл.
– Да ну!
– Вот те и ну! Разве заметите вы, точно без глаз.
– Александр восчувствовал себя виноватым, заслыша ноты кровной обиды в дрогнувшем голосе Сашки, но, не желая открывать своих чувств, строгим голосом пошутил:
– Так ты завсегда объявляй, что почищен, а то у тебя на глаз никогда не видать.
– Скажете тоже. Так принести?
– Нет, погоди, на театре нынче дают всё пустое, скука одна. Катенин, выходит, и прав.
Топчась на месте, должно быть не решаясь сызнова сесть, Сашка уверенно подтвердил:
– Истинно строг человек, а уж кричит-то, кричит, князь перед ним что цыплёнок.
– Малые формы, вот, брат, беда.
– Так сами берите перо да пишите, коли беда.
Александр задумчиво переспросил, глядя на потолок:
– Писать? Однако ж об чём?
На этот раз Сашка два шага шагнул, однако ж остановился, держа руки перед собой:
– Ведь же писали. Неделя, не более, глядь – водевиль!
Александр боднул головой:
– Тоже, Сашка, пустое.
Сашка возвысил рассерженный голос:
– Напротив, ужасно даже смешно.
Александр обернулся:
– Да ты знаешь как?
Сашка замялся, опустил виновато глаза:
– Что ж, вы всё бранитесь, а придётся правду сказать, мы, бывает, тоже бываем в райке-с.
Давно зная об этих сидениях в райке, Александр только спросил, по возможности строго:
– Стало быть, точно: смешно?
– Сашка оживился, придвинулся ближе:
– Истинный крест! И дядя ваш вылитый, совершенный портрет, этот, как он, Звездов!
Александр поневоле припомнил Мольера и, ласково улыбаясь своей нежданной кухарке, серьёзно спросил:
– Ну, хорошо, коль смешно, да вопрос вот, об чём же нынче писать?
Сашка зыркнул глазами, снова присел, точно забывшись, поближе к нему, театрально двинул рукой, указывая на стол и диван:
– Да пооглядитесь-ка вы: одне комедии жа кругом, пиши да пиши, у дяди нынче завёлся генерал, зубы всё скалит, улыбается вроде, от смеху все лопнут, как есть, а вы: что писать?!
Глядя перед собой на бронзовую фигурку, танцевавшую менуэт на каминной доске, Александр задумчиво возразил:
– Это и пуще беда: комедий истинно много повсюду, да чтоб на бумагу вылилось истинно смешно да умно, это надобно ой как уметь, а я, мне сдаётся, так не умею, так что ты генерала в покое оставь, тебе говорю, людоед.
Сашка не обиделся на людоеда, к прозвищам разным привык, зато рассердился на его уверения:
– Это вам-то да не уметь?
Александр тоже вдруг рассердился:
– Вестимо, что мне. Стало быть, поди, не мешай!
Сашка недовольно поднялся, нехотя проворчал:
– Так что же подать: сертук или фрак?
Александр поприкрикнул:
– Ступай, франт-собака, тебе говорю!
А ведь многие, многие точно так полагают: к столу присядь да валяй! Впрочем, бывают, точно, иные: век целый сбирается мир удивить, то есть сбирается засесть да писать, да сборами жизнь свою и кончает, на потеху близких друзей, то есть наших заклятых врагов. Вот генерал скалит зубы, Сашка прав, этот шибко хорош, этого надо бы взять, сейчас под перо, сукин сын.
А надобно как?
А надобно так: вздумал и – написал!
Так он и жил до сих пор, то есть жил, как хотел, свободно и свободно, сперва много учился, завлечённый науками до того, что, кроме наук, и знать ничего не желал, потом Отечеству службу служил, то есть честно, не имея, к несчастью, столько здоровья и столько удачи, чтобы прямо попасть под огонь неприятеля и геройством заслужить в генералы, не то, что иные, улыбкой да дружеством с высокими лицами, эк привязался, чёрт с ним, потом дурачился, кутил да шутил, да дошутился вдруг до позора, до злого укора себе.
Едва увидел я сей свет,
Уже зубами смерть скрежещет,
Как молнией, косою блещет
И дни мои, как злак, сечёт.
Ничто от роковых когтей,
Никая тварь не убегает,
Монарх и узник – снедь червей,
Гробницы злость стихий снедает...[86]86
Едва увидел я сей свет... – Г. Р. Державин «На смерть князя Мещёрского» (1779).
[Закрыть]
А всё отчего? Может быть, оттого, что на свободу его не смел покуситься никто, даже матушка достолюбезная, самовластительница, весь дом в ежовых руках, да в каких! не всякий мужчина сравняется с её-то крутым беззастенчивым нравом, а и та перед ним пасовала: у него всегда доставало ума без шума и крика поставить всё на своём, учился на трёх факультетах, когда бы ей предовольно было и одного, лишь бы скорее в службе служить впопыхах да звёзды хватать и чины, как хватают кругом, родня и приятели дома, в гусары определился, как ни хитрила и ни падала в ужасе в обморок, дамский извечный приём, уж тогда это знал, не собьёшь.
И самого главного, точно, не ведал:
Зияет время славу стреть:
Как в море льются быстры воды,
Так в вечность льются дни и годы,
Глотает царства алчна смерть.
Скользим мы бездны на краю,
В которую стремглав свалимся,
Приемлем с жизнью смерть свою,
На то, чтоб умереть, родимся.
Без жалости всё смерть разит:
И звёзды ею сокрушатся,
И солнцы ею потушатся,
И всем мирам она грозит.
Не мнит лишь смертный умирать
И быть себя он вечным чает...
Нет, свободой своей поступаться он был не намерен, однако ж время дурачеств и шутовства безвозвратно прошло, нынче он это знал, жаль, что после того, как случилась беда, нынче бесчестно было не знать, Каверин бесился у всех на глазах, второго такого не надо, прав Гаврила Романыч в прекрасных стихах.
Но что ж ему делать теперь? Что начинать?
Голова растрещалась от неотвязных запросов вперемежку с грозными словесами Державина. Что в самом деле! Он оделся и вышел, отметив, что сюртук в самом деле вычищен без прикрас, словно готовился не на прогулку, на торжество.
Время было обедать. Александр отправился к Демуту, спросил, не остановился ли как раз Чаадаев, сказали, что нет, он отобедал, склоняя старательно голову, чтобы никому не попасть на глаза, и побрёл неспешно к себе, лишь бы воздухом подышать, наскучал в духоте.
Морозец выдался слабый, безветренно, валил крупный, пушистый, медлительный снег, ложась толстым слоем на воротник и на шляпу, превращая шляпу в сугроб.
Залюбовавшись тихим великолепным заснеженным городом, он поворотил, не поостерёгшись, не там, где хотел.
Чуть не в грудь налетел на него Шаховской, в радости закричал, затискал руку, в глаза заглянул:
– Что долго не были, бесценный Грибоедов? Это как же прикажете вас понимать?
Шапка князя сплошь была белой, с макушкой из снегу, и так захотелось вдруг дунуть и ветром смести этот снег, да было нельзя, хоть князь и друг, а понять не поймёт, и Александр отозвался сердито:
– Да вы бы зашли, я вас ждал.
Князь заулыбался и заспешил:
– И хотел, и хотел, и всенепременно, да всё недосуг!
Уже угадав, что приключилось до него важнейшее дело, отложить в долгий ящик нельзя, Александр саркастически оборвал:
– А к себе зазывать отыскались как раз и досуги?
Князь посмутился, улыбаясь при этом всё шире, невпопад ответил чьим-то стихом:
– Мы ждём да ждём, а вас всё нет!
Всё больше сердясь, Александр невольно пристроил свои:
– Погода, слякоть и хандра.
Стрельнувши глазами, князь подхватил, шельма, сатир, сукин сын:
– Вот то-то и беда!
Ему стало смешно, но он и виду не подал, а только продолжил, будто бы невпопад, ожидая, найдётся ли князь:
– Из дому носа не кажу.
Князь поднял брови, замешкался, но всего лишь на миг, и выпалил, скаля мелкие, негенеральские зубы:
– Пишите, вот что вам скажу!
Этак они развлекались частенько, и Александр без усилия присочинил:
– Ведь я пишу от скуки, иногда, а скука, право, не хандра.
Прикусив губы, князь потоптался и, вдруг захлебнувшись, не совсем гладко сказал, обминая большими сапогами слепительно чистый, нетронутый снег:
– Жаль, всем, всем нам очень жаль, что вашим пером водить изволит только скука.
Совершенно войдя в роль шута, Александр непринуждённо и тотчас ответил:
– Что делать, вдохновенья нет.
Князь попригнулся, натужился, точно прыгнуть хотел, но сдаваться, каналья, не захотел, уже к стыду своему заплетаясь:
– Всегда имеет быть оно, коли в наличности талант.
Александр укоризненно покачал головой и тут же вставил своё:
– Я вам завидую: оно всегда к услугам вашим.
Князь потупился, притопнул гневливо ногой и вдруг рассмеялся:
– Стыдитесь, грех хандрить! Ведь это вы, никто иной, ввели у нас, на русской сцене, комедию изящную и лёгкую, как пух.
Александр поднял руку, примирительно улыбаясь:
– Довольно, князь, вы проиграли.
Князь схватил его за плечи, жалобно попросил:
– Пожалста, Александр Сергеич, дорогой, молю вас, потешьте старика, продолжимте немного.
Тогда Александр решился его побесить и сказал:
– Я устал.
Князь руками всплеснул:
– Полноте, голубчик, такой вы молодой, хотите, на коленках стану вас молить?
Князь в самом деле мог бухнуть перед ним на колени, был на чудачества страшный мастак, увлекался, себя забывал, и Александр продолжал:
– Вот то-то и оно, что слишком уж легка!
Князь просветлел, засиял и с живостью подхватил:
– Интрига, неожиданность, забава!
Александр лукаво прищурился:
– Не век же забавлять.
Тут князь внушительно палец воздел, длинный, тонкий, кривой:
– Зато стихи, отличные стихи!
Александр отпарировал колко:
– Да вот Загоскин говорит: против поэзии есть страшные промашки.
Князь так и посыпал, ухватив свой истинный тон:
– Помилуйте: ирония, острота, афоризм!
Александр согласиться и с этим не смог:
– Пустейшая острота.
У князя искрились глаза:
– Характер, психология, рисовка!
Скрестив руки, Александр от души забавлялся, забавляя его:
– Шутов не стоит рисовать.
Князь, может быть, уловил на его прозвище грубый намёк, ему данное смешливыми арзамасцами, и с хитрой усмешкой вывернул вдруг:
– А коли в ноги поклонюсь да попрошу?
Так и было, понадобилось что-то от него, и Александр рассердился, всё-таки продолжая шутовскую игру с шутовским:
– Уж лучше не просить.
Князь ссутулился, сунул руку за пазуху и не без робости протянул:
– Комедийна тут есть.
Александр с укоризной спросил:
– Опять за перевод?
Князь обречённо вздохнул и потупился:
– С французского, известно.
Александр так и оскалился сам, точно тот генерал:
– На нижегородский, должно быть?
Князь всё держал руку за пазухой:
– «Притворная неверность».
Александр отрезал, делая вид, что уходит:
– Вот, вот, я тоже изменил.
Князь извлёк брошюрку в линялой жёлтой обложке и двумя руками держал перед ним:
– Да полно вам острить! Я умоляю вас!
Александр брезгливо взглянул на брошюрку:
– Меня вы не молите!
Князь вспыхнул и почти закричал:
– Я перед вами на колени упаду!
Александр поморщился, ткнул пальцем в растоптанный снег тротуара:
– Здесь сыро, мерзко, грязь.
С умоляющим выражением на толстом лице князь сделал вид, что падает на колени, актёр – актёр он и есть:
– Да я!
Александр даже поверил в первый момент, как не шут, и прихватил его за рукав:
– Помилуйте, куда вы?
Князь засмеялся визгливо и мелко, ловко всунул ему брошюрку за отворот:
– Тогда возьмите, вот!
И с этим убежал.
Раздевшись в сенях, пройдя тотчас к себе, вытянув ноги к камину, Александр лениво перелистал: в самом деле, тот самый жанр, непринуждённый и лёгкий, то есть бессмысленный, как в «Молодых супругах» так счастливо был начат им, чуть попространней, три хорошие женские роли, три нескучных мужских, повести интригу сложней, однако действие должно стремительно пойти, неплохо уж и это.
Скверно, однако, ж одно: комедия была тоже в стихах.
Театр и должен быть непременно в стихах: возвышенно и звучно – да настроение как раз не для стихов, хоть только что шутил стихами с Шутовским, пристала ж кличка, правду надобно сказать.
Но интрига обещала занимательность и весёлость. Молодые люди должны были быть характерами очень не схожи. Один обладает спокойными, ровными чувствами, сильным умом, другой поспешен и вспыльчив во всём, вечно заносится мыслями Бог весть куда. Они, разумеется, влюблены, да любовь одного так иронична и так ровна, что вовсе не похожа на любовь, другой от беспричинной ревности с утра до вечера взбешён, не разбирает толку и порет такую несносную дичь, что такого рода любовь хоть кому в наказанье, хоть волком вой от неё. Возлюбленные должны были быть кавалерам под стать. Одна, постарше, умней и живей, конечно, вдова, в обиде на мнимую холодность Ленского, вторая наивна и молода, любовь её слишком неопытна, её юной душе недоступна пылкая страсть, и Рославлев вечными нелепыми ссорами ей надоедает вконец. Обе пары славно подходят друг к другу, разделяет их одна внешность – для комических недоразумений и забавных ошибок полнейший простор. У них пятым старый дурак, возомнивший себя Дон Жуаном. Вся интрига плетётся через него. Чего лучше? Влюблённые в финале находят друг друга, а дурак в дураках.
Он попробовал, развлечения ради, диалог двух влюблённых друзей, разом рисуя характеры их и сплетая завязку:
– Ну, нет! любить, как ты, на бешенство похоже.
– А так любить, как ты, и не любовь – всё то же.
– Кто с Лизою твои все ссоры перечтёт?
– Зато с её сестрой ты холоден, как лёд.
Реплики получались короткими, полными смысла, что на подмостках так он слышать любил, разговор скользил естественно и живо, в чём славным учителем был для него Шаховской.
Удача расшевелила его, он стал продолжать без натуги:
Подумай, как вчера ты с нею обходился.
Ты дулся и молчал, бесился и бранился;
Бог знает из чего, кричал, уж так кричал,
Что я со стороны, куда уйти, не знал.
Как Лиза ни добра, ей это надоело,
Она рассорилась с тобою, – и за дело.
В ответ Рославлев был искренне возмущён, не желая никакой вины признавать за собой, ревнив и упрям:
Она же ссорится! и я же виноват!
И мне приятели признаться в том велят!
От этих женщин мы чего не переносим?
А кончится одним: что мы прощенья просим.
Ленский же хладнокровно чудака урезонивал:
При всяком случае готов ты их бранить.
Они несносны? Да? Зачем же их любить?
Нет, право, за тебя становится мне стыдно:
Ты знаешь, что прослыть ревнивым незавидно,
А многие куда как резко говорят
И громко...
В этом месте естественный тон разговора им схвачен был славно, и он понемногу стал увлекаться:
– На мой счёт?
– На твой.
– Я очень рад!
Он вдруг услыхал свои собственные слова, которые ещё так недавно произносил с самым искренним убеждением, однако попали они в уста уже поостывшего человека, каким сам он с грехом пополам становился теперь:
Вам кажется, что я брюзглив и своенравен,
И нежностью смешон, и ровностью забавен,
А в свете толковать о странностях других
Везде охотники.
Да, в самом деле, два года назад он был если не тот же влюблённый дурак, то изрядно похож, и вдруг этот вымышленный Рославлев, такой же пылкий болван, каким он был сдуру тогда, к тому же выглянувший на свет Божий из французской брошюрки, заторопился его нынешним холодным язвительным тоном:
Кто говорит об них?
Прелестницы, с толпой вздыхателей послушных,
И общество мужей, к измене равнодушных,
И те любовники, которых нынче тьма:
Без правил, без стыда, без чувств и без ума,
И в дружбе, и в любви равно непостоянны.
Вот люди!.. И для них мои поступки странны,
Я не похож на них, так чуден всем кажусь.
Да, я пустых людей насмешками горжусь,
А ты б, я чай, хотел, чтоб им я был угодным,
Чтоб также следовал сужденьям новомодным
И переделался на их же образец,
Или на твой, – ведь ты такой же наконец!
Эта путаница собственных мыслей и посторонних, чуждых ему настроений начинала его забавлять, и умный Ленский рассудительно отвечал, только что не святым находя легкомысленный пол, каким и он находил его едва не вчера, да нынче пылая противоположным огнём:
Ты хочешь, чтоб и я на женщин воружился.
Однако ж я пока на это не решился,
Мне с ними весело, им весело со мной.
А сверх того ещё, вот веры я какой,
Что в добродетелях нам должно брать уроки
У них. – Мы сами же заводим их в пороки.
Немножко ветрены, неверны иногда, —
Ну что ж?
– Как иногда! – Всегда, сударь, всегда!
Он приостановился в раздумье. Позволительно ли в комедии изображать свои пережитые чувства и в карикатуре малевать свой портрет?
Что касается до собственных чувств, то, кажется, без собственных чувств обойтись бы было нельзя: ещё незажившие, свежие, причиняя неодолимую боль, они придавали комедии натуральность, живость и блеск, какие из пальца не высосешь, не сочинишь, однако же малевать свой портрет было бы глупо и слишком смешно. Пусть золотая посредственность подобными малоприличными штучками забавляет себя. Разве Гамлет, принц и студент, походил на Шекспира, который, предание говорит, был сын ремесленника и не учился нигде?
У него поневоле сложилось удачно. Свои мысли и чувства он отдавал тому и другому, но ни в том, ни в другом его невозможно было признать.
Он усмехнулся сквозь зубы над авторской своей щепетильностью, тоже поэт, куплетист, водевилей сапожник, и продолжал, но весело, легко и свободно.
Вновь в Рославлеве разбушевалась вчерашняя ревность, такая знакомая, такая отвратительная для него самого, и гнев его обрушился отчасти на банально рассуждавшего друга, однако ж куда более на Блестова, вечного франта в летах преклонных, волокиты хвастливого, круглого дурака:
Пустая голова! Что шаг, то принужденье!
А здесь, у двух сестриц, об нём иное мненье.
Вчера же с ними он весь вечер проболтал:
Ты видел... Я сперва совсем не ревновал,
Да Блестовым они так долго занимались,
Что нас забыли. – С ним всё время просмеялись.
Умный Ленский был снисходительней, характер Блестова видел насквозь, а всё одно смешно заблуждался, не в силах представить вертлявого хитроумия этих фурий крикливого пола:
Они смеялися и слушали его.
Не равнодушно же смотреть им на того,
Кто в обществах всегда всех женщин забавляет.
И как ты думать мог, что он их завлекает?
Кто ж Блестов? Старый франт!
Он слишком в сорок лет
Везде волочится, прельщает целый свет,
Острится надо всем, а сам всего смешнее,
Не вовсе без ума, и оттого глупее,
Охотно в дураки отца бы посвятил,
Лишь бы с улыбкою сказали: как он мил!
Рославлева мысль о такого фасона сопернике приводила в остервененье, никак не менее, чем самого Александра приводила в остервененье одна мысль об улыбчивом генерале:
И несмотря на то, как это мне ни больно,
Я бьюся об заклад, что женщин есть довольно,
Кому он нравится.
Ах, они оба судили неверно, и это-то было особенно хорошо для него:
– Конечно, для иных
Не без достоинства такой, как он, жених:
Богат и всем родня.
– Ну, так они и правы!
Вскоре и сам старый франт осчастливливал сцену и в глупейшем самодовольстве хвалился сам перед собой:
Шути, мой друг, острись! – Я, в очередь мою,
Для шутки у тебя дорогу перебью,
Да и Рославлев твой порядочной ценою
За неучтивости поплатится со мною,
И дельно. – В дураки попасть им легче всех:
Один всё хмурится, другому же всё смех.
Нет! женщин надо знать, – так знать, как я их знаю.
Однако ж я и сам неловко поступаю:
К обеим вдруг сёстрам я письма написал,
К обеим об любви! – Ну, как в беду попал!
Да что? – Развязка тут не самая плохая,
Что от одной отказ, – не так, так всё другая.
Вот дурно, ежели они одна другой
Хвалиться вздумают короткостью со мной?
Да нет! не может быть: они не разболтают,
В любви и женщины, что надобно, скрывают.
А вот они идут! – Однако ж не могу
С обеими быть вместе, – убегу!
Ну, этот был уже совсем дурак, не проникая в характер замысловатого пола нисколько, и Александр над ним поиздевался вовсю.
Такая работа отвлекала от мрачных его размышлений, не требуя много ума и таланта, а больше сноровку да дерзость руки, но всё же заняв его праздную мысль и тем избавляя его от тоски, и он почти на неделю уединился за ней. Однако, должно быть, чувства и мысли двух закадычных, но слишком бранчливых друзей чересчур близки и досадны пришлись для него, по свежим воспоминаньям, по горестным его заблужденьям, по оскорблённому тяжело самолюбию, и работа, которая поначалу представлялась такой забавной и лёгкой, мало-помалу надоела совсем.
Он покинул вздорный свой водевиль и со злостью погрузился в хандру.
Шаховской к нему забежал, расспросил, разузнал, почитал рукопись первых явлений, хватая с жадностью со стола уже припорошённые пылью листы, очень хвалил и лёгкость и плавность стиха, уверяя, что комедийка славная и поимеет шумный успех.
Александр нехотя возразил, не взглянув на порозовевшего князя, что кончить времени нет, что на днях, может быть, уедет надолго, так, по нужнейшим делам.
Шаховской всполошился:
– Куда?!
– Должно быть, в Нарву, не знаю.
– Какие у вас в этой Нарве дела?
– В самом деле, какие дела.
– Так я вам скажу: Элидину, честное слово, ваша Семёнова станет играть.
– Вижу, вы времени даром не потеряли.
– Так поспешите и вы. Нарва вам что? Нарва, я вам говорю, ничего!
– Охота, простите, пропала к стихам.
– Это дело! Однако ж почто унывать? Погодите денёк: охота, что женщина, снова завтра придёт!
И тотчас исчез, как умел исчезать, точно являлся во сне, а назавтра в обед заехала на минутку Семёнова, в шубке собольей, с многоярусным жемчугом, с бриллиантами на всех пухловатых перстах, на иных далее два, румяная и такая красивая, что и поверить было нельзя, а приехала, вишь ты, благодарить за весёлую пьеску на её бенефис, с актёрской милой притворностью умоляя, кокетливо прищурив глаза, чтобы он не откладывал исполнения до своего отъезда в эту глупую Нарву, если уж так надобно ехать, сударь, да без этой пиесы какой же, помилуйте, ей бенефис?
Он принуждён был ей обещать, вновь погрузился в свои размышления о бесплодности жизни и несколько вскользь об этих странных героях, непременно и одинаково обманутых женщиной, несмотря на прямую несхожесть характера и ума, но упрямая рука не хотела писать: всё пустое, мой друг, для чего?
Днём он бродил по заснеженным улицам, выбирая безлюдные, не выходя на Невский проспект, где всегда знакомых полно, любопытство и праздность, а вечерами удобно сидел у камина, вытянув зябкие ноги к огню, лениво полистывая давно знакомого ему Монтескье, который в среде его военных приятелей вдруг сделался в уважительной моде, вроде Талмуда для мусульман, философ истории, пророк политический, наставник реформ, надеясь проникнуть в их внезапно воспламенившийся жар: