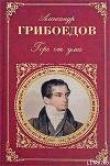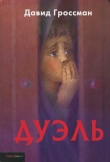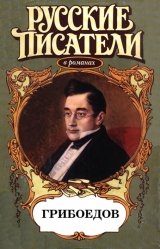
Текст книги "Дуэль четырех. Грибоедов"
Автор книги: Валерий Есенков
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 40 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
«Одна из причин процветания Рима состояла в том, что все его цари были великими людьми. Мы не имеем в истории другого примера подобной непрерывной последовательности таких выдающихся людей и полководцев...»
Несколько времени размышлял он над этим ужасным везеньем для римлян. Истина представлялась ему несомненной: цари там царями, деспотизм неизбежный, конституции обеспечивают свободу всем гражданам без изъятия или хотя бы гласный суд и присутствие твоего адвоката, однако ж и при нынешних конституциях европейских и при древних царях процветание общества не может обеспечить посредственность, какой бы добродетельной она ни была, хотя бы хмельного в рот не брала и все свои ночи посвящала только законной жене, о недобродетельной посредственности, что ж говорить, дрянь и несчастье для граждан. В головёнке посредственности обитают лишь мелкие и ближайшие мысли, то есть мыслишки, по правде сказать, ибо все заботы посредственности: что нынче? что завтра? в лучшем случае, что послезавтра? Следить ход всемирной истории посредственности, что пробравшейся вверх, что имеющей прозябанье внизу, не дано, как не дано предвидеть следствия дальних причин, ни назад, в глубины и дебри веков, ни, по этой причине, вперёд, к неизвестным потомкам. Да и что там предки, потомки, посредственность извечно сводит всё на себя, свои обиды, свои неудачи, свои доходы и слава своя ей непременно дороже общего блага. В жарких схватках эпох одни великие позабывают себя. В этих мучительных схватках одной добродетелью, одними благородными мыслями не прозябнешь, в рост не пойдёшь. Для величия ещё надобны силы духа несметные и холодная трезвость ума, Каверин-то прав, пьяница и буян, бесцельный студент Гёттингена. И потому остаётся, пожалуй, открытым важный вопрос: при царях или при конституциях общество чаще видит у кормила правления великих людей?
А кого он всякий день имел удовольствие видеть кругом? Где наши герои гражданские? Где наши великие не на поле сражения? Наши вожди?
Мелкость духа и нетрезвость мысли во всех. Разница, если подумать, уж слишком не велика. Мелкие слишком жадны, слишком порочны при этом, воруют да лгут без конца, немногие благородны и честны, да будущность России и мира прозревают не далее вытянутой руки, как прошедшее зреют не далее Очаковской битвы.
Какой путь ни возьми, посредственность тут как тут, уже заняла все места, запрудила теченье общественных рек, своим невеликим умом губя всякое славное дело.
Боже мой, что же у нас впереди?
Где же прозябнуть? Пойти в рост на поприще каком?
Он читал далее, сосредоточенный, углублённый, забирающий мыслью в дебри веков, пониже склонившись над книгой:
«Строй общества при их возвышении устанавливается главами республик, в дальнейшем, наоборот, строй воспитывает глав республик...»
Стало быть, так...
Всегда ли и все ли республики установились правителем непременно великим?
И непременно ли строй республик воспитывает и выдвигает в правители единственно одних великих людей?
Что-то этого, правду сказать, не видать, в противном случае из какой надобности славным республикам древней Эллады выродиться в порочность и в пошлость непостижимые и столь бесславно и стремительно ослабеть, сделавшись лёгкой добычей великих и даже маловеликих завоевателей?
Иное дело, должно быть, начало: у эллинов положили начало Ликург и Солон[87]87
Ликург и Солон. – Ликург (IX-VIII в. до н. э.) – легендарный спартанский законодатель. Солон (между 640 и 635 – ок. 559 до н. э.) – провёл в Афинах реформы, способствующие ускорению ликвидации пережитков родового строя.
[Закрыть]. Что бы эллины были без них?
Теперь ещё трудно сказать, сколь великими были Мирабо и Дантон[88]88
Мирабо и Дантон. – Мирабо Оноре Габриель (1749-1791) и Дантон Жорж Жак (1759-1794) – деятели Великой французской революции.
[Закрыть], впрочем, взятки исправно брали и тот и другой.
Бонапарт был точно велик, однако ж республика трудами его упразднилась...
А Северо-Американские Соединённые Штаты?..
Впрочем, чёрт с ними, у нас-то кругом золотая посредственность, когда бы только не хуже...
Извольте существовать посреди всякого сброда и не опуститься до него самому...
Ход его мыслей внезапно прерван был Жандром.
Александр взглянул на часы и удивлённо спросил:
– Помилуй, откуда об этом часу?
Жандр расслабленно опустился в кресло, стоявшее боком к огню, и устало проговорил:
– Нынче вторник, ты что, позабыл?
Он заливисто засмеялся:
– Ах, вот оно что, в который раз от Шишкова.
Жандр с трудом улыбнулся в ответ:
– Опять тебя звал. Говорит, отчего не идёт? Уверяет, что ты ему нравишься очень, умом, говорит, и чем-то ещё, не разобрал, мудрено, этакое словечко такое, и что страшно нужен зачем-то, должно быть, тоже читать, слушаешь, говорит, хорошо.
Он поднялся, чтобы размять подзатёкшие ноги:
– Болен для него, так ему и скажи, у меня голова от его Тасса[89]89
Тассо (Тасс) Торквато (1544-1595) – итальянский поэт.
[Закрыть] трещит, которого он затеялся переводить своей прозой скрипучей, как немазаный воз, об этом, впрочем, не говори. Лучше-ка растолкуй, ты там зачем?
Жандр вытянул ноги, блаженно прижмурил глаза:
– Хотел почитать из «Семелы»[90]90
Хотел почитать из «Семелы» – А. А. Жандр переложил вольными стихами прозаический перевод «Семелы» Ф. Шиллера, сделанный Грибоедовым.
[Закрыть], да ты всегда прав: мочи нет, у него все с застылыми лицами почитают долгом своим выслушивать этого самого Тасса. Признаюсь, я едва не заснул, уже задремал, голова упала на грудь, к тебе бодрствовать спасся едва, так уваляла беспримерная проза.
Оплывшие свечи почти догорели, он только приметил, отворил дверь кликнуть Сашку, да стало жаль, и без того Жандр разбудил открывать, пусть людоед, франт-собака поспит, и сказал от дверей:
– Вот видишь, русский язык для звучной прозы пока не готов, как давно готов для стихов, в особенности после трудов Гаврилы Романыча. Я тут упивался им без тебя, вот послушай, каков богатырь:
Увы! где меньше страха нам,
Там может смерть постичь скорее;
Её и громы не быстрее
Слетают к горным вышинам.
Сын роскоши, прохлад и нег,
Куда, Мещёрский! ты сокрылся?
Оставил ты сей жизни брег,
К брегам ты мёртвых удалился;
Здесь персть твоя, а духа нет.
Где ж он? – Он там. – Где там? – Не знаем.
Мы только плачем и взываем:
«О, горе нам, рождённым в свет!»
Он вдруг задрожал, отскочил от прикрытых дверей, скороговоркой пробормотал:
– Нынче даже посредственность печёт водевили такими стихами, что сам Шаховской, того гляди, проглотит перо.
Жандр пристально поглядел:
– Что с тобой, Александр?
Он смутился, тотчас поворотился к окну, где лежали свежие свечи, недовольно бросил через плечо:
– Нет, ничего.
Жандр заворочался в кресле у него за спиной:
– Верно, мне показалось...
Взявши с подоконника свечи, он подтвердил торопясь:
– Показалось, мы говорим об стихах.
Жандр всё глядел со вниманием, добрый друг, перебирал пальцами поручень кресла, задумчиво говорил:
– Правда твоя, нынче стихами, сравнения нет, как легче писать.
Стараясь выглядеть бодрым, вставляя свечи одну за другой в заплывшие гнезда шандалов, Александр поспешил перевести разговор:
– Так ты, говоришь, таки кончил «Семелу»?
Жандр просиял, тотчас об нём позабыв:
– Нынче утром, до службы, вылились последние строки, славно легли.
Он поворотился спиной, оправляя с тихим треском обгоравшие фитили:
– Поздравляю, душа моя, от души, а Семёнова скажет тебе благодарность. Впрочем, я так благодарен вдвойне: благодаря твоей охоте к трудам у нас теперь Шиллер на сцене, тож богатырь, и ты, я уверен, сделал из перевода славную вещь. Истинно твоё дело, мой милый. Да что, мне пригрезилось, Семёнова вновь не брюхата?
Жандр не задержался ни на минуту:
– Кажется, нет, а ты, верно, в пылкости своей позабыл, что сам же и перевёл слово в слово, а я, по незнанию языка, всего лишь твой перевод обделал стихами. Стало быть, это я от души благодарен тебе за твою охоту к трудам, затем и пришёл.
Он пооттаял душой, а всё ещё прятал лицо, опасаясь, как бы Жандр, добрейший и верный, на лице его чего лишнего не разобрал, выбранил себя, что так беспечно на ночь глядя припомнил мрачные вирши Державина, было позабыв про глаза Шереметева, выступившие из тьмы забытья, и принялся беспечно ему возражать:
– Э, душа моя, выставлять изволишь сущие вздоры. От этой прозы моей можно уснуть, как всякий вторник правоверные спят у Шишкова. То ли дело стихи! На стихи ты славный мастер у нас, Шаховского не ниже. Послушай совет: надобно «Семелу» поживее в печатный станок, в назиданье иным стихоплётам, пусть-ка, сердечные, твоим примером живут.
Жандр подхватил:
– А как же! Я в «Сына Отечества» сосватал две сцены!
Он наконец решился прямо глядеть на сердечного друга, поражённый прытью стихами писать, а сцены печатать вдвойне:
– Отчего только две?
Жандр поднял на него вопрошающие глаза:
– И те, Греч сказал, не возьмёт, когда ты не предуведомишь оные хотя бы строкой.
Он от всей души подивился:
– Помилуй: что я? Отчего?
Жандр с обыкновенной серьёзностью своей разъяснил:
– Ты нынче у нас знаменит хоть куда, Греч об твоей славе толкует без умолку.
Он пригляделся, не шутит ли друг, хотя знал преотлично, что милый Жандр шутить не мастак, на всякий случай решил превратить эту мистику в шутку:
– Вот те на! Чем же я знаменит? Просвети дурака.
Жандр засветился, его успехам рад от души, горд, что таким человеком выбран в друзья:
– Да всё твоим ответом Загоскину! Мочи нет, говорит, до чего хорошо!
Он, успокоившись, что всё вздор и не слышно подвоха, сел наконец рядом с ним:
– Помилуй, разве всё ещё помнят, что этот самодовольный болван, какого я, кажется, в жизнь мою не видал, намарал на меня ахинею?
Жандр улыбнулся понимающе, сдержанно, не показавши зубов:
– Бог с тобой, Александр, ахинею Загоскина позабыли давно, да твой ответ до сей поры у всех на руках и в устах, славный выстрел, все говорят.
Он поморщился:
– Пожалуй, успех в публике потешил бы моё самолюбие, когда публика не была бы у нас препошлая дура. Тебе признаюсь, если хочешь, мне непростительно было в тот день оскорбляться, и я сперва, как прочёл, рассмеялся, но после чем больше думал, сидя ввечеру у камина, тем более злился, себя не смирил, оттого, может быть, что был в тот хмурый вечер один.
Жандр не слушал, Жандр всё оправдывал и всё одобрял:
– Так и должно, без праведной злости этакий славный выстрел не сделать, отойдёт от души, да и баста, а праведной злости долго не вытерпишь, пройдёт без следа, ты слишком отходчив у нас.
Александр насупился, не расположенный толковать о себе, и нехотя продолжал, чтобы с этим покончить скорей:
– Я, точно, не вытерпел, написал сам фассесию и сам же пустил по рукам.
Жандр потёр от удовольствия руки, которые тоже к этому делу прикладывал, имея страсть к переписке:
– Ай да случай, выходит, Шаховской и не прав, кругом уверяя зевак, что пером твоим способна водить одна скука, – прибавляя со вздохом, – заметь, что ему будто бы до крайности жаль, что ты счастливо живёшь и что ты, право, рождён на великое.
Что было делать? Он напустил на себя легкомысленный вид:
– Полно, мой милый, Шаховской истинно прав, то есть что касается скуки, скука привязалась, как прыщ, а мне едва ли стоило отвечать, Загоскин не стоил ответа.
Жандр нравоучительно возразил, в этом наставительном роде афоризмы жестоко любя:
– Дурака не побить – тот наделает бед.
Он согласился, почти равнодушно, вновь на миг завидя глаза, суровый свидетель его легкомыслия:
– Вот видишь, я то же думал тогда, то есть то, что противно здравому смыслу отделываться ненарушимым молчанием, когда жужжит дурачества на тебя глупец-журналист. Тут молчанием ничего не возьмёшь, доказательством Шаховской, который благородное молчание спокон веку хранит, как девица, и по этой причине спокон веку обсыпан пасквилями, один другого глупей и пошлей. Да ты лишний раз подтвердил, что и сам я пошлый дурак. Нынче думаю, что напрасно я отвечал: публике нашей даровая потеха, а дурак один чёрт не поймёт, что дурак. Где же смысл?
Жандр настаивал, возражал, а голос всё ровный, страсти мимо него:
– Авось и поймёт, и Загоскин, сдаётся, не так уж и глуп, да примчал к нам издалека и в глуши своей почти ничему не учился.
Он был доволен, что разговор наконец понемногу от него отошёл:
– Что из того, что из Тмутаракани и дальше азбуки сам не двинулся шагу? Воля его, а без истинных знаний всё одно дурак дураком, даже если от Бога не глуп. У нас же, куда ни взгляни, нынче все на один образец, дурак к дураку, то с ушами ослиными, а то и совсем без ушей. Пяток книг проглядит, глядь, уже составляет рецепты, как бы переменить всё, что ни есть, кто поэзию, кто театр, а кто так и весь порядок вещей, не меньше того, в великие люди ать-два, чёрт побери! У нас таких дураков, как солдат, против них не обойдёшься пасквилями, Греч обнадёжился слишком.
Жандр отозвался миролюбиво:
– Полно злиться тебе. Уж то хорошо, что ты напишешь «Сыну отечества», и мы пустим Шиллера в пример дуракам.
Писать была лень, и он разыграл удивление:
– Что за притча, мой милый? Греч же всех принимает к себе без изъятия, и званых, и ещё пуще незваных, отчего заупрямился вдруг?
Жандр согласился:
– Конечно, блажит, да, скажи, когда Греч не блажил? Напиши ему, когда просит, порадуй его и меня.
Пришлось покориться, хоть вставать не хотел, он небрежно сказал:
– Изволь, напишу, подай-ка перо.
Жандр вскочил, тотчас подал перо, бумагу и доску, замену крышки стола, и он стал тотчас писать и читать:
– Вот послушай, дельно ли так: «Вы знаете прекрасно сцены Шиллеровой Семелы. По усиленной просьбе моей А. А. Жандр согласился перевести их на русский язык и добавить от себя, чего не достаёт в подлиннике. Вообще он обогатил целое новыми, оригинальными красотами. И в отрывке, который при сем препровождаю, лирическое во втором явлении от слова до слова принадлежит ему. Грибоедов». Точно ли во втором? Второе, надеюсь, Гречу даёшь?
– Точно, его.
– Тогда получи, да расписку оставь.
Просмотрев ещё раз бумагу, удостоверился своими глазами, сложил пополам, Жандр оживился, довольный им и собой:
– Не сыграть ли нам с Гречем ещё одной шутки?
Он притворно зевнул:
– Хорошо бы сыграть, да нет нынче охоты, мой милый, прости.
Сложив бумагу в четвёртую часть, Жандр вложил её аккуратно в карман, не желая помять:
– Благодарствую, Александр.
Он вскинул голову, сверкая очками:
– Что же расписка?
Жандр в ответ принялся серьёзно шутить:
– Как ты нынче сварлив, я и без векселя долги тебе слишком помню.
Ему вдруг пришла в голову блестящая мысль:
– А как помнишь долги, так у меня до тебя тоже нижайшая просьба, а я ещё заслужу.
Жандр поспешно откликнулся, превращаясь весь в слух, всегда готовый без зова, а пуще по зову служить:
– Твою просьбу исполнить истинно рад, говори.
Он живо поднялся, приступил в два шага к столу:
– Я, как ты, впрочем, знаешь, «Притворную неверность» Семёновой наобещал в бенефис и начал было переводить, да смерть как должен отправиться в Нарву петровские ядра смотреть. Так ты возьми все бумаги и далее дуй без меня. Французский для тебя не немецкий, а, разве не так? Сделай милость, как-нибудь дотащи до конца.
Жандр подошёл, через плечо заглянул, высокий, как жердь:
– Дело привычное, в две ли, в три ли руки, только скажи, стихи каковы?
Александр подал небрежно рукопись свою и брошюрку, которой давеча осчастливил его Шаховской, старый шут, внешность сатира, ухватки грабителя, душа хитрейшей лисы, как он съязвил про себя:
– Тем же ямбом, что любишь и ты, оба недаром, хоть порознь, школу Шаховского прошли.
Приняв брошюрку и рукопись с серьёзным лицом, принимаясь тут же читать, Жандр заверил его:
– Будь покоен, переведу.
Александр в самом деле уехал, уповая на Жандра, верного друга, умницу и немного педанта, однако же, возвратясь, увидал, что озабоченный Жандр, слишком старательно принявшись за плёвое дело, обделывая тщательно стих за стихом, перевёл всего две, и те короткие, сценки, двенадцатую и, должно быть роковую, тринадцатую, в которой несчастная Лиза, узнавши притворную новость, будто Рославлев женится на другой, рыдала и в сердцах попрекала сестру:
Как любил! Как думал быть счастливым!
Ну вот! ты Ленского не сделала ревнивым,
А я с Рославлевым лишаюся всего,
Мне даже жаль теперь и ревности его!
Ах! если б слышал он, как я себе пеняю!
Когда бы знал...
Он нисколько не удивился, что Жандр, перениматель отменный, так твёрдо схватил его главную мысль и его манеру стиха, простого, разговорного, лёгкого, как подобает в забавной комедии, и бегло просмотрел остальное. В прежнем тексте обстоятельный Жандр его поспешной нечёткой руки разобрать не сумел и ряд стихов спокойно и свободно переменил на свои, и Александр до того доверял его вкусу и такту и до того не имел авторского самолюбия на подобные пустяки, что, нередко обидчивый крайне, на этот раз нисколько не обиделся на него, лишь тут же уничтожил иные, спокойно и свободно, как Жандр, не совсем подходившие к смыслу, иные оставил, которые показались лучше поспешных своих, и изо всех сил заспешил продолжать, отдохнувши поездкой, благо смешная интрига придвигалась к концу. Рославлев, подслушавши горькие Лизины песни, весь распылавшись заоблачным счастьем любви, с шумом и громом вырывался на сцену, глупец и славный между тем человек:
Я здесь: всё слышал и всё знаю!
Лиза всплёскивала изумлённо руками, женщина, вечно кокетка, чёрт побери:
Рославлев, это вы?
И невинный Рославлев, душою дитя, простофиля, в будущем всенепременно обманутый муж, в ответ с бешеной радостью вопрошал созданье небесное, позабыв целый свет, коварство любви:
Так я ещё любим?
И сказкам обо мне вы верите пустым?
Изворотливость крикливого пола торжествовала вполне, всё разъяснялось к величайшему удовольствию двух пар влюблённых и, он надеялся, зрителей также. Блестов являлся торжествовать победу над ними, ан нет, над ним же смеялись и со смехом объявляли о решённых свадьбах. Ошарашенный Блестов оставался один:
Красавицы мои! Кто растолкует вас?
Да правда, ведь и мы не лучше в добрый час,
Сегодня любим их, а завтра ненавидим.
Дурак, могло показаться, от горя прозрел, как все сочинители и все реформаторы втайне мечтают, однако же Александр глядел на дело прозренья иначе, его Блестов, шут и пошляк, подумал, подумал, да так и остался, как был, под занавес неожиданно объявив:
Как будут замужем они, – тогда увидим!
Не утруждая себя перепиской, лишь поаккуратней сложивши листки довольно тощего своего манускрипта, свернувши их трубкой, надев тёплый плащ, он спустился во двор, петербургский колодец, вонь, теснота и темно, миновал невысокую арку глубоких ворот, прошёл по Малой Подьяческой к дому Клеопина, с удовольствием слушая мерный поскрип сухого, прихваченного вечерним морозцем снежка, и поднялся на самый верх, на так называемый всеми чердак Шаховского, на котором бы поместилась рота солдат.
В полутёмных сенях, где лениво тлела толстая свечка с сильно подрезанным фитилём, служитель князя Макар, маленький, сморщенный, молчаливый, ужасно серьёзный, во всём прямая противоположность хозяина, бойко, не глядя, тыкая длинными спицами, вязал, казалось, всё тот же белый бумажный чулок, который вязал в первый день его появленья из Бреста.
Сбрасывая без его помощи шляпу и плащ, уже заслыша из-за нескольких закрытых дверей сильный глубокий артистический голос, Александр негромко спросил:
– Дома ли, брат?
Отложивши чулок, поднявшись без спешки, с достоинством принявши от гостя одежду, Макар тусклым голосом неохотно ответствовал, словно жалел, что его оторвали от первейшего дела по таким пустякам:
– Как и всегда, театр-то уже отошёл.
В обширной столовой за длинным, обильно накрытым столом в кругу постаревших, давно почти не игравших актрис, разливая им чай, величаво восседала Ежова[91]91
...величаво восседала Ежова... – Екатерина Ивановна Ежова (1788-1836) – драматическая актриса, с 1817 г. гражданская жена А. А. Шаховского.
[Закрыть] с надутым лицом, в громадном пёстром чепце, комическая старуха на сцене, крикливая подруга несчастного Шаховского с каких уже пор, мегера, экономка его, его тяжкий крест, забравшая его в свои жёсткие ручки, исправно сбиравшая все театральные сплетни, несть которым числа, сплетавшая многие интриги всегда беспокойных кулис, в которые торопливый и озадаченный Шаховской бывал поневоле замешан до грязи, скандально вытягивавшая из дарового своего драматурга новых пьес к своим бенефисам, властно оттирая прочих старух.
Александр её не любил, всегда делал вид, что страшно спешит, и отделывался дальним поклоном, однако мегера, тут же приметив его острым глазом голодной орлицы, как он ни приноравливался шмыгнуть стороной, мягко и быстро ступая, сложила по-старушечьи злой плоский рот, изображая приветливую улыбку, и всегдашним голосом, глубоким контральтом, от вечной злости грубым и резким, громогласно спросила:
– Александр Сергеич, не желаете ли с нами чайку?
Её чай ему в горло не шёл, он в другой раз поклонился, на всякий случай пониже, чёрт с ней, отпустила бы подобру, мочи нет:
– Благодарствуйте, Катерина Ивановна, теперь недосуг, разве после когда.
Ежова окинула его сверху вниз, до самых сапог, до подошв, капризно двигая ртом, прямо хищница, волчьей стаи вожак, сейчас загрызёт:
– Но уж опосле князя-то непременно, непременно ко мне.
Он с облегчением пустился тем же путём, уже нарочно стуча каблуками, а ей бросил, скрывая улыбку:
– Всенепременно, а как же ещё!
Раскатывая голос, Ежова вдруг остановила его, точно выстрелила в беззащитную спину, ведьма, напасть хуже цензуры:
– Да постойте, к чему так бежать!
Он оборотился, острым взглядом сверху очков поглядел на неё:
– Простите, что недосуг, я по наинужнейшему делу.
Под его взглядом она отступила, утишила голос:
– Я, чаю, к князю никто без дела не ходит, с какова пошло.
Он саркастически улыбнулся, стоя к ней полубоком:
– Как же иначе? Нынче без князя какой же театр?
Ежова было смешалась, да тут же нашлась, тёртый калач, гладиатор в чепце, ничем не возьмёшь:
– Вот кстати, что-то вас нынче не было видно в театре, и того, и третьего дня, об вас говорят, а кто же ещё у нас после вас театрал?
Он плечами пожал, озлившись уже, сбираясь бежать:
– Всё недосуг.
Да Ежова удержала его:
– Вас не узнать, у вас вечно случались досуги.
Он понял, что она не скоро отпустит его, и сквозь зубы сказал:
– Вот притча, сам даюсь я диву.
Наконец овладев положением, Ежова с торжеством засмеялась, как смеялась на сцене, сухо и зло:
– Ваша притча больно проста: у вас пиеса для бенефиса Семёновой.
Скрестив руки, он ответил остротой:
– Вы наша пифия, так знаете вы всё!
Ежова нахмурилась, приказала:
– Пифия? Извольте мне сказать: что это?
Он язвительно улыбнулся:
– Скорее кто, чем что.
Ежова сверкнула глазами, злюка, однако ж как злюка чрезвычайно была хороша:
– Так кто же?
Он улыбался всё шире, холодно глядя ей прямо в злые глаза, требуя так, чтобы она отпустила его:
– Наш оракул, буквально сказать.
Ежова, видимо, всё поняла, величаво сказала:
– Так пожалуйте к чаю, когда милый князь изволит вас от себя отпустить.
Он сделал лёгкий светский поклон:
– К вам всякий раз пожаловать я рад.
Испустив радостный вздох, давно слыша за дверью громкие голоса, почти бегом вбежал он в большую гостиную.
Свечи пылали. На стульях вдоль стен разместилась толпа. Красивый молодой человек, с тяжёлым подбородком, который первым бросался в глаза, с небольшим, тонким, чуть вздёрнутым носом, с чистым лбом и круто изогнутыми демоническими бровями, очень высокий, с мощной выпуклой грудью, выставив левую ногу вперёд, с верными частыми жестами, сильно приглушённым поставленным голосом странной скороговоркой читал:
Нет, я не изменю намереньям моим,
Не в силах выносить царящего разврата,
От общества людей уйду – и без возврата.
Как!.. Ведь противник мой был всеми осуждён...
Александр приткнулся на стул возле самого входа и с любопытством стал слушать в каждом слове известный ему монолог, над которым размышлял он не раз, а Каратыгин[92]92
Каратыгин Василий Андреевич (1805-1879) – трагический актёр, ученик А. А. Шаховского.
[Закрыть], новый ученик Шаховского, вдруг вскинул тяжёлую голову, сделав зверским молодое лицо, ставшее некрасивым и оскорблённым, вдруг, таким образом передавши праведный гнев, закричал:
Всё, всё против него: честь, правда и закон,
Все правоту мою кругом провозгласили,
И я спокоен был, что правда будет в силе.
И что ж? Негаданно свалился я с небес:
Хоть правда за меня – я проиграл процесс!
В тот же миг Шаховской, огромного роста, с огромной же головой, обрамленной торчащими жидкими космами, вулкан, водопад, бешеный цензор театра, вскочил и запрыгал, несмотря на огромный живот, дёргая в. возмущении нос, который каким-то немыслимым хищным крючком выдавался на заплывшем мясистом лице, и срывающимся тонюсеньким голосишком заверещал:
– Какой чёрт тебя дёрнул, милый дурак? Завыл, зарычал! Тебе на ярманках в балаганах играть! Это же, сукин сын, Молиэр! «Мизантроп»! Чёрт тебя подери! Ты в куриных-то мозгах своих разбери: выводя на сцену своего Мизантропа, Молиэр заставил его резкой своей добродетелью смешить тех, чьи пороки сам с той же глупостью, какой у тебя, погляжу, через край, предавал посмеянию современников и потомков! О чём же ты, миленький дурак, заорал? Ты удивись, точно ты об этих пороках, которые умный человек всё знает по пальцам и во сне перечтёт, точно ты их узнал в первый раз, ты нас насмеши своим искренним удивленьем, ты нас, дураков, убеди, что век смеяться над людскими пороками и в те времена уже было смешно, а ты изобразил из себя доброхотного судию, благо рожа бандита! Экий дурак! Пороки не смехом же, не смехом лечить, эту-то истину предузнал Молиэр, он же умница был, ого-го, тебе не чета, он этаких несносных насмешников громким смехом лечил, оттого, что ведь совершенные дураки, хоть страсть как умны! А ну, дальше давай!
Выслушав все эти взвизги с покорным вниманием, не обижаясь нисколько на каскад дураков, пущенных в адрес его, послушно приглушив блеск в красивых глазах, сделав удивлённым лицо, Каратыгин сочно, с недоумением продолжал:
Подлец, известный всем историей постыдной,
Оправдан в низости преступной, очевидной,
Он, задушив меня, добился своего —
Так ложь над истиной справляет торжество.
Его неискренность и лживая слезливость
Над правом взяли верх, сломили справедливость.
Преступник обелён и заслужил венец!
Но мало этого: на что идёт наглец?
Шаховской взметнулся, вскинул над головой крепко сжатые кулаки и вдруг заплакал нешуточными слезами, которые покатились градом по отвислым щекам, и жалобно застонал:
– Миленький дурачок, ты что же, убить меня хочешь, да, убить старика? Что ты мне разводишь руками, точно невинный младенец? Ты жалости ищешь к себе? Тебе что же, копейку на бедность подать?
Обтёрся огромным платком, скомкал сердито, всунул в карман, выпучил крысиные глазки и яростно затопал большими ступнями, подпрыгивая:
– Смысла у тебя нет, миленький ты дурак, чёрт тебя задери, оберни в рогожку, чтобы мне никогда не видеть тебя, сукин сын, навязался на шею, подлец! В гневе же он, в истинном гневе, ты понимаешь? Да гнев-то его донельзя глуп и смешон, ведь надобно знать наперёд, что в жизни подлец торжествует, на то же он и подлец, не добродетельный человек! Слыхал ты хоть слово, хоть букву о Бомарше? Ты же, милый дурак, круглый, самый круглейший невежа, арбуз! Актёр обязан всё знать! Актёру пристало сделаться мудрецом! Актёру необходимость проникнуть в самую что ни на есть природу вещей! А ты этак-то убиваешь меня! Пожалей старика, умоляю тебя, миленький ты дурачок, чтоб тебя черти с моих глаз унесли! Бомарше, великий комедиант, не ниже самого Молиэра, гражданскому суду взятку давал, а не вопил, что вот, мол, притча какая, вокруг всё подлец подлецом! Это-то хоть понятно тебе? Бомарше был более чем умён в этом случае с гражданским судом, да, заруби себе на носу! Бомарше был умён и практичен, то есть, по-нашему, мудр! Вот это ты мне покажи! Ты проникнись сознанием, что умный от подлеца должен подлости ждать, а не благородных порывов, на то и умён, а умник-то твой, подумай, чего же от подлеца ожидал? А ну, дальше, дальше давай!
Каратыгин без тени обиды сделал холодным лицо и с жаром заговорил:
Книжонку гнусную пускает в обращенье,
Которую нельзя читать без отвращенья.
И всюду клеветы уж поползла змея:
Он измышляет слух, что автор книжки – я!
И, присоединясь к презренному навету,
Кто с ним исподтишка разносит сплетню эту?
Оронт! которого считает честным двор,
Кто может лишь одно поставить мне в укор,
Что правду высказал я об его сонете,
Когда ко мне пришёл молить он о совете.
Так только потому, что я был прям и смел,
Ни правде, ни ему солгать не захотел,
Он отвечает мне такою грязной басней...
За что ж так гневен он и так непримирим?
За то, что я нашёл его сонет плохим.
Все люди, чёрт возьми, так созданы от века:
Тщеславие – рычаг всех действий человека.
Вот вам та доброта, та совесть, правда, честь,
Которая у них в их жалких душах есть!
Довольно! Кончено! Страдать от них нелепо,
Прочь от разбойников, от гнусного вертепа.
Нет! Раз по-волчьи вы живете меж людьми,
Я более не ваш, – довольно, чёрт возьми!
Каратыгин умолк, чуть втянув голову в плечи, а Шаховской, закрыв лицо большими ладонями, обессиленно простонал:
– Миленький дурачок, тебе не комиком быть, а чёрт знает чем. Отойди с глаз долой, измаял меня, сердца, души в тебе нет ни на ломаный грош, всё как об стенку горох, дай пожить на свете лишний годок, помру я с тобой.
Каратыгин отступил с пунцовым лицом и скромно присел в уголке, а Шаховской, тут же ладони отняв от лица, тонким бабьим голосом радостно заорал:
– Александр Сергеич, друг, шельмец, ах, как счастлив видеть я тебя! И со свёрточком, со свёрточком в руке! Свёрточком-то счастлив я вдвойне! Стало быть, наконец совершил!
Так ли позволишь себя понимать? Ну же, читай поскорее, прошу, тишина, тишина!
Александр тотчас развернул манускрипт и просто, без фарсов принялся читать со своим обыкновенным лицом, слегка голосом оттеняя выгоды роли, взглядывая исподтишка, каков Шаховской, ожидая с невольной внутренней дрожью, что вот здесь, в этом, кажется, месте, не совсем как будто удачном, стремительный князь вдруг взовьётся стрелой, завопит и разразится площадными проклятьями, но нет, ничего, Шаховской отчего-то восседал неподвижно, прикрывши хитрейшие глазки, точно невинно дремал, старый шут, пронесло, ничего, и он без поспешности двигался далее, в душе облегчённо вздохнув, через минуту вновь ожидая оскорбительных воплей, довёл наконец до финальных стихов, свернул в трубку листы и поднял довольно несмело глаза.
Шаховской в самом деле тотчас взвился, точно посторонняя сила против воли подняла его в воздух, подскочил к нему в два непомерных, в два невозможных прыжка и восторженно завизжал:
– Встань, сын мой, миленький дурачок, дай я тебя обойму, умница, умница, чёрт тебя задери!
От сердца у него отлегло. Александр покорно поднялся на этот освежительный крик. Шаховской, склоняясь над ним, по-медвежьи облапил его, толкая большим животом, и яростно трижды облобызал, возвещая:
– Тонкая штучка, лакомство, с изюмом пирог! Ну, скромник ты, ну, ветреник, гуляка, сукин сын и обормот! Писать тебе, ах, как же надобно писать тебе, целые горы, чёрт побери! Тебе бы от Александра Семёныча подзаняться усердьем хоть малость! С утра до вечера корпит, сердечный старичок, изводит бумагу возами, фолиантами обложился до самого потолка! Вот пишет кто! А ты что ж, милый, ты?