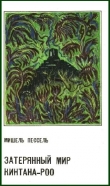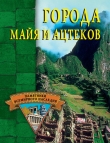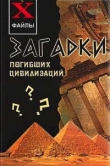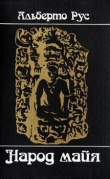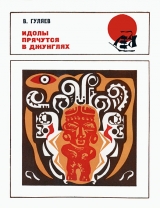
Текст книги "Идолы прячутся в джунглях"
Автор книги: Валерий Гуляев
Жанр:
Повесть
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 11 страниц)
И вдруг эти характерные фигурки стали, ко всеобщему удивлению, появляться в самых неожиданных местах. Две полые глиняные статуэтки пухлых младенцев нашли в Тлатилько. Несколько точно таких же изваяний дали раскопки небольшого поселка древних земледельцев в Гуалупите, штат Марелос. Есть они и на юге долины Мехико – в Тлапакойе. Особенно богатый урожай глиняных портретов «сыновей ягуара» собрали грабители могил в Лас-Бокас, на западе штата Пуэбла. Что касается археологов, то они, к сожалению, так пока и не добрались до этого первоклассного памятника архаической эпохи. Отдельные статуэтки и расписные или с резным узором глиняные чаши, попавшие по воле случая в некоторые государственные музеи Мексики и США, – единственное, что осталось науке от сотен, а может быть, и тысяч разграбленных могил.
Особенно много ольмекских фигурок из нефрита и серпентина находили на территории штатов Герреро и Морелос. И это сразу же вдохновило некоторых мексиканских исследователей на создание довольно смелых гипотез. Роман Пиньян Чан объявил, что первоначальная родина ольмеков находилась в Центральной Мексике, а точнее – в штате Морелос. Но в этом районе почти нет ольмекской скульптуры большого размера, если не считать рельефы Чалькацинго. Она, как известно, сосредоточена главным образом на юге Веракруса и в Табаско. Мигель Коваррубиас, напротив, считал родиной ольмеков штат Герреро – это тихоокеанское побережье. По его словам, там действительно нет больших каменных изваяний. Но разве мелкая и простая скульптура не предшествует по времени более крупной?
Отсюда неизбежно вытекало, что центр происхождения ольмеков находился первоначально на территории тихоокеанского побережья штатов Герреро и Мичоакан. Оттуда они проникли в долину Мехико (Тлатилько), а затем и еще дальше – в Веракрус и Табаско. Там, в таких центрах, как Ла Вента, Сан-Лоренсо и Трес-Сапотес, представлены памятники уже вполне сложившегося ольмекского искусства.
Но гораздо правдоподобнее выглядит третья точка зрения, выдвинутая некоторыми археологами США. По ее мысли, основной и единственный центр культуры ольмеков всегда находился в пределах довольно небольшого изолированного района в прибрежной частя штатов Веракрус и Табаско. Здесь были сосредоточены все основные памятники ольмеков. Наличие же ольмекских влияний в других областях Мексики объясняется торговыми и культурными связями.
Но в целом для каких-либо плодотворных научных дискуссий одних этих находок было еще явно недостаточно.
Странные скульптуры Чалькацинго 
Обильную пищу для размышлений давали и другие открытия археологов в Центральной Мексике. То в одном, то в другом месте внезапно появлялись на свет самые неожиданные вещи. На востоке крохотного мексиканского штата Морелос взору исследователей предстала довольно необычная картина. Близ городка Каутла над окружающей равниной вздымались, словно три богатыря в островерхих шлемах, три высоких скалистых холма с почти отвесными склонами из базальта. Центральный холм, Чалькацинго, – это могучий утес, плоская вершина которого усеяна огромными валунами и глыбами камня. Труден и долог путь на его вершину. Но случайный путник, решившийся на это опасное восхождение, получит вполне достойное вознаграждение. Там, вдали от современной жизни с ее шумом, суетой и фантастическими скоростями, застыли в вековой дремоте странные и загадочные изваяния – фигуры неведомых языческих богов и героев. Они искусно выбиты каменным резцом на поверхности самых больших валунов. Первый рельеф изображает какого-то пышно одетого человека, который важно восседает на троне и держит в руках длинный предмет, напоминающий знаки власти «халач-виников» – правителей городов-государств древних майя. На голове у него высокая прическа и затейливая шапка с фигурками птиц и знаками в виде падающих вниз крупных капель дождя. Человек сидит в некоем подобии небольшой пещеры. Но при ближайшем рассмотрении выясняется, что это вовсе не пещера, а широко открытая пасть какого-то гигантского, стилизованного до неузнаваемости чудовища. Хорошо виден его яйцевидный глаз со зрачком из двух перекрещенных полос внутри. Из пасти-пещеры вырываются наружу какие-то завитки, изображающие, возможно, клубы дыма. Над всей этой сценой как бы парят в воздухе три стилизованных знака – три грозовые тучи, из которых падают вниз крупные капли дождя. Точно такие же каменные скульптуры встречаются лишь в одной области древней Мексики – в стране ольмеков, на южном побережье Мексиканского залива.
На втором рельефе Чалькацинго показана уже целая скульптурная группа. Справа изображен какой-то бородатый обнаженный человек со связанными руками. Он сидит на земле, прислонившись спиной к идолу грозного божества ольмеков – человека-ягуара. Слева два ольмекских воина, в масках человека-ягуара и с длинными остроконечными палицами, угрожающе подступают к своему беззащитному пленнику. Позади него стоит еще один персонаж с дубинкой в руках, из которой пробиваются побеги какого-то растения – скорее всего маиса.
Но самый интересный из всех рельефов – пятый, хотя он, к сожалению, сохранился хуже других. Здесь древний художник изобразил огромную змею с клыкастой пастью. Она пожирает полумертвого от страха человека, ничком лежащего на земле. Из затылка змеиной головы выглядывает короткое, похожее на птичье, крыло. Однако для многих ученых и одной этой детали оказалось вполне достаточно. Они без особых колебаний заявили, что ольмеки задолго до начала христианской эры поклонялись уже самому популярному божеству доколумбовой Мексики – «Пернатому Змею» – Кецалькоатлю, который считался у ацтеков богом ветра, покровителем культуры и знаний.
Открытия в Чалькацинго взбудоражили ученый мир. Ведь многотонные валуны с рельефами не изящная нефритовая вещица, которую можно положить в карман и унести куда угодно. Было совершенно очевидно, что рельефы сделаны прямо на месте, в Чалькацинго, и творцами их могли быть лишь сами ольмеки. Но отсюда с неизбежностью вытекал и другой вывод: в незапамятные времена ольмеки посещали гористые края штата Морелос и даже выбили на прочных глыбах базальта лики своих наиболее почитаемых богов и правителей.
Что же привело их в эти пустынные и дикие места, за добрых три сотни верст к западу от границ своей родины?
Пещера с росписями 
Летом 1966 года археолог-любитель Карло Гей, осматривая скалистые холмы долины реки Папагайо в штате Герреро, неожиданно наткнулся на обширную пещеру, на стенах которой сохранились следы уникальных древних росписей. Несмотря на отсутствие необходимого опыта и специальных знаний, он с первого же взгляда осознал всю важность сделанного им открытия. Перед ним во всем блеске своей многокрасочной палитры предстала древнейшая картинная галерея из тех, что находили когда-либо на территории Нового Света.
Позднее, когда здесь побывали подлинные знатоки доиспанского искусства Мексики, выяснилось, что местные росписи очень похожи на многие характерные произведения ольмекской школы мастеров. Одно признание этого факта потребовало самого тщательного изучения вновь найденного памятника. Пещера Хуштлауака – лишь одно из звеньев в длинной цепи подземных залов и галерей, прорезавших здесь мягкие горные породы. Доступ туда и поныне остается довольно сложной проблемой. Для такого путешествия необходимы опытные проводники, соответствующее снаряжение (веревки, фонари, высокие ботинки на толстой подошве и т. д.) и солидный запас терпения. Сначала путь идет через сырые подземные камеры, полные летучих мышей, через узкие проходы-коридоры и огромные купольные залы, стены которых, словно у величественных античных храмов, украшены стройными белоснежными колоннами сталактитов. Первый же такой зал носит не слишком привлекательное название «Зал Смерти». Чуткая и торжественная тишина царит в этом царстве вечного мрака. Огромные куски скал от рухнувших вниз сводов и полная отрешенность от всего земного, оставшегося где-то там, наверху, за многометровой толщей камня, лишь усиливают гнетущее впечатление от окружающей картины. Все замерло вокруг словно в волшебном сне, напрасно прождав целые века своего принца-избавителя.
Мрачное и темное подземелье вполне отвечало представлениям древних индейцев об ужасном царстве смерти. И они устроили здесь свое кладбище, уложив на каменистом неровном полу груды бесчисленных трупов. Из-под обломков камней и залежей щебня повсюду выступают пожелтевшие от времени кости. А в одном месте тусклый свет фонаря выхватил из темноты маленькую нишу, из глубины которой уставились на путников темные глазницы человеческого черепа.
Сами росписи находятся примерно в одном километре от входа в пещеру и занимают несколько смежных помещений. В первом зале, названном «Галерея Рисунков», изображена наиболее интересная сцена. Какой-то могущественный правитель или вождь в пышном костюме и головном уборе из зеленых перьев птицы кецаль чуть наклонился над жалкой фигуркой другого человека, в страхе скорчившегося у его ног. Это либо слуга, либо побежденный враг грозного владыки. Рукавицы и сапоги правителя сделаны из шкуры ягуара. Лицо расписано черной краской, а тело – красной.
В следующей подземной камере – «Зале Змеи», почти вся стена занята изображением огромной красной змеи. В зрачках ее глаз хорошо виден какой-то странный знак из двух наискось перекрещенных полос, а над бровями торчат пучки коротких зеленых перьев. Видимо, здесь, как и на рельефах Чалькацинго, древний ольмекский мастер пытался передать образ своего великого божества – «Пернатого Змея» (Кецалькоатля). Слева от гигантской змеи рапластался в могучем прыжке горный лев или ягуар, бесстрашно атакующий эту грозную рептилию. Его тело тоже окрашено в ярко-красный цвет, всегда считавшийся у древних мексиканцев символом жизни и бессмертия.
Подземное святилище в Хуштлауаке до сих пор остается неразрешимой загадкой для ученых. Что обозначают эти странные рисунки? Почему они спрятаны так глубоко под землей? К какому времени они относятся?
Но жизнь давно уже покинула эти мрачные места. Безмолвны замшелые камни. И только громкое эхо шагов да желтый призрачный свет керосиновых фонарей нарушают порой торжественную тишину пещеры. Поиск продолжается. И кто знает? Может быть, совсем скоро по какой-нибудь вновь найденной малозаметной детали мы сумеем прочесть истинный смысл загадочных росписей Хуштлауаки.
А в воображении встают уже туманные картины прошлого – день торжественного открытия этого подземного храма: величественная процессия ольмекских сановников и жрецов в причудливых масках и костюмах, красные отблески смоляных факелов на сырых каменных стенах, глухой ритмичный рокот барабанов и слитный хор мужских голосов, поющих священные гимны в честь богов.
Ольмеки за пределами своих границ 
Рельефы в Чалькацинго, росписи в подземельях Хуштлауаки, глиняные и нефритовые статуэтки в Тлатилько, Гуалупите, Лас-Бокас и Тлапакойе красноречивее всяких слов доказывали факт пребывания ольмеков в Центральной Мексике, по крайней мере, с первого тысячелетия до н. э. Мелкие нефритовые вещицы в ольмекском стиле встречаются почти по всей территории Мексики и Центральной Америки. Но они вполне могли попасть к соседям в результате каких-то торговых связей. Что же касается гигантских изваяний ольмеков, выбитых на скалах, валунах и отдельных камнях, то их не унесешь с собой за сотни километров. Следовательно, скульптуры эти изготовили где-то неподалеку от места их находки, и это сделали люди, знавшие все каноны ольмекского искусства. Но такими людьми могли быть только сами ольмеки.
На тихоокеанском побережье штата Чиапас, близ селения Пихихиапан, в 1968 году были найдены три огромных гранитных валуна с выбитыми на них ольмекскими петроглифами. Мы видим здесь типично ольмекских персонажей со знаками власти и атрибутами для ритуальной игры в мяч, уже знакомый нам образ младенца-ягуара и т. д.
В Гватемале, около Эль-Ситио (департамент Сан-Маркос), при расчистке джунглей был обнаружен нефритовый топор-кельт с изображением получеловека-полуягуара. На голове этого божества корона в виде стилизованного растения маиса. Здесь же вырезаны какие-то знаки-иероглифы, близкие по форме надписи на статуэтке из Тустлы (162 год н. э.) и иероглифам с некоторых скульптур майя, относящихся к первым векам н. э.
Еще дальше к югу, на кофейной плантации Лас-Викториас, близ Чальчуапы, в Западном Сальвадоре неожиданно объявились какие-то новые загадочные изваяния. Они были выбиты на поверхности громадного валуна и несли на себе явный отпечаток ольмекского, хотя и несколько огрубленного, влияния: три человеческие фигуры в шлемах и плащах гордо демонстрируют символы своей силы и власти. Но и это не был еще конечный предел проникновения ольмеков в богатые южные страны. Совсем недавно в древних гробницах полуострова Никойя, на северо-западе Коста-Рики, археологи нашли множество украшений и амулетов из драгоценного зеленовато-голубого нефрита. Причем две нефритовые статуэтки из Никойи, безусловно, имеют самое прямое отношение к ольмекам. Они изображают пухлых карликов или младенцев с наголо обритой головой и распростертыми крыльями за спиной. Точный возраст этих «ангелочков» определить пока не удалось. Но уже сейчас можно смело сказать, что на полуострове Никойя не было ни одной гробницы, которая имела бы более ранний возраст, чем конец архаической эпохи.
В поисках нефрита 
Странные и непонятные картины возникали между тем в не в меру разыгравшемся воображении некоторых ученых. Получалось так, что за пределами Тамоанчана – влажных и болотистых джунглей страны ольмеков – жили одни лишь грубые варвары и дикари, не знавшие ни письменности, ни календаря, ни монументального искусства. Они только что успели освоить довольно примитивные виды земледелия и влачили жалкое полуголодное существование, собирая скудные урожаи маиса, фасоли и тыквы со своих крошечных, неухоженных полей. Тяжелая и беспросветная жизнь. Постоянная угроза голода во времена засухи, ураганов и наводнений. Стоит ли удивляться тому, что эти первые земледельцы Мексики не слишком преуспели еще в создании изящных и красивых вещей, составляющих плоть и кровь любого развитого стиля искусства. Правда, они рьяно поклонялись богам, олицетворявшим силы природы. Солнце, ветер, дождь и вода самым непосредственным образом влияли на величину собранного урожая, и именно им приносили самые обильные жертвы. Особым почетом окружили древние земледельцы великую богиню плодородия – богиню-мать, родоначальницу всего живущего и плодоносящего на земле. Они изображали ее с каким-то фанатичным упорством и в глине, и в камне на протяжении многих веков. Грубые, но чувственные образы крестьянских мадонн – одна из самых распространенных находок при раскопках архаических поселений Мексики.

Гигантская каменная голова из Трес-Сапотес. Сбоку изображен первооткрыватель ольмекских древностей – археолог Мэтью Стирлинг.

Нефритовая «Статуэтка из Тустлы» с календарной надписью, соответствующей 162 году н. э.

«Идол из Сан-Мартина» (по рисунку И. Лойи).

«Идол из Сан-Мартина» (по рисунку Ф. Блома).

Нефритовый ольмекский топор с изображением человека-ягуара. Место находки неизвестно.

Нефритовые статуэтки человека-ягуара, найденные в Ла Венте.

«Стела „С“ из Трес-Сапотес» (31 год до н. э.) с изображением ольмекского бога-ягуара.

Ольмекские маски из дерева (вверху)и нефрита (внизу).Место находки неизвестно.


Серпентиновая ольмекская маска. Место находки неизвестно.

Карикатура М. Коваррубиаса, наглядно изображающая характер взаимоотношений между ольмеками (меньшая фигура) и майя.

Гробница из базальтовых столбов (Ла Вента) (вверху и внизу).


Раскопки древних гробниц в Ла Венте (вверху и внизу).


Монумент № 15 (Ла Вента) с изображением бога-ягуара.

Нефритовая женская фигурка, найденная в гробнице из базальтовых столбов (Ла Вента).

Монумент № 13 (Ла Вента) с изображением фигуры правителя или жреца и с иероглифической подписью.

«Ольмекские Атланты» (Ла Вента).

Ла Вента. Вид раскопок в центральной части поселения.

Алтарь № 5 (Ла Вента). На переднем плане изображение правителя или жреца, сидящего в нише с телом младенца на руках.

Стела № 3 (Ла Вента). «Столкновение» представителей двух различных народов: так называемый «дядя Сэм» и ягуароподобный персонаж.

16 человечков из Ла Венты.

Ла Вента. Мозаика в виде стилизованной головы ягуара.

Тлатилько. Вид раскопанных древних погребений (вверху и внизу).


Мигель Коваррубиас.

Фигурный сосуд из Тлатилько с изображением утки.

Сосуд-«бутылка» с орнаментом в виде «лапы» ягуара (Тлатилько) (вверху и внизу).


Сосуд с изображением «Пернатого Змея» (Тлатилько) (вверху и внизу).


Глиняная чаша с резным узором (Тлатилько).

Маска ягуара. Глина (Тлатилько).

Глиняная чаша. (Тлатилько).
Низкие, темные хижины из прутьев, обмазанных глиной и с крышей из связок тростника или пальмовых листьев, простые и незамысловатые кухонные горшки, инструменты из камня и кости, базальтовые зернотерки для приготовления муки, примитивный очаг у порога дома – таков был тот рубеж технических и культурных достижений, до которого сумели дойти земледельческие племена Мексики на протяжении архаической эпохи. И вдруг в этот застойный, прозябающий в собственном невежестве «крестьянский рай» неожиданно врываются ольмеки. Они явились уже вполне сформировавшимся, зрелым народом, во всеоружии технических и культурных успехов своей блестящей цивилизации. Откуда и зачем пришли они в центральные области Мексики и в земли, лежащие к югу от перешейка Теуантепек, пока никому неизвестно. Смелых суждений и гипотез на этот счет хоть отбавляй. Но, к сожалению, фактов пока явно недостаточно.
Мигель Коваррубиас считал ольмеков завоевателями-чужеземцами, пришедшими в долину Мехико с территории тихоокеанского побережья штата Герреро. Они быстро подчинили себе примитивные местные племена, обложили их тяжелой данью и стали вкушать плоды своей победы, образовав правящую касту аристократов и жрецов.
В Тлатилько, Сакатенко, Гуалупите и других архаических поселениях, по мысли Коваррубиаса, четко видны две разнородные традиции культуры: пришлая, ольмекская (к ней относятся все наиболее изящные типы керамики, нефритовые вещи и статуэтки «сыновей ягуара»), и местная, простая культура ранних земледельцев с грубыми глиняными статуэтками и кухонной посудой.
Ольмеки и местные индейцы резко отличаются друг от друга по своему физическому типу, костюму и украшениям: приземистые узкоглазые и плосконосные аборигены – вассалы, ходившие полуголыми, в одной набедренной повязке, и изящные, высокие аристократы – ольмеки, с тонким орлиным носом, в причудливых шляпах и длинных мантиях или плащах. Насадив среди варваров ростки своей высокой культуры, ольмеки проложили тем самым, по словам Коваррубиаса, путь всем последующим цивилизациям Центральной Америки.
Другие ученые без особых раздумий объявили ольмеков «святыми проповедниками» и «миссионерами», которые со словами мира на устах и с зеленой ветвью в руке несли остальным людям учение о своем великом и милостивом боге – человеке-ягуаре. Они повсюду основывали свои школы и монастыри. Не жалея слов, расписывали туземцам достоинства своей необыкновенной веры. И вскоре пышный культ нового, благосклонного к земледельцу божества получил всеобщее признание, а священные реликвии ольмеков в виде изящных амулетов и статуэток стали известны в самых отдаленных уголках Мексики и Центральной Америки.
Наконец, третьи ограничивались туманными ссылками на торговые и культурные связи, равнодушно отмечая «явно ольмекские черты» в искусстве Монте-Альбана (Оахака), Теотихуакана и Каминальуйю (Горная Гватемала), но не давая этому факту никаких конкретных объяснений.
В 1968 году на прилавках книжных магазинов США появилась красочно оформленная книга под интригующим названием «Первая цивилизация Америки». С лицевой стороны суперобложки на читателя пронзительно смотрели раскосые глаза знаменитой ольмекской «головы», которая уже одним своим присутствием вполне однозначно решала наболевший вопрос о приоритете ольмеков в создании первой высокой культуры на всем континенте.
Имя автора – Майкл Ко – мало что говорило публике, но было хорошо известно в кругах специалистов по доколумбовой истории Нового Света. Профессиональный археолог и, как многие его знаменитые предшественники, выпускник респектабельного Гарварда, он уже к началу 60-х годов выдвинулся в число наиболее талантливых и многообещающих ученых-американистов. В течение трех утомительных полевых сезонов (1958–1960 годов) Майкл Ко пробивался сквозь многометровые напластования остатков древней культуры в Ла Виктории, на тихоокеанском побережье Гватемалы. Затем, используя новейшие методы археологических исследований и свою незаурядную эрудицию, он воссоздает, собирая буквально из тысяч мельчайших обломков, картину далекого прошлого Коста-Рики. И когда приобретенный им полевой опыт достиг, на его взгляд, вполне достойного уровня, он немедленно обратился к ольмекской загадке. Ольмеки были давней страстью Майкла Ко. Еще в 1957 году в солидном академическом журнале «Американский антрополог» появилась его остро дискуссионная статья о взаимосвязи письменности и календаря майя с влияниями ольмеков. Но молодой ученый стремился сказать свое слово обо всех других наиболее важных вопросах ольмекской проблемы.
От предшественников ему досталось не слишком богатое наследство. Несколько полевых отчетов экспедиции Стирлинга – Дракера и десятки разрозненных фактов, разбросанных по общим монографиям и специальным статьям, могли повергнуть в уныние кого угодно, только не честолюбивого питомца Гарварда. Требовалась критическая переоценка опыта предыдущих лет. И Майкл Ко был первым, кто отважился на это. По крупицам собрав недостающие сведения, он, ни минуты не колеблясь, объявил своим коллегам-археологам: «Выводы Филиппа Дракера больше не кажутся мне абсолютно верными. В их основе лежат ошибочные методы и ошибочные взгляды».
Поскольку ольмеки жили и развивались отнюдь не в безвоздушном пространстве, а бок о бок с другими индейскими народами и племенами, это неминуемо должно было оставить, по мысли Ко, заметные следы как в их собственной культуре, так и в культуре соседей. Эти сходные черты и должны служить надежным компасом при выделении конкретных этапов ольмекской истории. Подобному высказыванию можно было отказать в чем угодно, но только не в смелости. И, видимо, совсем не случайно уже в 1965 году, когда группа ученых-американистов решила выпустить многотомный справочник по индейцам Центральной Америки, почетное право написать главу по ольмекской археологии единогласно предоставили молодому профессору антропологии из Йельского университета – Майклу Ко.
Прежде всего он с фактами в руках категорически опроверг религиозную, или «миссионерскую», подоплеку ольмекской экспансии за пределы Веракруса и Табаско. Гордые персонажи базальтовых скульптур Ла Венты и Трес-Сапотес не были ни богами, ни жрецами. Это увековеченные в камне образы могущественных правителей, полководцев и членов царских династий. Правда, и они не упускали порой случая подчеркнуть свою связь с богами или показать божественные истоки своей власти. Но действительное положение вещей от этого отнюдь не менялось: реальная власть в стране ольмеков находилась в руках светских правителей, а не у жрецов. Мы уже имели случай убедиться в том, какую огромную роль в жизни ольмеков и других древних народов Нового Света играл драгоценный зеленый минерал – нефрит и его разновидности – серпентин, жадеит и т. д. Нефрит считался основным символом богатства. Его широко применяли в религиозных культах. Им платили дань побежденные государства и народы. Но мы знаем и другое: в джунглях Веракруса и Табаско не было ни одного мало-мальски значительного месторождения этого камня. Между тем количество изделий из нефрита и серпентина, найденных при раскопках ольмекских городов, превосходит всякое воображение, исчисляясь десятками тонн! Откуда же брали жители туманной страны Тамоанчан свой драгоценный минерал?
Как показали последние геологические изыскания, залежи великолепного голубоватого нефрита имеются в горах мексиканского штата Герреро, в Оахаке и Морелосе, в горных районах Гватемалы и на полуострове Никойя в Коста-Рике, то есть именно в тех местах, где сильнее всего чувствуется влияние ольмекской культуры. И Майкл Ко сделал отсюда единственно правильный вывод о прямой зависимости основных направлений ольмекской колонизации от наличия месторождений нефрита и серпентина. По его словам, ольмеки создали для этой цели специальную организацию – могущественную касту купцов, наподобие ацтекских «почтека», которые вели торговые операции только с дальними землями и обладали особыми привилегиями и правами. Это были весьма удобные для ольмекских правителей люди. Охраняемые всем авторитетом пославшего их государства, они смело проникали в самые дикие и глухие области Центральной Америки. Их гнала вперед ненасытная жажда обогащения. Гиблые тропические леса, гнилые непроходимые болота, вулканические пики горных хребтов, широкие и бурные реки – все покорилось этим неистовым искателям драгоценного зеленовато-голубого камня – нефрита.
Обосновавшись на новом месте, торговцы-ольмеки терпеливо собирали ценные сведения о местных природных богатствах, климате, быте и нравах туземцев, их военной организации, численности и наиболее удобных дорогах. И когда наступал подходящий момент, они становились проводниками ольмекских отрядов и армий, спешивших с туманного побережья Атлантики для захвата нефритовых разработок и шахт. На перекрестке оживленных торговых путей и в стратегически важных пунктах ольмеки строили свои крепости и сторожевые посты с сильными гарнизонами. Одна цепь таких ольмекских поселений протянулась от Веракруса и Табаско, через перешеек Теуантепек, далеко к югу, по всему тихоокеанскому побережью, вплоть до Коста-Рики. Другая – шла на запад и юго-запад, в Центральную Мексику, по территории штатов Оахака, Пуэбла, Морелос и Герреро. «В ходе этой экспансии, – подчеркивает Майкл Ко, – ольмеки приносили с собой нечто большее, нежели их высокое искусство и изысканные товары. Они щедро сеяли на варварской ниве семена истинной цивилизации, до них никому здесь не известной… Там же, где их не было или их влияние ощущалось слишком слабо, цивилизованный образ жизни так никогда и не появился».
Это было весьма смелое заявление, но за ним немедленно последовали не менее смелые дела. Профессор Майкл Ко решил отправиться в джунгли Веракруса и раскопать там еще один крупный центр ольмекской культуры – Сан-Лоренсо Теночтитлан.