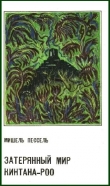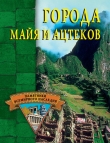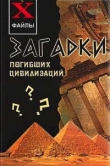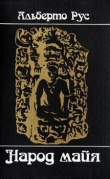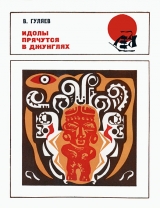
Текст книги "Идолы прячутся в джунглях"
Автор книги: Валерий Гуляев
Жанр:
Повесть
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 11 страниц)
История знает немало примеров того, как пустяковое на первый взгляд событие круто меняло весь дальнейший ход развития человеческого общества. Нечто подобное случилось и в «ольмекологии», когда Франц Блом и его друзья совершили не слишком утомительный поход к вершине вулкана Сан-Мартин, где, по слухам, с незапамятных времен стояла статуя какого-то уродливого языческого бога. Лишь много лет спустя придирчивые знатоки мексиканской археологии разберутся наконец в истинном значении всего случившегося и громко нарекут находку американцев из Нью-Орлеана «Розеттским камнем культуры ольмеков».
По иронии судьбы сами первооткрыватели (в действительности они оказались вторыми) тоже ничего не поняли и отнеслись ко всему свершившемуся весьма спокойно. Для описания загадочного идола на горной вершине в их книге отведено буквально несколько строк. «Взобраться на вулкан Сан-Мартин Пахапан, – писал впоследствии сам Блом, – было нашей давней мечтой. В Татахуикапе мы наняли проводников и верхом на лошадях отправились в путь. Но после часа езды мы вынуждены были привязать наших кляч близ крохотной плантации кофе и идти дальше пешком… Затем тропа кончилась, и мы вступили в лес, где пришлось карабкаться по довольно крутому склону до тех пор, пока мы не добрались до небольшого ручья на высоте 506 метров. Наш проводник объявил, что здесь находится последнее место, где мы можем напиться воды перед „настоящим“ подъемом. В этой части леса каждая скала и каждый лист на деревьях были сплошь покрыты какими-то белыми личинками размером с мизинец. Густой подлесок состоял из небольших пальм и колючих кустов, но когда мы поднялись повыше – они исчезли. Узкая крутая тропинка то петляла среди скалистых обнажений, то исчезала вообще, чтобы через несколько шагов вновь вынырнуть перед нами. Чем ближе к вершине, тем ниже становились деревья. Их корни были исхлестаны свирепыми ветрами, а угловатые ветви покрывали разводы мха. На самой вершине горы тоже росли деревья. Это говорит о том, что с тех пор как вулкан „просыпался“ в последний раз, прошло уже немало времени. Вершина имела два пика. На высшей точке южного из них мы обнаружили большой валун с отметкой 1211. Этот номер выбил на камне мексиканский инженер Исмаил Лойя, обследовавший данный район в 1897 году. Валун и стоит как раз на высоте 1211 метров. Лойя был первым, кто видел идола на макушке горы Сан-Мартин. Он же рассказал нам в 1922 году, что ему пришлось передвинуть этого идола на небольшое расстояние для того чтобы использовать его как угловую отметку в своих промерах. Во время этого „переезда“ он нечаянно отбил у идола руки. Но еще до начала работ инженер успел, к счастью, сделать схематический рисунок всего изваяния. Под древней статуей находилась небольшая яма, в которой лежали какие-то глиняные сосуды и несколько небольших вещиц из нефрита. Лойя отбросил все это в сторону, но одну небольшую поделку в виде гремучей змеи из светло-зеленого нефрита прихватил с собой.
Идол сидит на корточках и, согласно рисунку Лойи, горизонтально держит в обеих руках какой-то брусок. Его тело наклонено вперед. Руки, ступни ног и брусок сейчас отсутствуют. Лицо сильно повреждено. Общая высота изваяния 1,35 метра, из которых 57 сантиметров приходится на головной убор. По обеим сторонам головы идола хорошо видны громадные ушные украшения. Головной убор необычайно вычурный и пышный. На передней его части изображено какое-то странное лицо с узкими глазами, небольшим широким носом и опущенным вниз ртом с пухлой и вздернутой верхней губой.
Сам монумент стоит на небольшой ровной площадке, в седловине между двумя высокими пиками, неподалеку от кратера вулкана. Изваяние может изображать бога огня или гор. Но в то время мы не рискнули отнести его наверняка к какой-нибудь определенной культуре».
Рождение гипотезы 
Между тем в частных коллекциях и музейных собраниях многих стран Европы и Америки в результате непрерывных грабительских раскопок появлялось все больше загадочных по происхождению изделий из драгоценного нефрита. Спрос на них был велик. И грабители собирали в горах и джунглях Центральной Америки обильную жатву, безжалостно уничтожая при этом бесценные сокровища древней культуры.
Причудливые статуэтки людей-ягуаров и ягуаров-людей, звероподобные маски богов, пухлые карлики, голые уродцы со странно удлиненными головами, огромные топоры-кельты с затейливыми резными узорами, изящные нефритовые украшения – все эти древние предметы несли на себе явный отпечаток глубокого внутренного родства – несомненное доказательство их общего происхождения. И тем не менее они долго считались неопределенными, загадочными, поскольку их не удавалось связать ни с одной из известных тогда цивилизаций доколумбовой Америки.
В 1929 году археолог Маршалл Савий – директор Музея американских индейцев в Нью-Йорке обратил внимание на группу странных «ритуальных» топоров-кельтов из собрания музея. Все они были сделаны из прекрасно отполированного голубовато-зеленого нефрита, а их поверхность нередко украшали вычурные резные рисунки, маски людей и богов. Общее сходство этой группы вещей не вызывало никаких сомнений. Но откуда, из какой части Мексики или Центральной Америки происходят эти загадочные предметы? Кто и когда их создал? С какой целью? Вновь и вновь возвращался ученый к мучившему его вопросу. Но ответа на него пока не было. Перед ним за тонким стеклом музейной витрины лежали каменные изделия, совершенно непохожие на те, что он встречал прежде. Здесь были представлены произведения самобытного творчества, увековеченные в камне идеалы народа, происхождение которого терялось в глубине веков. И здесь Савий вспомнил, что точно такое же по стилю изображение встречается не только на его нефритовых топорах, но и на головном уборе каменного идола из Сан-Мартина. Сходство между ними даже в мельчайших деталях настолько велико, что и непосвященному было теперь ясно: все эти изделия – плоды усилий одного и того же народа. Цепь доказательств сомкнулась. Тяжелый базальтовый монумент не перетащить на сотни километров. Следовательно, и центр этого странного и во многом еще непонятного древнего искусства тоже находился, вероятно, где-то в районе вулкана Сан-Мартина, то есть в Южном Веракрусе.
Человека, которому было суждено сделать решающий шаг в том направлении, которое скорее угадал, чем увидел Савий, звали Джордж Клапп Вайян. Один из лучших выпускников респектабельного Гарварда, он мог рассчитывать на самую блестящую научную карьеру и буквально в считанные годы занять место преуспевающего университетского профессора. Но случилось непредвиденное. Будучи еще первокурсником, Вайян раз и навсегда определил свои планы на будущее, отправившись в 1919 году в Мексику вместе с какой-то американской археологической экспедицией. Археология стала для него второй жизнью. Каждый год, едва теплый и ласковый ветер возвещал о приходе весны, юноша оставлял до лучших времен свои конспекты и книги и уезжал в далекие края – в навсегда полюбившиеся ему Мексику, Египет, Карфаген. А затем пришла зрелость и вместе с ней жгучее желание как можно лучше разобраться во всех хитросплетениях древнемексиканской истории. Около десяти лет один или вместе со своей молодой женой Сьюзанн Вайян в пыли и духоте раскопов упорно добывал из глубин земли столь нужные науке факты о прошлом индейцев. В долине Мехико вряд ли остался хоть один мало-мальски интересный памятник старины, где бы не побывал этот энергичный американец. Сакатенко, Тикоман, Эль-Арболильо, Гуалупита, Теотихуакан, Аскапоцалько и названия многих других мексиканских городов и селений, словно яркие вехи, отмечают тернистый путь открытий, сделанных молодым ученым. Слава пришла к нему довольно рано. Лучшие университеты Америки – Гарвардский, Колумбийский и Йельский – считают за честь пригласить его для чтения лекций. Нью-Йоркский Музей естественной истории предлагает ему пост главного хранителя своих коллекций. В 1941 году фундаментальный труд «Ацтеки Мексики» приносит ему всеобщее уважение мексиканских коллег и титул почетного профессора Национального музея города Мехико. И лишь внезапная смерть – Вайян умер в 1945 году в возрасте сорока четырех лет – на полпути оборвала его блестящую научную карьеру. Но еще задолго до этого рокового дня он успел внести весомый вклад в решение почти всех основных проблем мексиканской археологии. И ольмеки не были здесь исключением. Именно Вайяну обязаны мы рождением одной остроумной гипотезы на этот счет.
В 1909 году при строительстве плотины в Некаше (штат Пуэбла, Мексика) один американский инженер случайно нашел в разрушенной древней пирамиде нефритовую статуэтку сидящего ягуара. Интересный предмет привлек внимание ученых и вскоре был куплен Музеем естественной истории в Нью-Йорке. Впоследствии именно эта нефритовая фигурка послужила Вайяну своего рода отправной точкой в его рассуждениях о загадках культуры ольмеков.
«Пластически, – писал он, – этот ягуар относится к группе скульптур, демонстрирующих одни и те же черты, – рычащая пасть, увенчанная выше плоским приплюснутым носом и раскосыми глазами. Часто голова у таких скульптур имеет сзади выемку или зарубку. Большой нефритовый топор, выставленный в Мексиканском зале музея, также относится к этому типу изображений. Географически все эти нефритовые изделия концентрируются в Южном Веракрусе, Южной Пуэбле и на севере Оахаки.
Столь же очевидную связь с названной группой предметов демонстрируют и так называемые „младенческие“ скульптуры из Южной Мексики, сочетающие в себе черты ребенка и ягуара».
Сопоставив все известные ему факты, Вайян решил действовать по методу исключения. Он хорошо знал, как выглядит материальная культура большинства древних народов, населявших когда-то Мексику. Ни один из них не имел ничего общего с создателями стиля изящных нефритовых статуэток. И тогда ученый вспомнил слова древней легенды об ольмеках – «жителях страны каучука»: область распространения нефритовых статуэток ребенка-ягуара целиком совпадала с предполагаемым местом обитания ольмеков – южное побережье Мексиканского залива.
«Если мы ознакомимся с перечнем народов из полумифических преданий индейцев нахуа, – утверждал Вайян, – то путем исключения можно выяснить, кого из них следует связывать с только что выделенной по материальным критериям цивилизацией. Мы знаем стили искусства ацтеков, тольтеков и сапотеков, может быть, тотонаков и наверняка майя. В этих же преданиях часто упоминается один высококультурный народ – ольмеки – живший в древности в Тлашкале, но оттесненный впоследствии в Веракрус и Табаско… Ольмеки славились своими изделиями из нефрита и бирюзы и считались главными потребителями каучука во всей Центральной Америке. Географическое положение этого народа примерно совпадает с областью распространения нефритовых статуэток с ликами младенцев и ягуаров».
Так, в 1932 году благодаря остроумной гипотезе еще один абсолютно неизвестный народ с высокоразвитой культурой вновь получил вполне реальные доказательства существования. Это был не только триумф ученого, но и триумф древней ацтекской легенды.
Главное – «голова» 
Итак, начало было положено. Правда, «воскрешение» ольмеков из небытия Вайян осуществил всего лишь на основе нескольких разрозненных вещей, опираясь главным образом на логику своих научных предположений. Для более глубокого изучения вновь открытой цивилизации одних этих находок, несмотря на их уникальность и художественное мастерство, было явно недостаточно. Требовались систематические раскопки в самом сердце предполагаемой страны ольмеков. Впрочем, это, видимо, хорошо понимал и сам Вайян. Как бы обращаясь к своим преемникам на поприще мексиканской археологии, он в одной из популярных статей сказал: «На территории ольмеков еще не велось фактически никаких раскопок. Поэтому мы ничего не знаем об их происхождении или об их связях с другими культурами. Ольмеки, подобно призракам, бродят по страницам мексиканской истории. Несколько замечаний о том, что действительно был когда-то такой народ, немногочисленные изображения внешнего облика его представителей, совершенно непохожих на любой другой известный нам народ, вроде майя, и жалкая коллекция скульптур, явно выходящих за пределы уже выделенных нами художественных традиций, – вот все, что доказывает былое их существование. Возможно, что будущие исследования в стране ольмеков во многом прояснят давно дискутируемый вопрос о связи между мексиканцами и майя или же осветят происхождение тех великих теократий, которые создали Центральной Америке ее цивилизацию». Эти пророческие слова известного американского археолога стали своего рода программой всей жизни для одного из его соотечественников и коллег. Его звали Мэтью Стирлинг.
В 1918 году, еще будучи студентом Калифорнийского университета, он впервые увидел в какой-то книге изображение нефритовой маски в виде «плачущего ребенка» и с тех пор навсегда «заболел» загадочными изваяниями из Южной Мексики. Особенно поражал его тот факт, что многие предметы таинственного ольмекского стиля были изготовлены из характерного голубовато-зеленого нефрита, никогда не встречавшегося в памятниках других древних культур Нового Света. После окончания университета молодой Стирлинг попадает в наиболее известное тогда научное учреждение США – Смитсоновский институт в Вашингтоне. Начались годы кропотливого труда. И хотя в силу разного рода причин Стирлингу пришлось работать главным образом в Северной Америке, затаенная мечта об ольмекских городах, погребенных в глубине южномексиканских джунглей, никогда уже не покидала его. С большим волнением прочитал он отчет Ф. Блома и О. Ла Фаржа о таинственных изваяниях из Ла Венты. В 1932 году ему попался на глаза труд одного американского плантатора из Веракруса – некоего Альберта Вейерстолла. Последний со знанием дела описывал несколько новых каменных скульптур из Ла Венты и Вильяэрмосы. Но больше всего поразили Стирлинга заключительные слова статьи, где говорилось, что идолы Ла Венты совершенно не похожи на майяские и гораздо старше их по возрасту. Любому посвященному человеку было ясно, что медлить больше нельзя. Там, в болотистых лесах Веракруса и Табаско, ждут своего часа бесчисленные памятники погибшей цивилизации, которых никогда не касалась еще рука археолога. Но как убедить руководство заинтересованных учреждений и своих коллег-археологов, что все эти отнюдь немалые денежные затраты сторицей окупятся научной значимостью будущих находок? Нет, обычные методы здесь явно не годились. И он решается на отчаянный шаг. В начале 1938 года один, почти без денег и снаряжения он отправляется в Веракрус, чтобы осмотреть ту самую гигантскую каменную голову, которая была описана еще Мельгаром. «Я обнаружил предмет моих мечтаний, – вспоминает Стирлинг, – на площади, окруженной четырьмя пирамидальными холмами. Из земли едва выглядывала одна лишь макушка огромного изваяния. Я отбросил землю с его лица и сделал несколько фотоснимков». Когда первое волнение от встречи с этим посланцем древности наконец прошло, Мэтью огляделся вокруг и замер от удивления. Наметанный глаз археолога сразу же обнаружил то, что так долго ускользало от внимания его предшественников: гигантская голова стояла посреди руин заброшенного города. Повсюду из лесных зарослей поднимались ввысь плоские вершины искусственных холмов-пирамид, скрывавших внутри остатки разрушенных дворцов и храмов. Они были ориентированы строго по странам света и группировались по три-четыре вокруг широких прямоугольных площадей. Сквозь густую зелень джунглей тут и там проглядывали контуры таинственных каменных изваяний. Да, сомнений быть не могло: первый ольмекский город лежал у ног усталого, но счастливого археолога. Теперь-то он сумеет убедить в своей правоте любого скептика и достанет необходимые для экспедиции средства!
Возвратившись в Вашингтон, Стирлинг с еще большей энергией берется за воплощение в жизнь своего проекта. Он обивает пороги многих научных учреждений столицы, убеждает, доказывает с фактами в руках огромную археологическую значимость вновь найденного памятника и в конце концов добивается своего. Смитсоновский институт совместно с Национальным географическим обществом выделили ему людей и необходимые средства для экспедиции в Южную Мексику.
Заветная мечта Стирлинга стала теперь на вполне материальную почву.


Глава 2. Экспедиции отправляются в путь
Знать о причинах,
которые скрыты,
Тайные ведать пути —
Этому чувству
шестому на смену,
Чувство седьмое,
расти!
Леонид Мартынов,1952 г.


Болотное царство 
Поздней осенью 1938 года из мексиканского городка Альварадо, что стоит на берегу океана близ устья реки Папалоапан, отправился в очередной рейс допотопный колесный пароход с нелепо длинной, нещадно дымившей трубой. На борту его, кроме обычных пассажиров – крестьян и торговцев в громадных широкополых сомбреро и ярких плащах-пончо, – находилась группа людей, одежда и внешность которых выдавали в них иностранцев. Новоиспеченный начальник археологической экспедиции Мэтью Стирлинг и его немногочисленные спутники, столпившись у поручней, жадно разглядывали экзотические пейзажи тропиков.
Между тем корабль, похожий скорее, с его мешками, ящиками и курами, на Ноев ковчег, чем на обычное пассажирское судно, миновал изумрудные луга с высокой травой и торжественно вошел под своды нескончаемого зеленого тоннеля, созданного самой природой. Развесистые кроны деревьев-великанов сомкнули свои ветви почти над серединой реки, образовав плотную, непроницаемую для солнечных лучей крышу.
Джунгли, бесконечные джунгли на много километров вокруг. То веселые, усыпанные яркими цветами, с щебетом птиц и задорными криками обезьян, то, напротив, темные и угрюмые, погруженные по плечи в вязкую грязь гнилых болот, где лишь змеи да огромные ящерицы-игуаны терпеливо поджидают в прохладном полумраке зазевавшуюся добычу. Наконец, после нескольких дней пути далеко на горизонте показались туманные пики горных хребтов Тустлы, у подножия которых, близ деревушки Трес-Сапотес, лежали руины древнего города ольмеков. Экспедиция была у цели.
По следам конкистадоров 
История этого края представлялась тогда книгой, где большая часть страниц вообще не была еще никем заполнена. Правда, в записках испанского солдата Берналя Диаса дель Кастильо – очевидца и непосредственного участника всех важнейших событий кровавой эпопеи Конкисты – мы находим упоминание о том, что реку Папалоапан открыл в 1518 году храбрый идальго Педро де Альварадо – будущий сподвижник Кортеса.
«Когда мы следовали вдоль побережья, – вспоминает Диас, – капитан Педро де Альварадо вырвался на своем корабле вперед и вошел в устье реки, которую индейцы называют Папалоапан и которую мы назвали тогда „рекой Альварадо“, поскольку Альварадо был первым, кто открыл ее… Мы с тремя другими кораблями ждали близ устья реки его возвращения, и наш генерал (Хуан де Грихальва. – В. Г.)был очень зол на него за то, что он отправился вверх по реке без разрешения».
Но попытка проникнуть в глубь страны по удобному речному пути закончилась неудачей. В те времена страну населяли воинственные индейские племена, пришедшие откуда-то с запада. Грозные легионы краснокожих воинов, выстроившихся на берегу реки в строгом боевом порядке, были настолько внушительны, что испанцы поспешили убраться восвояси. Из старинных индейских преданий и хроник известно также, что до прихода конкистадоров все побережье Мексиканского залива находилось во власти великого правителя ацтеков Монтесумы. Причем одна из многочисленных повинностей местных жителей состояла в том, что они должны были ежедневно доставлять свежую рыбу ко двору грозного владыки Теночтитлана. Чтобы быстрее покрыть огромное расстояние в несколько сот километров, по всему пути – в джунглях и на горных перевалах были устроены заставы с быстроногими и выносливыми гонцами, которые как эстафету передавали корзины с рыбой от одного поста к другому. За сутки они успевали пробежать от побережья Мексиканского залива до ацтекской столицы Теночтитлан.
Согласно другим сообщениям, первыми обитателями этих мест были ольмеки – создатели древнейшей цивилизации Нового Света.
«Их дома были прекрасны, – гласит легенда, – дома с мозаичными инкрустациями из бирюзы, изящно оштукатуренные, были чудесны. Художники, скульпторы, резчики по камню, мастера по изделиям из перьев, гончары и прядильщики, ткачи, искусные во всем, они совершили необычайные открытия и были способны отделывать зеленые камни, бирюзу…»
На плодородных землях предгорий и речных долин возникли и процветали многочисленные города и селения. Неприступная стена горных хребтов защищала страну от жестоких ураганов и ветров с севера, со стороны океана. А тучные нивы ольмеков, даже при минимальной заботе о них, давали неслыханные урожаи маиса, бобов и тыквы, и притом дважды в год. С незапамятных времен длилось это благоденствие, но все на свете имеет свое начало и свой конец. Неведомые враги, пришедшие с запада, черным потоком хлынули на цветущую страну мирных земледельцев. Высокая цивилизация ольмеков была уничтожена, и джунгли поглотили то, чего не успели разрушить чужеземцы.
На долю Мэтью Стирлинга и его товарищей выпала высокая честь – открыть первую страницу в исследовании таинственной ольмекской культуры, которую, казалось бы, навсегда вычеркнули из человеческой памяти мечи завоевателей.
Город, затерянный в джунглях 
Поначалу все было загадочным и неясным. Десятки искусственных холмов-пирамид, бесчисленные каменные монументы с вычурными узорами и ликами правителей или богов, обломки красочной глиняной посуды. И ни одного намека на то, кому же принадлежал этот заброшенный город.
Здесь невольно приходили на память слова, сказанные известным американским путешественником XIX века Стефенсом по поводу древнего памятника, скрытого в джунглях Гондураса, на три сотни миль южнее Трес-Сапотес:
«В разрушенных городах Египта, даже в давно забытой Петре, чужестранец знает в общих чертах историю того народа, следы деятельности которого он видит вокруг. Америку же, по словам историков, населяли дикари. Но дикари никогда не смогли бы воздвигнуть эти здания или покрыть резными изображениями эти камни. Архитектура, скульптура и живопись, все виды искусства, которые украшают жизнь, процветали когда-то в этом девственном лесу. Ораторы, воины и государственные деятели, красота, честолюбие и слава жили и умирали здесь; никто не знал о существовании подобных вещей и не мог рассказать об их прошлом. Город был необитаем. Среди древних развалин не сохранилось никаких следов исчезнувшего народа, с его традициями, передаваемыми от отца к сыну и от поколения к поколению.
Он лежал перед нами, словно корабль, потерпевший крушение посреди океана. Его мачты сломались, название стерлось, экипаж погиб. И никто не может сказать, откуда он шел, кому принадлежал, сколько времени длилось его путешествие и что послужило причиной его гибели.
О его происхождении можно узнать лишь по едва заметному сходству с уже известными нам типами кораблей. А впрочем, не исключено, что мы никогда ничего не узнаем о нем вообще. Все представлялось загадкой, темной и непроницаемой. И каждая новая деталь лишь усложняла ее. В Египте колоссальные остовы храмов стоят среди безводных песков во всей наготе запустения. Здесь же необъятное море джунглей мягко окутывает руины, пряча их от посторонних взоров и окружая ореолом романтики».
Два долгих и утомительных полевых сезона (в 1939 и 1940 годах) было затрачено на раскопки в Трес-Сапотес. Длинные ленты траншей и четкие квадраты шурфов опоясали зеленую поверхность холмов-пирамид. Находки исчислялись тысячами: изящные поделки из голубоватого нефрита, бесчисленные обломки керамики, глиняные статуэтки, многотонные каменные изваяния. Но прежде всего была раскопана знаменитая «голова эфиопа», которая, как оказалось, лежала всего лишь в 100 метрах от лагеря экспедиции. Двадцать рабочих целый день без устали трудились вокруг поверженного исполина, пытаясь освободить его из глубокой лесной могилы. Здесь же толпились и многочисленные зеваки из близлежащих селений. Старики индейцы с самым серьезным видом уверяли Стирлинга, что много лет назад кладоискатели нашли возле идола кучу золота. Тогда была раскопана якобы и верхняя часть туловища колосса, украшенная фигурами двух крокодилов. В дополнение ко всему археологи узнали, что сфотографировать голову совершенно невозможно, поскольку она переворачивается на пленке так, что всегда виден лишь один ее затылок!
«Хотя мы довольно скептически относились к этим рассказам, – вспоминает Стирлинг, – тем не менее наш интерес все более возрастал, по мере того как каменный колосс постепенно освобождался от вязкой глины, совершенно затянувшей его за прошедшие столетия». Наконец все было кончено. Очищенная от земли голова казалась выходцем из какого-то фантастического, потустороннего мира. Несмотря на свои внушительные размеры (высота – 1,8 метра, окружность – 5,4 метра, вес – 10 тонн), она была высечена из одного каменного монолита. Подобно египетскому сфинксу, молчаливо взирала она своими пустыми глазницами на север, туда, где на широкой городской площади совершались когда-то пышные варварские церемонии, а жрецы приносили кровавые жертвы в честь грозных языческих богов. О, если бы каменные уста истукана смогли бы вдруг раскрыться и он обрел бы на миг дар речи, многие забытые страницы из прошлого Америки стали бы для нас так же хорошо известны, как и история Египта, Греции или Рима!
Но каким образом доставили древние жители Трес-Сапотес эту огромную глыбу базальта в свой родной город, если ближайшее месторождение такого камня находится в нескольких десятках километров?
Подобная задача поставила бы в тупик даже современных инженеров. А пятнадцать-двадцать веков назад это было сделано ольмеками без помощи колесного транспорта и тягловых животных – у них, как и у остальных американских индейцев, попросту не было ни того, ни другого, – только руками человека. И тем не менее гигантский монолит, доставленный каким-то чудом – и не по воздуху, а по земле, через джунгли, реки, болота и овраги, – гордо стоит теперь на центральной площади города как величественный памятник упорству и труду безвестных мастеров древности.
В ходе исследований выяснилось, что в Трес-Сапотес имеется не одна, а целых три гигантских головы. Вопреки широко распространенным среди индейцев слухам, эти каменные колоссы никогда не имели туловища. Древние скульпторы заботливо поставили их на специальные низкие платформы из каменных плит, у подножия которых располагались подземные тайники с дарами богомольцев. Все эти изваяния высечены из крупных глыб твердого черного базальта. Их высота колеблется от 1,5 до 3 метров, а вес – от 5 до 40 тонн. Широкие и выразительные лица гигантов с пухлыми вывернутыми губами и раскосыми глазами настолько реалистичны, что вряд ли приходится сомневаться – перед нами портреты каких-то исторических персонажей, а не лики заоблачных богов. По мнению Мэтью Стирлинга, это изображения наиболее выдающихся ольмекских вождей и правителей, увековеченных в камне их благодарными подданными.
Загадка каменных изваяний 
У основания одного из холмов археологам удалось обнаружить большую каменную плиту, поваленную наземь и разбитую на два куска примерно равной величины. Вся земля вокруг нее была буквально усыпана тысячами острых осколков обсидиана, принесенных сюда, вероятно, в древности в качестве ритуального дара. Правда, рабочие-индейцы имели на этот счет свое особое мнение. Они считали, что осколки обсидиана – это «громовые стрелы», а сама стела разбита и повалена на землю от удара молнии. Из-за того, что монумент лежал резной поверхностью вверх, скульптурные изображения его сильно пострадали от времени, хотя главные элементы еще вполне различимы. Центральную часть стелы занимает фигура человека, высеченная почти в полном рельефе. По обеим сторонам от него запечатлены еще две фигуры меньшего размера. Один из персонажей держит в руке отрубленную человеческую голову. Над всеми этими фигурами как бы парит в воздухе какое-то небесное божество в виде громадной стилизованной маски.
Найденная стела (стела «А») оказалась самой крупной из всех стел, известных в Трес-Сапотес. Почти прямо на восток от нее находился низкий продолговатый холм, у которого был виден выступающий из земли край какого-то разбитого каменного ящика. «Мы расчистили его, – пишет М. Стирлинг, – и результаты этих небольших раскопок превзошли наши самые смелые ожидания. Каменный ящик представлял собой прекраснейший образец скульптуры из Трес-Сапотес. Он имел полтора метра в длину и слегка выпуклые бока, так что размеры его днища были меньше, чем устье. Поверхность каждой из четырех сторон покрывала необычайно сложная и великолепно исполненная резьба. Пышный орнамент в виде завитков сочетается с несколькими человеческими фигурами. Впрочем, скорее всего, это не люди, а боги, столкнувшиеся в жестокой космической схватке. Лица богов имеют типично майяский облик. Но зато характер остальной резьбы абсолютно уникален».
«Находка века» 
Современные археологи всегда работают в поле по строго определенному плану, и, конечно же, они в состоянии предугадать в известных пределах общий характер своих будущих находок. Однако его величество случай, простое везение никак не приходится сбрасывать со счетов. Можно десятки лет искать в земле подтверждение своей гипотезы и пройти буквально в пяти сантиметрах от желанной находки. С другой стороны, какое-нибудь случайное открытие вызывает порой коренные перемены во всей системе сложившихся взглядов на прошлое того или иного народа. Именно о таком случайном открытии и пойдет ниже речь. Это произошло 16 января 1939 года.
«Ранним утром, – пишет Стирлинг, – я отправился в самую дальнюю часть археологической зоны, мили за две от нашего лагеря. Цель этой не слишком приятной прогулки состояла в том, чтобы осмотреть один плоский камень, о котором еще несколько дней назад сообщил один из наших рабочих. По описаниям камень очень напоминал стелу, и я надеялся найти на ее оборотной стороне какие-нибудь скульптурные изображения. Стоял невыносимо жаркий день. Двенадцать рабочих и я затратили неимоверное количество усилий, прежде чем с помощью деревянных шестов нам удалось перевернуть тяжелую плиту. Но, увы, к глубочайшему моему сожалению, обе ее стороны оказались абсолютно гладкими. Тогда я вспомнил, что какой-то индеец говорил мне еще об одном камне, валявшемся неподалеку, на крохотной мильпе крестьянина со странным именем Санто Сапо. Эта мильпа находилась на ровной площадке у подножия самого высокого искусственного холма Трес-Сапотес. Камень был столь невзрачен на вид, что я, помнится, еще подумал, стоит ли вообще его раскапывать. Но расчистка показала, что он в действительности гораздо больше, чем я полагал, и что одну из его сторон покрывали какие-то резные рисунки, правда, сильно попорченные от времени. Другая же сторона стелы была, по-видимому, совершенно гладкой. Как ни пытался я разобраться в едва заметных линиях резьбы, все было напрасно. Тогда, решив скорее закончить порядком надоевшую работу, я попросил индейцев перевернуть обломок стелы и осмотреть его заднюю часть. Рабочие, стоя на коленях, стали очищать поверхность монумента от вязкой глины. И вдруг один из них крикнул мне по-испански: „Начальник! Здесь какие-то цифры!“ И это действительно были цифры. Я не знаю, правда, каким образом догадались об этом мои неграмотные индейцы, но там поперек оборотной стороны нашего камня были высечены прекрасно сохранившиеся ряды черточек и точек – в строгом соответствии с законами майяского календаря. Передо мной лежал предмет, который все мы в душе мечтали найти, но из суеверных побуждений не осмеливались признаться об этом вслух».