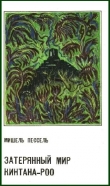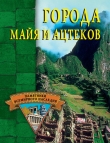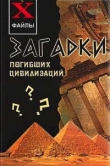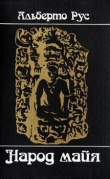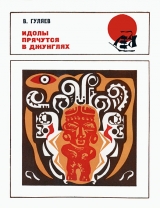
Текст книги "Идолы прячутся в джунглях"
Автор книги: Валерий Гуляев
Жанр:
Повесть
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 11 страниц)
Идолы с закрытыми глазами 
«Вот начало старинных преданий о тех, кто в этой местности носит имя киче. Здесь мы все напишем. Мы начнем с древних историй, с начала и происхождения всего того, что было совершено… племенами народа киче». Это многообещающее заявление – отрывок из старинного эпоса майя-киче «Пополь-Вух» – единственный дошедший до нас документ о происхождении одного из народов майя, обосновавшегося впоследствии в горах Гватемалы. Давным-давно, в незапамятные времена, говорится там, в мире не было ничего живого. «Не было ничего, что существовало бы …была только лишь холодная вода, спокойное море, одинокое и тихое… В темноте, в ночи была только лишь неподвижность, только молчание. Одни лишь Создательница и Творец, Тепеу и Кукумац, Великая мать и Великий отец, находились в бесконечных водах». А затем боги создали небо и землю, растения, птиц и животных, и, наконец, после нескольких неудачных попыток, – первых людей, родоначальников народа киче. «Только тесто из кукурузной муки, – гласит „Пополь-Вух“, – пошло на плоть наших первых отцов, четырех людей, которые были созданы». Сами того не подозревая, создатели этого древнего эпоса сказали об истоках цивилизации майя неизмеримо больше, чем груды псевдонаучных фолиантов не столь уж далеких от нас времен. Сейчас для многих ученых все очевиднее становится тот факт, что наиболее выдающиеся цивилизации Нового Света обязаны своим рождением успехам земледелия, и прежде всего земледелия, основанного на выращивании кукурузы.
Первые шаги раннеземледельческих культур на территории майя – так называемый раннеархаический этап (1500-900 годы до н. э.) – обнаружены археологами уже, по крайней мере, в трех местах; причем два из них находятся на тихоокеанском побережье Гватемалы. В конце 50-х – начале 60-х годов Майкл Ко самым тщательным образом раскопал здесь древние поселения земледельцев в Ла Виктории и Салинас Ла Бланка, ранние этапы которых относятся как раз к 1500-900 годам до н. э. Точно такую же картину наблюдали ученые и в ходе раскопок древнейших напластований Чиапа де Корсо, в мексиканском штате Чиапас. Эти первые, непрочные еще порождения оседлого образа жизни, пройдя долгий тернистый путь через несколько последовательных ступеней развития, приводят в конце концов к появлению блестящей цивилизации майя классического периода.
К концу первого тысячелетия до н. э. и на плодородных равнинах тихоокеанского побережья, и в суровых горах Мексики и Гватемалы существовали необычайно сложные и высокоразвитые индейские общества, которые, видимо, уже успели перейти тот роковой рубеж, который отделяет порядки первобытно-общинного строя от жестких рамок деспотического государства. В самом центре горной Гватемалы достигает невиданного расцвета огромный город Каминальуйю, с его бесчисленными пышными храмами, высокими пирамидами и рядами внушительных алтарей и стел из камня, сплошь испещренных затейливой резьбой. На этих стелах высечены письмена и сложные календарные расчеты майяских жрецов. Есть все основания предполагать, что именно эти признаки незаурядного таланта и обширных научных познаний местных мудрецов, оказали решающее влияние на происхождение цивилизации «Древнего царства» майя, главные центры которого находились далеко на севере, в тропических лесах Юкатана и Петена.
В то же самое время на плодородной равнине тихоокеанского побережья Гватемалы возникло необычайно сложное и вычурное искусство, названное по месту первой находки «стилем Исапа». Его бесчисленные, перегруженные символикой изваяния из камня напоминают одновременно и Ла Венту и Трес-Сапотес. Змея, обезьяна и небесная птица, боги в масках и причудливые завитки орнамента одинаково часто встречаются здесь, воплощенные в камне искусным резцом безымянного мастера майя. Но ведь именно эти мотивы долгое время считались привилегией чисто ольмекского искусства.
«Ольмеки, – пишет известный американский специалист по культуре древних майя, доктор Татьяна Проскурякова, – были скорее воспринимающей, нежели изобретающей стороной по отношению к этим общим чертам искусства».
И для такого вывода есть все основания. Стелы и алтари с календарными датами «Длинного счета» майя и первыми иероглифическими надписями появились почти одновременно в Трес-Сапотес, на тихоокеанском побережье Гватемалы, в Чиапасе (Чиапа де Корсо) и в Каминальуйю. Из четырех названных районов по меньшей мере в трех, бесспорно, жили тогда непосредственные предки майя.
Вся плодородная равнина между горными хребтами Гватемалы и Тихим океаном покрыта полуоплывшими земляными холмами. По-английски их называют «маунд», по-испански «колина» или «монтикуло». В большинстве случаев под ними скрыты остатки древнейших городов и селений. Они служат как бы могильными холмами огромного кладбища индейской культуры, растянувшегося на сотни миль вдоль лазурных вод океана. Что скрывается под ними? Какие сокровища древних цивилизаций? Долгое время об этом можно было только гадать. Тихоокеанское побережье и сейчас одно из крупнейших белых пятен на археологической карте Центральной Америки.
Наиболее одаренные археологи западного полушария, словно сговорившись, стыдливо избегали до поры до времени этих пустынных, забытых богом земель. Но неизвестность всегда богата сюрпризами. И вот в 1965 году американка Сьюзен Майлз пробила наконец этот «заговор молчания», объявив об открытии близ Монте-Альто каких-то огромных и неизвестных доселе скульптур. Они были высечены на больших округлых валунах и изображали толстых «карликов» или детей с пухлыми щеками, брезгливо поджатыми тонкими губами, широким, приплюснутым носом и закрытыми, словно во сне, глазами. Их руки согнуты в локтях почти под прямым углом, а ноги неестественно скорчены, упираясь ступнями друг в друга. Рядом рабочие выкопали из-под земли еще одно каменное «чудище» – гигантскую голову в несколько тонн весом. Глаза этого каменного исполина тоже были плотно закрыты, имитируя глубокий сон или смерть. Правда, некоторые ученые по старой привычке поспешили приписать скульптуры из Монте-Альто ольмекам. «Разве не жители Тамоанчана первыми стали высекать из базальта этих каменных исполинов?» – торжествующе вопрошали они своих оппонентов. Но на этот раз их доводы были явно несостоятельны. Общий стиль гватемальских изваяний не имел никакого сходства с творениями ольмекских мастеров. К тому же первые были гораздо проще и грубее по виду, чем хорошо известные каменные шедевры Ла Венты, Сан-Лоренсо или Трес-Сапотес.
Ровно через два года другой известный ученый – швейцарец Рафаэль Жирар – с помощью местных крестьян нашел на тихоокеанском побережье Гватемалы еще целый ряд скульптур, поразительно похожих на только что описанные. В Эль-Трансито ему повстречалась вторая гигантская голова с закрытыми глазами. А в Ла Гомера заступы рабочих неожиданно наткнулись в земле на изваяние толстого ребенка с короткими, странно подогнутыми ручками и ножками. Его глаза также были закрыты. Тогда Жирар заложил вокруг найденных скульптур глубокие шурфы, с тем чтобы «привязать» своих «младенцев» к остаткам некогда процветавшей здесь древней культуры. Но, увы, добыча его оказалась на удивление бедна: всего несколько жалких обломков глиняной посуды. Каменные истуканы умели хранить свою тайну. Правда, особой точности в хронологических выкладках здесь и не требовалось. Было ясно, что вновь найденные статуи имеют весьма почтенный возраст. И поскольку в хорошо известных находках «стиля Исапы» или Каминальуйю конца первого тысячелетия до н. э. такие изваяния никогда не встречались, то они, видимо, относились к еще более ранней эпохе.
Многие авторитетные ученые приписали гватемальским скульптурам доольмекское происхождение и на этом основании объявили культуру местных индейцев «культурой-родоначальницей» всех других цивилизаций Центральной Америки. Но если даже это и не так, то идолы с тихоокеанского побережья все равно по меньшей мере относятся к одному времени с древнейшими каменными статуями с территории ольмеков.
Если мы заглянем в глубины истории Веракруса и Табаско, то нетрудно убедиться, что и сами ольмеки, начиная с конца второго тысячелетия до н. э., прошли примерно такой же путь развития, как и майя.
Мало чем уступали ольмекам по своему развитию и другие народы Центральной Америки: сапотеки, обосновавшиеся в горах штата Оахака и предки нахуа из Центральной Мексики (культура Теотихуакана). Видимо, все они пришли к порогу цивилизации более или менее одновременно – в конце первого тысячелетия до н. э. – начале н. э. И в таком случае места для одной особой культуры-родоначальницы, давшей жизнь всем остальным высоким культурам, уже не остается. И в самом деле, в I веке до н. э., то есть когда на территории Центральной Америки впервые появляются осязаемые следы цивилизации в виде письменности и календаря, майя возвели на отвоеванных у джунглей площадях свои первые города с каменными дворцами и храмами, красочными фресками и пышными гробницами царей. Нахуа построили в долине Мехико гигантские пирамиды Теотихуакана, превосходящие по размерам египетские. Сапотеки Монте-Альбаны создали наиболее ранние во всем западном полушарии формы иероглифической письменности и календаря. Таким образом, первоначальных очагов цивилизации было в Мексике несколько, и все они поддерживали между собой какие-то определенные связи, взаимно обогащая и развивая свою оригинальную культуру.
Открытия, которых еще не было 
Ольмекская археология насчитывает сейчас чуть больше ста лет от роду. В 1867 году Хосе Мельгар, выпустив в свет первое печатное сообщение о гигантской голове «эфиопа» из Трес-Сапотес, положил тем самым начало подлинному изучению забытой индейской культуры, затерявшейся в лесах Веракруса и Табаско. Однако широкие научные раскопки ольмекских древностей стали реальностью только в конце 30-х годов, когда Мэтью Стирлинг и его коллеги заложили первые метры шурфов и траншей на зеленых склонах холмов Ла Венты и Трес-Сапотес. Таким образом, археологические исследования на территории страны Тамоанчан ведутся еще ничтожно малый срок – всего каких-нибудь тридцать – тридцать пять лет. Стоит ли поэтому удивляться, что многие проблемы вековой ольмекской загадки не могут быть решены и по сей день? За прошедшие тридцать лет археологи Мексики и США с пунктуальной точностью нанесли на топографическую карту целую страну, укрытую от внешнего мира почти непроходимым барьером джунглей и болот. Были открыты и осмотрены десятки заброшенных ольмекских городов и селений, но, правда, лишь четыре из них подверглись основательным раскопкам: Трес-Сапотес, Ла Вента, Сьерро де Лас-Месас и Сан-Лоренсо. Несмотря на то, что многое в культуре ольмеков остается нам неизвестным, археологи добились немалых успехов в изучении основных этапов ее развития. Специфические стили искусства и архитектуры были «привязаны» к определенным географическим пунктам и хронологическим периодам. Ученые восстановили многие черты повседневной жизни ольмеков и характер той эпохи в целом. Мы хорошо знаем теперь даже внешний облик древних жителей страны Тамоанчан, навсегда запечатленный безымянными художниками в лицах каменных статуй. Однако вскоре все убедились, что добытые с таким трудом сведения о прошлом погибшей цивилизации отнюдь не уменьшают числа нерешенных проблем. Цивилизация ольмеков была наиболее трудной загадкой из тех, с которыми археологи сталкивались до сих пор. Откуда пришли ольмеки в Веракрус и Табаско? Были ли они исконными обитателями этих мест? Что привело к гибели их блестящую культуру, бесследно исчезнувшую с исторической арены за восемь веков до того, как «великий генуэзец» увидел туманные берега Нового Света? И «кто есть кто?» среди ольмеков и майя?
Таким образом, проблема происхождения и гибели загадочного индейского народа, населявшего в свое время обширные пространства Южной Мексики, и поныне остается главной проблемой для всех исследователей, занимающихся доколумбовой историей Нового Света. Смелых гипотез здесь хоть отбавляй. Но всякое подлинно научное исследование основано на упорном и кропотливом труде. Работа ученого тоже невозможна без мечты, без полета фантазии, но главное в ней прочный фундамент реальных фактов и доказательств. И нужно сказать, что поиски таких реальных фактов ведутся сейчас, как никогда, настойчиво и целеустремленно.
Во вновь открытом центре ольмекской культуры – Пьедра Парада – вот уже несколько лет работает большая экспедиция мексиканских археологов из Национального института антропологии и истории. Неутомимый Майкл Ко собирается в будущем году вновь попытать счастья среди руин ольмекских городов. На этот раз его внимание привлек крупнейший из известных ныне памятников ольмеков – Лагуна де Лос-Серрос в Веракрусе. Там уже незадолго до этого прямо на поверхности были найдены десятки изумительных каменных изваяний.
Маститый мексиканский ученый Медельин Сениль из университетского музея города Халапы, столицы штата Веракрус, продолжает свою необычайно важную работу по сбору информации о каждой ольмекской скульптуре, обнаруженной на этой территории. Именно в ходе таких изысканий он наткнулся на совершенно до того неизвестный город ольмеков – Син Кабесас («Безголовые»). Это название родилось из-за обилия поврежденных и обезглавленных статуй, выглядывавших буквально на каждом шагу из-под ядовито-зеленой листвы джунглей. Планируется дальнейшее изучение Ла Венты, вызвавшей среди ученых столько горячих споров и волнений. Большое внимание уделено и раскопкам небольших земледельческих поселений страны Тамоанчан.
Одновременно не прекращаются и настойчивые поиски по переосмыслению уже добытых археологами фактов. Здесь находится поистине непочатый край для самой серьезной работы. Многие прежние выводы и предположения давно устарели. Другие, даже сравнительно недавно появившиеся на свет взгляды, носят более чем спорный характер. Есть наряду с этим и вполне очевидные вещи.
Какое широкое поле для плодотворных дискуссий! Какая удивительная возможность для творческого приложения сил ученых самых разных специальностей! Лингвисты могут путем тщательного анализа уцелевших ольмекских надписей решить наконец вопрос о соотношении иероглифических систем письма, созданных ольмеками и майя.
Искусствоведы имеют здесь хороший шанс сопоставить знаменитую каменную скульптуру страны Тамоанчан с другими художественными стилями доколумбовой Мексики и, выделив таким образом общее и особенное, определить степень влияния ольмеков на соседние народы и наоборот. Этнографы, опираясь на богатейшие источники о религии, быте и культуре современных мексиканских индейцев, в состоянии объяснить многие темные моменты ольмекской истории, известные нам пока лишь по немым археологическим находкам. Не следует сбрасывать со счета и возможность определенного влияния на ольмеков со стороны какого-нибудь еще не известного нам очага культуры, расположенного в пределах Мексики и Центральной Америки. Но больше всего для решения загадки ольмеков могут и должны сделать сами археологи. Не знаю, насколько это было убедительно, но в заключительной главе я попытался показать, что существующие ныне хронологические схемы развития ольмекской культуры (даже, когда они созданы таким талантливым ученым, как профессор Майкл Ко) еще никак не могут нас удовлетворить. Недавно полученные радиоуглеродные даты для Ла Венты и Сан-Лоренсо крайне ненадежны уже хотя бы в силу несовершенства самого этого метода. «Не говоря уже о том, что допускаемая ошибка в 50-100 и больше лет слишком велика, – пишет советский археолог А. Л. Монгайт, – некоторые анализы, вследствие разных причин, мешающих точному измерению, иногда из-за загрязнения проб современным углеродом, дают даты, находящиеся в очевидном противоречии с историей». Археологии должны помочь сами археологи с помощью своих надежных и проверенных временем методов – типологии и стратиграфии. Необходимо тщательно изучить по тысячам фрагментов ольмекской керамики ее разнообразные узоры и формы, и тогда доселе безмолвные обломки древней посуды превратятся в полновесный исторический документ. Как воздух нужны и новые стратиграфические раскопки, с тем чтобы проверить и уточнить глубину залегания наиболее характерных типов ольмекской керамики, орудий труда, статуэток и, что особенно важно, каменных изваяний.
Загадки, проблемы, нерешенные вопросы – они встречаются в стране ольмеков буквально на каждом шагу. Даже драматический закат этой блестящей культуры во многом остается для нас неизвестным. Последние сведения об ольмеках – строителях Ла Венты и Сан-Лоренсо встречаются в виде надписей на стенах древнего города Серро де Лас-Месас в VI веке. Стали ли тамоанчанцы жертвами внутренних потрясений и социальных бурь или же их, как впоследствии это случилось и с майя, смела с лица земли волна завоевателей-чужеземцев, мы пока точно не знаем. Во всяком случае, после VI века н. э. никаких надежных археологических свидетельств о существовании ольмекских городов и селений уже не встречается.
Иной неискушенный читатель, видя такое обилие вопросительных знаков, может с полным правом спросить: а стоило ли вообще писать популярную книгу по проблеме, о которой нет даже видимости согласия среди самих археологов-специалистов?
Дело в том, что в настоящее время «ольмекская проблема» самая жгучая и сложная проблема американской археологии. От того или иного ее решения во многом зависит и общий взгляд на всю тысячелетнюю историю цивилизации доколумбовой Америки. И если читатель имеет сейчас возможность взвесить все «за» и «против» изложенных выше точек зрения и в зависимости от их убедительности вполне осмысленно встать на ту или иную сторону в великом споре умов, то это совсем не лишняя вещь при решении запутанных загадок-древности. Немаловажно и то, что подобные знания позволяют даже неподготовленному человеку критически оценить широко бытующие, к сожалению, в популярной литературе скоропалительные и однозначные выводы по поводу цивилизаторской миссии ольмеков на Американском континенте. Так, журналист А. М. Кондратов в своей книге «Погибшие цивилизации» утверждает, что «ольмекам обязана цивилизация Центральной Америки точным календарем, иероглифической письменностью, основными принципами архитектуры и монументальной скульптуры, зачатками астрономии и математики». Здесь каждое слово по меньшей мере спорно. И, на мой взгляд, будет гораздо лучше, если хотя бы по наиболее сложным проблемам древней истории популяризаторы науки воздержатся от слишком прямолинейных утверждений. Задача популярных книг не только говорить прописные истины, но и заставить читателя думать над аргументами спорящих сторон.
В январе 1969 года профессор Майкл Ко прислал мне свою еще пахнувшую свежей типографской краской книгу «Первая цивилизация Америки». Стоит ли говорить, с каким нетерпением перелистывал я ее страницы, буквально впитывая в себя захватывающий рассказ очевидца и прямого участника многих событий, связанных с успехами ольмекской археологии. «Мы в огромном долгу у таких народов, как ольмеки, – пишет в конце своей книги Майкл Ко. – Многие современные страны, и прежде всего Мексика, выросли на богатом наследии доиспанской культуры, берущей свои истоки от ольмекской цивилизации подобно тому, как мы, североамериканцы, являемся наследниками европейско-средиземноморской культуры, уходящей своими корнями к шумерам, египтянам, грекам и этрускам… И первая цивилизация Америки, часть этого общего древнего наследия, подает нам – далеким потомкам – через бездну столетий свой голос в виде нетленных творений человеческого гения и культурных достижений той эпохи».
Полные сил и энергии, во всеоружии современной техники и знаний отряды археологов из разных стран яростно штурмуют сейчас неприступные бастионы старой ольмекской загадки. Рано или поздно, но они вырвут у молчаливых джунглей их нераскрытую тайну, и ольмекская цивилизация во всем своем блеске предстанет перед изумленным взором человека сегодняшнего дня.

Послесловие
Поездки в Мексику все больше убеждают меня в том, что традиционная мексиканская экзотика стала уходить на второй план… И все больший интерес проявляется к загадочному и таинственному прошлому этой страны.
Прилетевшего в Мексику иностранца теперь ведут не на бой быков или на площадь Гарибальди, где собираются марьячис, а в Музей антропологии или на площадь Трех культур.
Огромное здание Музея антропологии расположено в тенистом парке Чапультепек. Перед входом стоит гигантский, вытесанный из камня бог дождя Тлалок. Ему поклонялись древние жители Мексики. Бога нашли где-то далеко от столицы в горах и везли его оттуда на специальной платформе.
В больших, хорошо освещенных залах музея с поразительным художественным вкусом расставлены древние орудия труда индейцев, предметы быта, вывешены картины, рассказывающие о прошлом, сделаны макеты древних поселений.
Много удивительного можно узнать, бродя по залам музея в Чапультепеке. У древних индейцев Мексики была высоко развита хирургия. В большом почете у них были спортивные игры, и одна из них, тлачтли, очень напоминала современный баскетбол. На заре развития человечества у индейцев были свои обсерватории и свой солнечный календарь, отличавшийся большей точностью, чем европейский. В цифровой системе индейцев раньше, чем в Европе, Индии и арабском мире, появилось понятие нуля.
Долго я бродил по удивительным залам Музея антропологии. Было жаль покидать этот удивительный уголок прошлого Мексики. Но всякое свидание когда-то кончается. Я пошел к выходу – и тут вдруг обратил внимание на огромную белую стену, на которой золотом высечены такие слова: «Веру в будущее народы найдут в величии своего прошлого. Пусть проходят цивилизации, но люди всегда будут помнить тех, кто жил прежде и кто создал мир, в котором мы живем».
Мне представляются очень мудрыми эти слова и не менее мудрым решение мексиканцев создать в своей столице площадь Трех культур. Эта площадь находится почти в самом центре города. Здесь были снесены дома колониального периода, снят верхний слой земли и обнажены остатки древних пирамид ацтекской столицы Теночтитлан.
Новая площадь Трех культур – символ величия прошлого индейской столицы. Перед людьми открылись древние пирамиды Теночтитлана. Неподалеку от них стоит испанский храм Сантьяго Тлателолко – темные стены, бойницы вместо окон. Именно такими и были века испанского владычества. Но теперь вокруг площади поднялись многоэтажные дома. На их фоне испанский храм кажется маленьким и ничтожным.
Не только в столице открыты для обозрения памятники прошлого. В разных уголках страны с каждым годом все больше и больше открывается памятников старины. Это пирамиды, это прекрасные дворцы, это скульптуры. Несколько веков они пролежали в джунглях под толстым слоем земли. Мексиканские археологи снимают вековой покров земли, и перед нами во всей красоте предстают творения рук древних индейцев.
Когда осматриваешь древние города мексиканских индейцев, то в тебе борются разные чувства. Сомнения перемежаются с восторгом, восторг с удивлением. Удивительно не только то, что индейцы могли строить такие огромные пирамиды, такие прочные дворцы. Удивляет та архитектурная точность, с которой они это делали, ощущение линий, неповторимое мастерство скульпторов того времени. Сотни лет в земле пролежала искусно вырубленная из монолита голова индейца ольмека. Голова эта весит несколько десятков тонн. Ее вырубили из монолита высотой 4 метра и шириной 3. Трудно даже представить, как могли индейцы передвинуть такой кусок скалы и обработать его. А с какой филигранной точностью сделан этот скульптурный портрет! В нем видно все: и настороженное выражение глаз индейца, и чуть нахмуренный лоб, и немного приплюснутый нос, и резко очерченный чувственный рот. Сколько потребовалось труда, чтобы вырубить из огромной глыбы такой удивительный по художественному воздействию скульптурный портрет индейца ольмека!
Должно быть, тогда жили великие люди.
Часто на широких автострадах Мексики, по которым так лихо проносятся автомобили, увидишь индейцев. Идут они по обочине один за другим – гуськом. На индейцах широкие рубахи навыпуск, короткие штаны. Тяжелая ноша за плечами. У женщин за спиной в плетеных мешках дети.
Идут индейцы молча, не глядя по сторонам. У них свой мир, непохожий на тот, в котором живут мексиканцы, проносящиеся на автомобилях по асфальту.
Но именно предки этих индейцев были хозяевами мексиканской земли. Это они десять, пятнадцать и даже двадцать веков назад создали поразительную по своему уровню цивилизацию, построили неповторимые по своей красоте и архитектурному вкусу города Чичен-Ицу, Паленке и Теночтитлан. Мы можем сейчас только гадать о том, как развивалась бы древняя цивилизация индейцев в Мексике, если бы на берег этой земли не высадились испанские завоеватели. Именно с этого дня началась печальная история мексиканских индейцев. Огнем и мечом испанцы уничтожали великие достижения народа, живущего на этой земле. Они хотели уничтожить все, что было до них на этой земле. Они хотели, чтобы жизнь здесь началась с нуля по тем законам и правилам, которые господствовали в Европе. Вот почему сжигались драгоценные рукописи майя. Вот почему великий город ацтеков Теночтитлан был дотла уничтожен испанскими завоевателями. На этом месте они воздвигли свои католические храмы, свои дворцы, которые были похожи на дворцы в Мадриде и Валенсии.
С тех пор вот уже четыре с лишним века происходит падение жизненного уровня индейцев, их духовное и физическое порабощение. Поначалу индейцев теснили испанские завоеватели. Они захватывали лучшие земли, прибрежные леса, они оттесняли индейцев от богатых месторождений золота, серебра, платины. Впоследствии, когда начался промышленный прогресс Мексики, снова страдали индейцы. Строительство новых городов, фабрик, расширение латифундий – все это шло за счет того, что индейцев оттесняли с хороших земель. Конечно, многие индейцы становились батраками в помещичьих хозяйствах. Но города, фабрики, латифундии не могли принять всех индейцев, и они уходили в глубь страны искать новые земли и основывать новые поселения. Так и сохранились до наших дней индейские деревни, в которых свои законы, свой, индейский образ жизни и свой древний индейский язык.
По официальным данным, в Мексике насчитывается более трех миллионов таких индейцев. Этнографы считают эту цифру явно заниженной.
Слово «индеец» в Мексике произносят с любовью и грустью. Ведь у большинства мексиканцев течет индейская кровь. Они полны доброжелательства к своим «нецивилизованным» собратьям. В столице есть Национальный индейский институт, который иногда направляет к индейцам учителей и врачей. Но чтобы кардинально решить индейскую проблему, нужны огромные средства и плодородные земли. А денег на это у правительства нет, и плодородные земли уже давно все заняты.
Так и живут миллионы индейцев в «своих уголках», подальше от главных дорог, по соседству с непроходимыми болотами, пустынями и скалистыми горами.
Много раз я посещал индейские деревни в Мексике. Но особенно памятно мне одно путешествие: к индейцам масатекос.
На юге Мексики, там, где властвуют над землей тропические леса, сейчас можно встретить поселения индейцев масатекос.
Кажется даже странным, что в наш XX век сохранились еще на земле такие селения.
…Около маленького провинциального магазина проселочная дорога кончилась, и я вылез из грузовика-вездехода. За магазином плотной стеной стоял тропический лес.
– Хосе! – крикнул шофер и два раза нажал на сигнал.
На пороге магазина появился хозяин, невысокий толстый человек в шляпе, похожей на ковбойскую.
– Этому человеку нужны лошади и проводники. Он поедет к масатекос.
Хосе пригласил меня в магазин. После яркого солнечного света в магазине показалось темно. Чего только не было в этой лавке: веревки, подковы, сушеное мясо, бананы, топоры и лопаты… Рядом с прилавком стоял стол.
– У нас тут, конечно, не ресторан, – сказал Хосе и, сняв шляпу, несколько раз махнул над столом, отчего мухи, сильно жужжа, взвивались к потолку. – Садитесь!
Хосе поставил передо мной бутылку кока-колы и ушел.
Вскоре послышались ржание лошадей, непонятный гортанный говор. Два индейца с большим мачете на поясе и винтовками за спиной держали под уздцы лошадей.
Хосе сговорился с ними о цене, и мы тронулись в путь.
Лошади тянулись одна за другой по узкой лесной тропинке. Джунгли подступали с обеих сторон и, казалось, хотели остановить нас.
На небольшой поляне мы остановились и слезли с лошадей. Чтобы размяться, я сделал несколько шагов в сторону леса.
Проводник закричал:
– Стойте!
Я оглянулся вокруг, но ничего опасного не заметил. Проводник схватил меня за руку и подвел к лошади. Потом стал что-то торопливо счищать с моих брюк. Но на брюках я ничего не увидел.
Оказалось, он счищал пинолильос. Эти насекомые невидимы для глаза. Они как пыльца – живут на листьях, на траве. Они проникают в поры кожи, и тогда появляется нестерпимый зуд. Это я испытал на себе, несмотря на то, что проводник так старательно счищал пинолильос с моих брюк. Страдая от нестерпимого зуда, я всю остальную часть пути думал о том, сколько всевозможных ужасов поджидают человека в этом лесу. Наши слова «заблудился в лесу» совсем не подходят к джунглям. Там можно пропасть. Пропасть можно, даже когда знаешь дорогу. Хорошо, что сейчас впереди и сзади вооруженные проводники.
Деревня индейцев масатекос предстала перед нами как-то неожиданно. Вдруг джунгли расступились, и я увидел большую, залитую солнцем поляну, на которой в беспорядке расставлены маленькие хижины, сделанные из тонких палок, похожих на бамбук, и покрытые листьями пальм.
Мое появление в деревне вызвало всеобщее оживление. Женщины в длинных самотканых платьях с красными полосами на груди, почти обнаженные мужчины, голые ребятишки наперегонки сбегались на дорогу и недоверчиво, с любопытством осматривали меня, особенно мои сумки и фотоаппараты. Проводники о чем-то говорили собравшимся, но шум не уменьшался.
Может быть, шум и не утих бы, если бы не появился Маурилио, представитель Национального индейского института, с которым мы познакомились в столице. Он увел меня в свою хижину.
В хижине дымил небольшой костер, бросая блики на стены и на лица людей. Мы сели вокруг костра. Принесли большую корзину с душистыми плодами манго. Обдирая золотистую кожу плодов, мы вели неторопливый разговор.