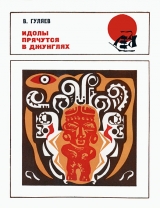
Текст книги "Идолы прячутся в джунглях"
Автор книги: Валерий Гуляев
Жанр:
Повесть
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц)
И здесь на память невольно приходит описание одного варварского обычая, широко распространенного когда-то у многих народов древности. По их представлениям царь или вождь был своеобразным средоточием магических сил, управляющих жизнью природы и человека. Он несет ответственность за хороший урожай, за обильный приплод скота и за плодовитость женщин всего племени. Ему оказываются чуть ли не божественные почести. Он вкушает все доступные блага жизни, наслаждаясь роскошью и покоем. Но однажды приходит день, когда священный царь должен сполна расплатиться и за свои богатства, и за свою непомерную власть. И единственная плата, которую он обязан отдать своему народу – его собственная жизнь! По древнему обычаю, народ не может ни минуты терпеть на престоле ослабевшего, больного или стареющего царя, поскольку от состояния его здоровья зависит благополучие всей страны.
Наступает трагическая развязка. Старого правителя убивают, а на его место выбирают молодого, полного сил преемника. Этот ужасный цикл убийств и коронаций продолжался во многих странах Африки и Азии сотни лет.
Кто знает, может, и нам удалось по воле случая увидеть во всей полноте трагическую завязку этого страшного ритуала, который с таким блеском был разыгран каменными человечками из Ла Венты? Пока мы можем только гадать на этот счет. Интересно другое. Много лет спустя после того, как эти маленькие человечки были погребены в толще земли, кто-то пробил над ними через все наросшие напластования узкий колодец, осмотрел фигурки и затем снова тщательно замаскировал отверстие глиной и камнями. Благодаря этому непонятному акту мы можем теперь предполагать, что ольмекские жрецы располагали какими-то точными записями, чертежами или планами всех культовых сооружений и святынь своей столицы. Иначе каким образом смогли бы они так безошибочно определить местонахождение крохотного тайника с фигурками спустя столь длительный срок после его сооружения?
Поклонники ягуара 
Если бы все произведения древнего искусства ольмеков были вдруг выставлены в залах одного большого музея, то посетители его сразу бы обратили внимание на одну странную деталь. Из каждых двух-трех скульптур одна обязательно изображала бы ягуара или же странное существо, сочетающее в себе черты ребенка и ягуара.
Когда очутишься в таинственном зеленом полумраке южномексиканских джунглей, легко понять почему ольмекские мастера с таким фантастическим упорством старались запечатлеть в камне образ этого свирепого зверя. Один из наиболее могучих хищников западного полушария, грозный владыка тропической сельвы – ягуар был для индейцев не просто опасным зверем, но и воплощением сверхъестественных сил, почитаемым предком и богом. В религиях различных племен древней Мексики ягуар выступает обычно как бог дождя и плодородия, олицетворение плодоносящих сил земли. Еще и в наши дни, четыре столетия спустя после испанского завоевания и тысячу лет спустя после гибели ольмекской цивилизации, образ ягуара все еще вызывает суеверный ужас у индейцев, а ритуальные танцы в его честь широко распространены у жителей мексиканских штатов Оахака и Веракрус. Сразу же после Конкисты испанский монах Бернардино де Саагун записал рассказы ацтеков о ягуаре. В этих наивных свидетельствах ягуар предстает как сильный, но ленивый зверь, наделенный почти человеческим разумом. Своими огромными светящимися во мраке глазами он сначала гипнотизирует жертву, а затем убивает ее.
Охотник-индеец, встречая в лесу ягуара, знал, что он может выпустить в хищника не более четырех стрел. Так завещали предки. Так предписывали ему всемогущие боги. Если же стрелы не убивали зверя, то охотник становился на колени и безропотно ждал своей участи. И смерть в таких случаях не заставляла себя долго ждать.
Стоит ли удивляться тому, что ольмеки, основой хозяйства которых всегда было маисовое земледелие, почитали бога-ягуара с особым рвением, навечно запечатлев его во многих шедеврах своего поразительного искусства. К каким только ухищрениям не прибегали они для того, чтобы грозный владыка земли, лесов и небесных вод обеспечил им хороший урожай маиса! Они строили в его честь пышные храмы, высекали его клыкастую морду на рельефах и стелах и, наконец, отдавали ему самый драгоценный свой дар – человеческую жизнь.
В ходе раскопок центральной площади Ла Венты почти на шестиметровой глубине археологи нашли прекрасно сохранившуюся гигантскую мозаику в виде стилизованной головы ягуара. Общие размеры мозаики – около пяти квадратных метров. Она состоит из 486 тщательно отесанных и отполированных блоков ярко-зеленого серпентина, прикрепленных с помощью вязкого битума к поверхности плоской каменной платформы. Пустые глазницы и пасть зверя были заполнены оранжевым песком и голубой глиной, а верхушку угловатого черепа украшали стилизованные перья в виде ромбов. Точно такую же мозаику вскоре обнаружили и на другом конце священной площади города. В глубине ее каменной платформы находился тайник с богатейшими дарами в честь бога-ягуара: груда драгоценных вещей, украшений, статуэток и топоров из нефрита и серпентина.
Неожиданный финал: физики и археологи 
Наконец пришла пора сделать какие-то первые выводы о характере Ла Венты и ольмекской культуры в целом.
«С этого священного, но очень маленького островка, расположенного восточнее реки Тонала, – утверждал Дракер, – жрецы управляли всей округой. Сюда к ним стекалась дань из самых отдаленных, глухих деревушек. Здесь под руководством жрецов огромная армия рабочих, вдохновляемых канонами своей фанатичной религии, копала, строила и перетаскивала многотонные грузы». Таким образом, Ла Вента предстает в его понимании как своеобразная «мексиканская Мекка», священная островная столица, которую населяла лишь небольшая группа жрецов и их слуг. Окрестные земледельцы полностью обеспечивали город всем необходимым, получая взамен при посредничестве служителей культа милость всемогущих богов. Расцвет Ла Венты и тем самым расцвет всей ольмекской культуры приходится, по подсчетам Стирлинга и Дракера, на первое тысячелетие н. э. и совпадает с расцветом городов «Древнего царства» майя. Эта точка зрения до середины 50-х годов была господствующей в центральноамериканской археологии, несмотря на отчаянные усилия некоторых мексиканских ученых доказать бóльшую древность ольмеков по сравнению с другими культурными народами Мексики.
Сенсация разразилась в тот момент, когда ее никто не ждал. Повторные раскопки Дракера в Ла Венте в 1955–1957 годах принесли совершенно неожиданные результаты. Образцы древесных угольков из толщи культурного слоя в самом центре города, отправленные в лаборатории США для радиоуглеродного анализа, дали такую серию абсолютных дат, которая превзошла самые смелые ожидания. По мнению физиков выходило, что время существования Ла Венты падает на 800–400 годы до н. э.!
Мексиканцы торжествовали. Их аргументы в пользу ольмекской культуры-родоначальницы были теперь подкреплены, и притом самым солидным образом.
С другой стороны, Филипп Дракер и многие его североамериканские коллеги публично признали свое поражение. Капитуляция была полной. Им пришлось отказаться от своей прежней хронологической схемы для древностей ольмеков и принять даты, полученные физиками. Ольмекская цивилизация получила, таким образом, новое «свидетельство о рождении», главный параграф которого гласил: 800–400 годы до н. э.


Глава 3. Время поисков и раздумий
Жильцы немых
гробниц, забытые в веках,
давно рассыпались
и превратились в прах.
Омар Хайям


«Царство мертвых» в Тлатилько 
На северо-западной окраине Мехико, всего в двадцати минутах езды от центра города, еще четверть века назад можно было видеть одинокий плоский холм с голой вершиной. По чьей-то странной прихоти он носил непонятное, но звучное название – «Лос-Ремедиос». И хотя сразу же у его подножия зеленели маисовые поля плодородной долины Рио Ондо, сам холм был мертв: ни птичьей трели, ни звука человеческого голоса. Только бесконечные шеренги колючих кактусов и агав оживляли немного его пустынные склоны, опаленные жгучим солнцем. Казалось, что со времен сотворения мира здесь ни разу не ступала еще нога человека. Но видимость часто бывает обманчива. В 1940 году на холме появились люди. Это были не археологи и не искатели старинных кладов, хотя и для тех и для других здесь, безусловно, нашлось бы немало работы. Все оказалось гораздо проще. Неподалеку от Лос-Ремедиос построили большой кирпичный завод. Ему требовалось много высококачественной глины. И такая глина вскоре была найдена… внутри холма. А когда глубокие шурфы и ямы прорезали его каменистую землю, случилось непредвиденное: холм оказался обитаемым. Правда, его жители были тихи и безмолвны. Они ушли из этого мира давно, много веков назад, в ту самую эпоху, которую археологи условно называют «архаической» или «доклассической». Вместе с человеческими останками лежали украшения, домашняя утварь, оружие и орудия труда. Женщин сопровождали базальтовые зернотерки для растирания маисовых зерен, бусы и костяные иглы. Мужчин – обсидиановые и кремневые наконечники копий, ножи, стрелы или до блеска отшлифованные каменные топоры. Дети, отправляясь в свой последний путь, получали самые любимые глиняные игрушки и украшения из раковин. Скелетов было много. Они лежали тесными рядами, плечом к плечу, словно воины, павшие в жестокой битве. На нижний ряд трупов клали сверху другой, не менее многочисленный, и так длилось не одну сотню лет. Это было настоящее царство мертвых, гигантская могила целого племени, навсегда унесшего с собой тайну своего происхождения, свои думы, чаяния, философию и язык.
Добрые и злые, убеленные сединами и совсем юные, красивые и безобразные, храбрые и малодушные – все они оказались равными перед лицом смерти, все безвозвратно канули во всепоглощающем потоке времени.
«Неужели правда, что мы живем на земле? – вопрошал когда-то ацтекский поэт. —
На земле мы не навсегда: лишь на время.
Даже нефрит дробится,
даже золото разрушается,
даже перья кецаля рвутся,
на земле мы не навсегда: лишь на время».
Человек не бессмертен. Но верно и то, что человек не исчезает с лица земли бесследно, а продолжает жить в нетленных творениях рук своих. Сколько древних народов, культур и цивилизаций, считавшихся навсегда исчезнувшими и утраченными в памяти человеческой, открыла нам за последние годы археология? И среди этих новых находок древние могилы из Лос-Ремедиос занимают далеко не последнее место. Это было настоящее откровение. Изящные глиняные чаши с затейливым резным узором, высокие «граненые» вазы с блестящей лакированной поверхностью, статуэтки обнаженных языческих богинь, танцоры, акробаты, жрецы или шаманы в странных костюмах и масках, всевозможные птицы, звери и рыбы не оставляли равнодушным никого. Спрос на диковинные предметы старины среди коллекционеров всех мастей быстро возрастал. Почуяв запах верной наживы, рабочие карьера, словно нетерпеливые старатели на приисках, принялись упорно и настойчиво изо дня в день «разрабатывать» свою «золотую жилу». От покупателей не было отбоя. Часто они приезжали прямо к холму и высматривали здесь среди сваленных в кучу человеческих костей и черепков битой посуды какую-нибудь особо любопытную вещицу. И когда однажды в Лос-Ремедиос появился еще один незнакомый сеньор, рабочие не обратили на него никакого внимания: мало ли бывает здесь за день разных посетителей и зевак. Но на этот раз они ошиблись. Этот человек с буйной черной шевелюрой и живыми карими глазами, немного тучный для своих лет, но энергичный и быстрый в движениях не был ни простым коллекционером, ни праздным зевакой. Известный мексиканский художник и археолог Мигель Коваррубиас приехал к холму на окраине Мехико совсем с другими целями. К тому времени он исколесил уже всю страну. Побывал в Северной Африке, Японии, Малайе, на Цейлоне, в Египте и Западной Европе.
В его доме хранилась уникальная коллекция мексиканских древностей, которую он передал впоследствии в Национальный музей города Мехико, где для этих находок пришлось открыть даже специальный выставочный зал, названный именем художника. Коваррубиас прекрасно знал почти все доиспанские культуры страны и безошибочно различал многочисленные стили искусства различных индейских народов. Прослышав о грабительских раскопках в Лос-Ремедиос, он тотчас же отправился туда. Ему было достаточно одного взгляда, чтобы сразу же оценить огромное научное значение вновь найденного древнего могильника.
Можно было смело сказать, что на археологических памятниках Центральной Мексики ни разу не встречалось еще такого разнообразного и выразительного материала. Но судьба приготовила Коваррубиасу еще один приятный сюрприз. Уже в первый же свой визит к холму он купил у местных рабочих замечательную статуэтку из гладкого зеленоватого камня. Она как две капли воды походила на изделия ольмекских мастеров Ла Венты. Что это – ловкая подделка или еще одно неразрывное звено в цепи столь нужных ему доказательств? С легкой руки Коваррубиаса древнее кладбище в в Лос-Ремедиос получило вскоре новое, более романтическое название – Тлатилько, что означает на языке индейцев-нахуа «Место, где спрятаны вещи».
И поскольку этот уникальный памятник старины таял буквально на глазах, Мигель добился в соответствующих инстанциях разрешения вести там археологические раскопки. Начиная с 1941 года в Тлатилько было открыто и изучено учеными около 340 погребений. Не менее 1000 могил разрушили и разграбили за этот же срок рабочие-кладоискатели. Все это привело к тому, что сейчас от знаменитого холма Лос-Ремедиос осталось лишь одно название: за прошедшие тридцать лет его буквально стерли с лица земли. Правда, значительная часть богатейших находок из Тлатилько успела попасть по назначению – в руки археологов и специалистов. Эти вещи неизмеримо расширили и уточнили наши представления о культуре племен долины Мехико в архаическую эпоху. И здесь выявился один поразительный факт. Среди изделий, характерных для местной земледельческой культуры, были отчетливо заметны какие-то инородные влияния. Коваррубиас не ошибся. Помимо его серпентиновой статуэтки, в Тлатилько нашли еще две глиняных, ольмекских, выкрашенных в белый цвет фигурки в виде пухлых младенцев со вздернутой, как у рычащего ягуара, верхней губой. Менее определенно, хотя и довольно часто, проявлялось влияние ольмеков и в керамике могильника. Некоторые формы местной посуды (бутыли и чаши) и ее орнаментация (резные рисунки в виде лапы ягуара, птичьего крыла и пернатой змеи) отдаленно походили на изделия гончаров Ла Венты и Трес-Сапотес. Но в целом спорить не приходилось. Тот факт, что ольмекские вещи были представлены в чисто архаическом памятнике долины Мехико, красноречивее всяких слов доказывал глубокую древность самой культуры ольмеков. «Ольмекская цивилизация(курсив мой. – В. Г.), – заявил Мигель Коваррубиас, – существовала в то же самое время, что и Тлатилько, то есть имела архаический возраст». Оставалось выяснить только границы самой архаической эпохи и время существования Тлатилько.
«Слоеный пирог» и основы хронологии 
Большинство посторонних людей ищет в археологии ту самую романтику, которую у них ежедневно, ежечасно отнимает современная городская цивилизация. Они с легким сердцем отправляются в далекие, а порой и не совсем безопасные археологические экспедиции, чтобы испытать на себе прелести походной жизни, спать в палатке на лоне природы, познать радость удивительных открытий, пережить ни с чем не сравнимое чувство приобщения к давно забытым страницам прошлого. После одной или двух таких поездок эти искатели приключений вполне искренне считают себя «ветеранами лопаты», «экспедиционными волками» и по меньшей мере «знатоками основ археологии». Им и невдомек, что они видели лишь внешнюю и притом далеко не главную сторону профессии археолога. За пышным фасадом призрачной романтики и походно-бивуачной жизни не всем и не всегда удается разглядеть другие, куда более важные вещи. Весь парадокс в том и состоит, что львиную долю времени и сил археолог тратит на обработку и осмысление своих находок, сидя в лабораториях или за письменным столом. И надо сказать, что неожиданные находки и открытия случаются здесь неизмеримо чаще, чем в полевых условиях.
У каждой профессии есть какая-то особенно характерная черта или, как иногда говорят, «свой пунктик». Пожарник повсюду следит за соблюдением правил осторожного обращения с огнем. Медик изо всех сил насаждает вокруг себя чистоту и стерильность. Археолог же с завидным постоянством стремится «привязать» попавшую ему в руки древнюю вещь к определенному времени. Вопросы хронологии, точный возраст той или иной находки стали для него главным условием, обеспечивающим успех всей дальнейшей работы. И в этом нет ничего удивительного. Никакая «машина времени» не сможет умчать вас в глубь веков по широким дорогам инков, майя или римлян, если не видно по обочинам привычных верстовых столбов. В противном случае трудно сказать, где находится сейчас ваша волшебная колесница, сколько километров в глубины истории успела она проехать.
Каждый предмет, каждая вещь должны иметь свой «паспорт», отвечающий на вопросы «откуда» происходит данная находка и «к какому времени» она относится. Но чтобы заполнить соответствующие параграфы этого своеобразного документа, нужно потратить немало времени и сил.
В археологической практике различают хронологию относительнуюи абсолютную.Первая из них призвана определить последовательность бытования тех или иных находок, то есть решить, что было раньше и что позднее. Вторая прямо устанавливает более или менее точный возраст предмета. Относительная хронология основана прежде всего на стратиграфии, [5]5
Стратиграфия(от греческого «страта» – слой и «графо» – пишу) – напластование слоев земли, содержащих следы былой человеческой деятельности.
[Закрыть]то есть на последовательности залегания слоев земли, содержащих следы былой деятельности человека. Толстый слой мусора на месте древних поселений напоминает собой слоеный пирог, который вместо ножа разрезают лопаты археологов. Чем ниже находится в толще земли та или иная вещь, тем она, следовательно, старше по возрасту. Другой, чисто археологический метод, использующийся для этих целей, – типология,или составление последовательных рядов, отражающих развитие определенных типов вещей во времени и пространстве, от самых простых до самых сложных форм. Именно на этих двух методах – стратиграфии и типологии – и, в частности, на изменениях в стилях керамики и статуэток, основаны все существующие ныне схемы развития архаических памятников древней Мексики. Как правило, архаическую эпоху ученые разделяют еще на три этапа: ранний, средний и поздний.
Абсолютная хронология целиком зависит от данных письменных источников. Но туманные сообщения испанских и индейских хронистов не освещают важнейших событий мексиканской истории до X века н. э. Поэтому современные исследователи почти полностью лишены надежных свидетельств очевидцев, которые непосредственно касаются предмета научных споров – рассказов о древних переселениях народов, основании могучих династий, царств и городов, о социальном и политическом развитии, войнах, браках и торговле.
После долгих и мучительных поисков для абсолютного датирования памятников старины удалось приспособить расшифрованные календарные надписи на стелах и алтарях майя. Это сразу же привело археологов к порогу первых цивилизаций Центральной Америки, возникших из глубин архаики где-то на рубеже или в первых веках н. э. Как долго длилась сама архаическая эпоха, сказать никто не мог. Только появление радиоуглеродного метода датировки древних изделий (С 14) в начале 50-х годов самым решительным образом изменило эту беспросветную ситуацию. Физики протянули руку помощи археологам. И старая хронологическая система, возводившаяся многими людьми на протяжении многих лет, рухнула в одно мгновение. Границы древнейших культур Американского континента отодвинулись далеко в глубь тысячелетий. Археологи приняли новый метод сразу, без всяких оговорок и сомнений. Всеобщий энтузиазм достиг апогея. Многие искренне думали, что в археологии наступил, наконец, долгожданный «золотой век». Но, как показали дальнейшие события, радость эта оказалась слишком преждевременной. Подобно любому новому изобретению, метод С 14не был еще разработан до конца и страдал многими серьезными погрешностями. Иногда образцы органических веществ (угли, дерево) для радиоуглеродных анализов брали без соблюдения необходимых правил. Другие пакеты слишком долго пролежали на пыльных музейных полках, прежде чем их передали в руки физиков.
Не всегда совершенными были и сами методы определения дат. Это зачастую приводило к явно обескураживающим результатам. В кругах археологов одно время возник даже вопрос – стоит ли верить всемогуществу современной физики или же нужно целиком положиться на старые, испытанные методы своей собственной науки? Как бы то ни было, постепенно страсти улеглись, и на свет появилось единственно правильное решение – принимать те или иные даты по С 14только после проверки их обычными археологическими приемами. Для каждого памятника стремятся теперь получить не одну или две, а целую серию радиоуглеродных дат. Кроме того, в повседневной практике все шире используется метод, когда каждый образец органического вещества делят на несколько равных частей и отправляют в разные лаборатории для анализа. Полученные результаты тщательно сравнивают между собой и лишь после этого выводят какую-то среднюю хронологическую величину.
Иногда это помогает избежать крупных ошибок в просчетах, хотя и не исключает полностью самой возможности их появления.
В настоящее время архаические памятники, датированные по методу С 14, выглядят на карте Мексики словно крохотные островки, отделенные друг от друга пеленой неизвестности. С помощью близких по облику предметов, найденных на разных древних поселениях, археологи пытаются «привязать» каждый еще не имеющий «свидетельства о рождении» памятник к его более известным собратьям. Таким образом, каждая радиоуглеродная дата обслуживает подчас сразу по нескольку археологических комплексов. Для Тлатилько мы располагаем тремя такими датами: 1455±250 годы до н. э., 983±250 годы до н. э. и 568±250 годы до н. э. Следовательно, максимальный диапазон этих дат составляет примерно с 1700 по 300 годы до н. э.
Вполне понятно, что это слишком неопределенная и шаткая основа для каких-нибудь хронологических выкладок и построений. Но Тлатилько, как и многие близкие ему памятники долины Мехико, относятся к среднему этапу архаической эпохи, который имеет, судя по анализам С 14, временную протяженность с 1000-900 годов до н. э. до 400–300 годов до н. э. Видимо, и большинство погребений этого холма относится к тому же времени.
Трудный удел Филиппа Дракера 
Долгое время единственным источником сведений об ольмеках и их культуре служили лишь отдельные произведения искусства – нефритовые топоры, амулеты, статуэтки, найденные неизвестно где и неизвестно кем. Точный их возраст был неразрешимой загадкой для ученых. И только после раскопок нескольких древних поселений в штатах Веракрус и Табаско в 40—50-х годах нашего века появилась возможность создать относительную, а затем, с появлением метода С 14, и абсолютную хронологию культуры ольмеков. Особенно важное значение имели исследования археологов США в Трес-Сапотес. В 1940 году Филипп Дракер заложил здесь несколько стратиграфических траншей и собрал богатейшую коллекцию древностей в виде первых образцов ольмекской глиняной посуды и статуэток. Изучив свои находки и распределив их по слоям в соответствии с глубиной залегания, он предложил разделить всю историю Трес-Сапотес на несколько этапов: нижний, средний и верхний. Нижний этапотмечен преобладанием керамики с одноцветной (монохромной) поверхностью коричневого и черного тонов; представлены разнообразные формы сосудов – чаши, «чайники», кувшины, грубые кухонные горшки и несколько характерных типов лепных глиняных статуэток (типы «А», «С»), в том числе и пухлых младенцев – «сыновей ягуара». Находки, относящиеся к этому этапу, залегали в самых нижних слоях всех траншей.
Средний этап– это дальнейшее развитие предшествующих черт культуры, преемственность с Нижним этапом представлена здесь наглядно и ярко; впервые отмечено появление отдельных сосудов с поверхностью, украшенной многоцветной росписью (полихромный стиль); лепные глиняные статуэтки типа «В» и «сыновья ягуара».
Верхний этап– в отличие от предыдущих связан с появлением многих новых черт культуры, не имеющих местных корней, хотя и ранняя традиция по-прежнему представлена достаточно полно. Полихромная посуда становится преобладающей величиной в ущерб монохромным изделиям. Появляются сосуды на трех ножках-подставках в виде плоских прямоугольных плиток, оригинальные светильники («канделерос»), высокогорлые «вазы для цветов» («флорерос»); лепные статуэтки вытесняются терракотовыми, отлитыми в специальных стандартных формах. В 1943 году Филипп Дракер объявил, что Нижний этап Трес-Сапотес близок по своему характеру к архаическим памятникам с территории майя и относится, таким образом, к первому тысячелетию до н. э.
Средний этап– переходный, равный по времени началу эпохи цивилизации у майя, то есть первым векам н. э. Верхний этапимеет очень много черт, сближающих его с древностями Теотихуакана в Центральной Мексике (первое тысячелетие н. э.).
Затем начались широкие полевые исследования в Ла Венте. Дракер рассматривал Ла Венту как однослойный памятник, существовавший сравнительно короткий отрезок времени. Поэтому он приравнял ее, опираясь на сходство некоторых типов керамики и статуэток, к Среднему этапу Трес-Сапотес. Поскольку этот последний этап, по мнению Ф. Дракера, начинался с первых веков н. э., то получалось, что и Ла Вента существовала где-то в первом тысячелетии нашей эры.
Как показали дальнейшие работы в Ла Венте (1955–1959 гг.) и особенно результаты радиоуглеродных анализов, эта периодизация была ошибочной. Ее автор полностью пересмотрел свои взгляды и в 1959 году выдвинул новую схему развития ольмекской культуры:
1. Ла Вента – классический памятник эпохи расцвета ольмекской культуры, у которого есть предшествующие и последующие этапы развития, представленные на других поселениях.
2. Радиоуглеродные даты для Ла Венты падают в основном на время с 800 по 400 года до н. э.
3. Анализ фигурок и керамики доказывает, что Ла Вента – однослойный памятник, одновременный Среднему этапу Трес-Сапотес.
4. Нижний этап Трес-Сапотес предшествует Ла Венте и, следовательно, относится ко времени не позднее IX века до н. э.
В конечном счете периодизация ольмекской культуры по Ф. Дракеру выглядела таким образом:
1. Верхний этап Трес-Сапотес (первое тысячелетие н. э.).
2. Средний этап Трес-Сапотес – Ла Вента (800–400 годы до н. э.).
3. Нижний этап Трес-Сапотес (до IX века до н. э.).
Несколько лет назад американский археолог Роберт Сквайр решил еще раз побывать в Трес-Сапотес и с помощью дополнительных раскопок проверить выводы Ф. Дракера. Результаты этой «ревизии» оказались совершенно неожиданными. Выяснилось, что между материалами Нижнего и Среднего этапов Трес-Сапотес нет никакой заметной разницы и что, по сути дела, это один неразделимый этап (Трес-Сапотес-1). Кроме того, Р. Сквайр с фактами в руках доказал, что из-за существенных различий в керамике Ла Вента и Трес-Сапотес-1, по крайней мере частично, относятся к разным отрезкам времени, причем Ла Вента по возрасту несколько старше.
Позднее в полемику включился еще один ученый из США – Майкл Ко. Он подверг методы работы Филиппа Дракера самой уничтожающей критике. По его словам, в старых отчетах о Ла Венте и Трес-Сапотес все было неверным и ошибочным. Это почти единственный случай в практике центральноамериканской археологии, когда один известный археолог публично обвинил другого в научной недобросовестности.
Во всяком случае, теперь всем стало ясно, что старые работы Филиппа Дракера, почти четверть века принимавшиеся без оговорок на веру, нуждаются в самом тщательном критическом пересмотре.
По следам «сыновей ягуара» 
«Сеньор, здесь кто-то есть!» – испуганно шепнул идущий впереди индеец и кончиком длинного мачете осторожно раздвинул ветви лиан. Посреди ровной прямоугольной площадки, обрамленной ядовитой зеленью густого подлеска, сквозь кисею тумана смутно проступали очертания какой-то темной фигуры, слегка напоминающей человеческую. Мэтью Стирлинг был парнем далеко не робкого десятка и к тому же большим знатоком мексиканских джунглей. За его плечами числилась уже не одна успешная экспедиция в эти забытые богом места. Сколько всевозможных трудностей, лишений и невзгод осталось позади!.. Он знает вокруг каждую тропинку, каждый кустик. Но осторожность никогда не повредит. Говорят, что здесь, у глухой лесной деревушки Потреро Нуэво, видели недавно группу вооруженных бандитов – чиклерос. И, достав из кобуры свой многозарядный кольт, археолог решительно двинулся вперед. Шаг. Другой. Третий.
Загадочная фигура казалась абсолютно неподвижной. «Эй, какого черта вы здесь делаете?» – крикнул Стирлинг, и вдруг слова застыли у него на устах. Перед ним стояла древняя скульптура, искусно высеченная из черного базальта. Огромный, вставший на дыбы ягуар нежно обнимал своими могучими когтистыми лапами хрупкие плечи обнаженной женщины. Это был известный ольмекский миф о происхождении богов, с непревзойденным искусством воплощенный в камне. «В незапамятные времена, – говорили индейские жрецы испанцам, – от связи великого бога-ягуара и прекрасной, но смертной женщины появилось на свет многочисленное племя богов – сыновей ягуара». Странные на вид, одутловатые младенцы с раскосыми кошачьими глазами и пухлым, со вздернутой верхней губой ртом удивительно напоминали своими лицами оскалившуюся в злобном рыке голову грозного владыки джунглей. Иногда из уголков рта этих инфантильных существ выступают вперед два острых звериных клыка. Для древних обитателей Веракруса и Табаско «сыновья ягуара» были весьма почитаемыми божествами воды, дождя, грома и молнии.
Такая странная на первый взгляд взаимосвязь объясняется тем, что в тропиках ежегодный сезон дождей начинается вместе с сильными летними грозами. К тому же и сам ягуар известен как большой любитель воды. Большую часть ночи он проводит на охоте вблизи водоемов, прекрасно плавает, а его грозный рык звучит в ушах перепуганного индейца словно раскаты небесного грома. Прямая связь ольмекского младенца с дождем напоминает о ежегодном жертвоприношении маленьких детей в честь бога дождя Тлалока среди ацтеков. И чем больше слез проливали перед смертью перепуганные малютки, тем более угодным небу считалось все жертвоприношение: слезы невинных детей должны были, по незыблемым законам магии, вызвать «слезы из небесных туч», то есть дождь. Ольмеки без устали создавали образы своих кумиров в камне, дереве и глине. Особенно часто воплощались «сыновья ягуара» в голубовато-зеленом нефрите и серпентине. Сейчас таких статуэток в «стране дождя и тумана» найдено уже сотни.








