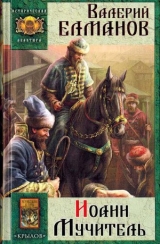
Текст книги "Иоанн Мучитель"
Автор книги: Валерий Елманов
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 19 страниц)
Глава 9
ВАСЯТКИН РУБЛЬ
Третьяк не знал, как долго он пролежал без сознания. Очнулся же от бесцеремонной тряски – кто-то невидимый энергично тормошил его за плечо и настойчиво вопрошал: «Ты кто?!»
С трудом он разлепил веки и сумел-таки увидеть «трясуна». Как ни удивительно, но им был старший сын Настасьи Тихон. Вот только парень совсем не походил на себя. Обычно спокойный, хладнокровный и невозмутимый, сейчас он выглядел каким-то перепуганным и всклокоченным. Волосы на его голове чуть ли не стояли дыбом.
– Ответствуй, когда тебя стрелец царев вопрошает! – визгливо кричал он, что тоже совершенно не походило на его обычное поведение.
Разжать пересохшие губы было делом неимоверно тяжелым, но Третьяк честно пытался справиться с этим, напрягая всю свою волю. Мешала еще и боль в левой стороне груди. Огнем горела и правая щека.
«Да что же это со мной?» – удивился он, но как-то вяло, не желая тратить те немногие силы еще и на это. Наконец первые слова сошли с губ.
– Ополоумел, что ли, Тишка? Царя не признал? Лучше бы подняться подсобил. – И он, не дожидаясь помощи стрельца, попытался привстать самостоятельно, но левый локоть, попав в какую-то отвратительную жижу, соскользнул вбок, а правый с поставленной задачей в одиночку управляться отказался. Все тело немедленно ожгло острой болью, и Третьяк понял, что самому ему не управиться. Тихон же, застывший близ него на коленях, казалось, и не думал ему помочь. Да и взгляд у стрельца был странный – какой-то ошалевший, словно увидел пред собой нечто диковинное, чего быть не должно, но вот оно, перед глазами, и никуда не деться.
– Как ты можешь быть государем, когда Иоанн Васильевич к себе в город ускакал? – почти плачуще взмолился он и вновь с надеждой уставился на лежавшего – может, тот поможет разгадать эту тайну.
И словно яркой вспышкой высветились пред глазами Третьяка последние мгновения до того, как он потерял сознание – яростный лик его брата, невесть каким образом оказавшегося в Москве, и сзади низенькая коренастая фигура какого-то мужика с заросшей чуть ли не до самых глаз рожей.
«Добрался-таки, – подумал он устало и тут же добавил: – Сам виноват. Всех распустил кого куда, вот он и подкрался незамеченным. Но как же он вырвался?»
А потом все прочие мысли заслонила одна, главная: «Это как же понимать? Я вроде туточки лежу и никуда не ускакал, а он говорит, что я…»
И осекся, даже не стал додумывать, потому что получалось нехорошо, да что там нехорошо – вовсе худо. Ведь если он уехал к себе в город, то тогда получалось, что… И вновь голова отказывалась думать. Нужно было что-то немедленно предпринять, что-то делать, но что – Третьяк понятия не имел. Кто он теперь, беспомощно лежащий здесь в липкой грязи? Как доказать, что… Разве только мать Тихона Настасья поможет… Опять-таки, в чем? Сына убедить? Это да, тут она справится. А вот как москвичам все растолковать? К тому же во дворец все равно нельзя соваться. Оклематься бы хоть малость для начала.
– К матери своей снеси меня, Тиша, к Настасье, – попросил он гаснущим голосом. – Худо мне, – а убедить в чем-либо и пытаться не стал – глаза слипались, и тело начинало все ощутимее вновь устремляться куда-то вверх, в плавный полет, стремительный до тошноты, уносящий его в неизвестность.
Спустя несколько дней, пребывая в забытьи, он услышал звон колоколов. «К чему бы перезвон устроили? – подумал он. – По какому такому великому празднику [42]42
Колокольный звон подразделялся на несколько видов. Перезвон устраивался при каких-либо радостных событиях: во время крестных ходов, храмовых праздников, перед освящением воды, посвящением в сан епископа и т. д.
[Закрыть]они надсаживаются? Али праздник где храмовый? Хотя нет, тогда бы в одном храме звонили, а тут отовсюду слышно». Он прислушался и понял, что ошибся. Не перезвон стоял над Москвой, а перебор [43]43
Перебор очень похож на перезвон, но использовался только при отпевании, поэтому его иногда так и называли – похоронный звон.
[Закрыть]. Ну да, точно. Начинают малые, а заканчивают-то большие и потом сразу во все колокола одновременно [44]44
В перезвоне также поочередно используют все колокола, но начинают с большого и далее по нисходящей. Также в нем отсутствует одновременный удар во все колокола.
[Закрыть]. Точно – перебор. И тут его охватил страх. «Это кого же хоронят? Кого колокола на всех храмах в последний путь провожают? Сам-то я жив. Неужто с кем из сыновей беда приключилась? Или…» – и вновь его унесло на крыльях забытье, оказавшееся спасительным.
Снова очнулся он уже в каком-то темном и тесном закутке. Было душновато и приторно пахло свежей травой. Болели грудь и щека, но не так остро. Если притерпеться, то вполне можно привыкнуть. Сидевшая у его постели Настена выглядела необычно. Одетая в нарядный сарафан, Сычиха казалась такой же молодой, как когда-то у себя в избе, где она ворожила ему на воде. Хотя нет, пожалуй, еще моложе. Не было ни стрельчатых лучиков-морщинок, тянущихся от уголков глаз к вискам, ни обветренных губ. Словом, много чего не было. И получалось, что девке, что сидела у его изголовья, ну от силы лет двадцать, пускай с верхом, но небольшим. Или ему так в сумерках кажется?
«А сказывали, что у ведьм особая сила есть у других годы забирать, чтоб пожить подольше. И годы, и силу, и твердь телесную», – припомнилось Третьяку и, хотя он был убежден, что Настена по отношению к нему так никогда не поступит, да и никакая она не ведьма, но все равно почему-то стало боязно, и он легонько, самую чуточку пошевелился, пытаясь отодвинуться.
– Очнулся, государь, – заулыбалась Настена и, склонившись к нему близко-близко ловкими движениями рук взбила мягкую подушку, – голове и впрямь стало гораздо мягче лежать.
От резких движений у Сычихи свалилась со спины толстенная… девичья коса. Третьяк удивленно вытаращил глаза, вовсе отказываясь что-нибудь понимать, но тут наконец его осенило.
– Ай и выросла ты, Васька-Василисушка, – с облегчением вымолвил он. – Да как на мать стала походить. Сколь я тебя не видел-то?
– Да уж четыре лета, – отозвалась дочь Настены. – Как испоместил нас в слободе стрелецкой да брата мово на службу к себе приял, так боле и не захаживал, – добавила она с сожалением, смешанным с легкой укоризной.
– Точно, – подтвердил Третьяк, припоминая, как поручал разместить поредевшую семью Настены – мор унес двух ее младших сыновей, и как потом, переодевшись, по своему обыкновению, в одежду попроще, однажды вечером появился у Настены в Слободе, решив проверить, как обжилась на новом месте вдова.
Застать ее дома не получилось – какая-то из соседок просила ее подсобить с больным дитем, а лечебные молитвы, помимо того что разные сами по себе, так еще и требуют разного времени суток для чтения, иначе могут и не помочь. Эту надлежало читать на закате. Потому встречала его на правах хозяйки не Сычиха, а ее Василисушка. Вот только была она в ту пору хоть уже и заневестившаяся – почитай, шестнадцать годков стукнуло, – но еще как-то по-подросточьи угловатая, не очень складная телом, да и стати такой, что теперь, у нее тоже не имелось. По обычаям, поднесла она дорогому гостю чару с хмельным медом, после чего пунцовая как рак от смущения, но не жеманящаяся, смело посмотрев на царя, дозволила поцеловать себя в уста.
Третьяк невольно перевел взгляд на ее губы. Да-да, вот в эти самые. Они уже и тогда были почти как сейчас – сочно вишневые и упруго-мягкие, будто налитые каким-то соком.
– Что ж, скоро ли Настена меня на твою свадебку пригласит? – спросил шутливо. – Обещалась ведь. Али не отыскался еще суженый-ряженый?
– Коли она обещается, так завсегда сполнит, – певуче ответила девушка. – Одна беда – кто ни посватается, так все нелюбы. Потому я и в девках досель. Оно, конечно, все равно бы выдали, да уж больно крепко мать слово твое в памяти держала. Ну и я ей иной раз про него напоминала, коль она забывала, – и пристав со своей табуретки, склонилась перед лежавшим в низком поясном поклоне. – Благодарствую тебе, государь, что повелел по любви замуж выйти. С немилым-то не житье – тьма кромешная. Я хоть и молодая, а нагляделась на соседей. А свадебка что ж. Коли Желана есть, – намекнула она на свое второе имечко, – то и Желан для нее непременно сыщется. А может, уже и сыскался, да еще сам того покамест не ведает, – задумчиво произнесла она, пристально глядя на Третьяка.
– Ну и славно, – произнес он с легким оттенком равнодушия, но Василиса чутко уловила фальшь и, зарумянившись еще больше, яростно прикусила нижнюю губу, но ничего в ответ не сказала.
– А где это я? – с недоумением посмотрел по сторонам Третьяк.
Воловый пузырь в узеньком оконце света пропускал мало, хотя чувствовалось, что за стенами вовсю лютует прежняя августовская теплынь.
– Да у нас в избе, – всплеснула руками Василиса. – Уж, почитай, вторая седмица пошла, как ты у нас обретаисся. Оно ведь чуток еще – и нож в самое сердце угодил бы. Это тебя свезло, царь-батюшка, что у тебя на груди рубль заветный сохранился. Он-то и спас. Для нищих, поди, приберег али для погорельцев? – осведомилась она, не дожидаясь ответа – и так ясно, – продолжила дальше: – Вот господь тебя и одарил за твою доброту. Нож-то прямо в него уткнулся да соскользнул по серебру твоему и вверх ушел. Мать так и сказывала, как узрела рану – чуток пониже, и все. Знал тать, куда резать.
«Вторая седмица, – чуть не ахнул Третьяк. – Это ж что палатах-то у меня творится. Ищут же? Неужто сообщить да перевезти нельзя было? И как назло, Анастасия хворает. Ей-то без меня теперь каково?» И попытался встать, но от резкого движения боль, слабо ноющая в груди, вдруг как-то сразу всколыхнулась, отозвавшись дико и резко. Ни дать ни взять, словно братец в него второй раз нож вогнал.
– Да ты что творишь, государь?! – испуганно всплеснула руками Василиса. – Нешто можно вот так, сразу? По чуть-чуть надобно, исподволь, без спешки. А коли на двор занадобилось, так ты скажи токмо. Тут далече идти не надобно – Тиша ушат приспособил.
– А где ж он сам? – спросил он устало, продолжая морщиться от постепенно утихающей боли, которая продолжала оставаться рядом, но теперь тоже уселась вместе с царем, примостилась поудобнее, стараясь по мере возможности особо не беспокоить.
– Придет. Вот к вечеру и заявится, – засуетилась Василиса.
– А… в городе-то что про меня… про царя… сказывают? – спросил Третьяк.
– Да ничего не сказывают. Дескать, в печали государь пребывает, – пуще прежнего принялась возиться девушка, суетливо переставляя какие-то горшочки близ его изголовья.
– В какой печали? – насторожился Третьяк.
– Да откуда мне ведомо?! – чуть не плача, выкрикнула Василиса. – Вот брат вернется – он все и обскажет, – и почти сердито заявила: – Мне воды натаскать надобно, да корове сенца дать. – И живо скрылась за куском холста, заменяющим дверцу в его крохотной келье.
Так ему и не удалось ничего узнать. С еще большим нетерпением он принялся дожидаться прихода Тихона, но при одном взгляде на лицо вошедшего стрельца Третьяк понял, что никаких утешительных вестей тот не принес. Скорее уж наоборот. И чуть погодя с горечью убедился, что так оно и есть.
Выкладывая новости, Тихон морщился, рассказывал с явной неохотой, но излагал все честно, как оно и было, не уклоняясь от вопросов, а в конце сознался:
– Я ведь опосля того, когда тебя сюда привез, сызнова в город подался. Моя смена-то до утра. Покамест стоял там – все дивовался. Чудно выходит – один государь в палатах своих опочивать улегся, а другой – в моем дому. Ажно взопрел от раздумий. И ведь не отличишь вас. А хто есть хто – поди, домысли. Вернулся когда, первым делом к тебе в горенку и сызнова глядеть. Ну ни в чем отличия нет, окромя щеки правой, кою тебе головня тлеющая прижгла на пожарище. Ты уж прости, царь-батюшка, щека твоя как раз в сумненье меня и ввела. Это ж какая крамола выходит, ежели там и впрямь истинный, а я тут невесть кого приютил. А как ему истинным не быть, коли никто его за ворот не хватает и во лжи не уличает. Мать с сестрой, правда, уверяли что ты – истинный, да я им не поверил.
– А они, выходит, и на щеку не поглядели, – хмыкнул Третьяк.
– Слыхала чтой-то матерь, когда ты в бреду глаголил, потому и признала. Сказывала, окромя вас двоих об ентом ни единой живой душе неведомо. А Желана-то просто уперлась. – И усмехнулся невесело. – Я, грит, душу его чую. Святая она. Так что истинный царь у нас лежит, и не сумлевайся в том. Ну а когда я на другой день Епиху обо всем расспросил да выпытал, как царь Иоанн за поджигателями гонялся, тут-то у меня в голове все и сложилось. Приехал сюда и вновь в сумненье впал – уж больно здорово лицо у тебя попорчено. Так и маялся душой, покамест тот, что ныне на твое место уселся, на другой день опосля похорон в палатах пир не закатил, да вместо поминок гульбу затеял. Тут уж мне и вовсе понятно все стало…
– Погоди, погоди, – остановил стрельца Третьяк. – Опосля каких похорон? И какие поминки? – а в сердце уж все похолодело, будто туда плеснули мертвой водой и тут же окатили не пойми чем, но жгуче-огненным. Заново заполыхавший огонь все ширился, а Тихон по-прежнему молчал, стараясь не глядеть в глаза, а затем и вовсе вскочил с места и опрометью кинулся прочь, но, уже отдернув занавеску, обернулся и глухо произнес:
– Померла голубка твоя сизокрылая.
До Третьяка не вдруг дошло. В уши-то попало, а вот далее… Некоторое время он недоуменно смотрел на Тихона, размышляя, что тот сказал и какую голубку имел в виду. Лишь через минуту понял.
– Стало быть, не послышался мне колокольный перебор, – произнес он медленно.
– Ты уж прости за худую весточку, – почти выкрикнул молодой сотник, да с тем сразу и выбежал.
А может, и не сразу, потому что пред глазами Третьяка тут же все поплыло, заволокло пеленой, а в груди уже не огонь – пожар целый. Пламя адское, и то, пожалуй, с такой яростью не полыхало, не припекало грешников, как его сейчас. После услышанного он если и приходил в себя, то ненадолго, ровно до того момента, пока не вспоминал о постигшей его утрате, и вновь уходил в спасительное небытие.
Очнувшись в очередной раз, увидел пред собой Настену. Говорить что-либо не хотелось да и жить, честно говоря, тоже, потому больше молчал, зато ворожея старалась за двоих, рассказывая своим хрипловатым низким голосом одну новость за другой. Говорила она долго, не меньше часа, хотя явно видела, что Третьяк ее даже не слушает, а потом, придвинувшись поближе, завела речь о главном.
– Помнишь ли, что тебе сказывала, будто опосля похорон свово суженого мне и жить-то не хотелось?
– Это когда первый раз мы повстречались, – чуть ли не против своей воли произнес Третьяк.
Он бы и вовсе ничего не сказал в ответ, но напоминанием о том, как ей тогда, в точности как ему сейчас, было до того худо, что даже не хотелось жить, приблизило Настену, чуточку сроднив ее с его нынешним горем. И опять-таки встреча та случилась в те славные времена, когда Анастасия была еще жива, весела и здорова.
– Тогда, – подтвердила Настена, неотрывно глядя на Третьяка своими глазищами, зрачки которых успели заметно потемнеть. Это были уже не глаза матери молодого стрельца Тихона. Скорее уж очи Сычихи.
– Помню.
– А помнишь, яко сказывала, что така тоска на рудь навалилась, прямо хошь руки на себя накладывай? И хотелось наложить. Не будь детей – не задумывалась бы ничуть – али задавилась бы в лесу, али в омут головой. А гляну на них и сама себе укорот даю, кляну нещадно. Что ж ты, стервь така, учинить решила?! А о них подумала?! Им же горемышным опосля того тока и останется, что с голодухи подохнуть! Али креста на тебе нетути?! Тем и выжила. Вот и ты тоже о них подумай. У меня пятеро было, но и у тебя – двое. Хошь незримо, а все ж как-никак защита. Он, тебя опасаючись, их нипочем не тронет, как бы ни хотел, а и восхочет – ты не дашь.
– Это как же я ухитрюсь? – недовольно буркнул Третьяк.
– А на то и голова дана, чтоб исхитряться, – отрезала Сычиха. – Приспичит – учинишь что ни то. Но лишь покамест живой. А мертвяком станешь, так и вовсе им не подсобишь. Потом и надо жить, царь-батюшка, вот и весь мой сказ. Ну, надо, и все тут. К тому ж не просто так ты уцелел-то. Нож-то аккурат в сердце шел, да вишь, помеха тому учинилась. Поглянь-ка сам. – И с этими словами выложила прямо на постель серебряный рубль.
Монета как монета, только начиная с середины и вверх кто-то процарапал по ней полосу. Разглядывая ее, Третьяк даже не сразу понял, откуда взялась эта царапина. Лишь спустя несколько минут до него дошло: «Так это же от ножа». И удивился. Если рубль защитил его от убийц, закрыв сердце, то, выходит, монета была у него на груди, но как она там очутилась? И добро бы – кошель за пазухой был, так ведь нет. Тогда как она там вообще держалась? Кто и чем ее прилепил?
Он так и не смог ответить на все вопросы, которые задавал сам себе, пока не устал и не задремал, продолжая крепко сжимать рубль в кулаке. Ответ пришел во время сна, и дал его старый знакомый Васятка. Невесть откуда появившийся на паперти деревянной ветхой церкви во имя святой Троицы, которую вроде бы давным давно снесли, юродивый сидел, блаженно жмурясь от яркого солнышка, слепившего ему глаза. Подошедшего к нему Третьяка он будто не замечал, а Третьяк и не знал толком, как бы к нему половчее обратиться. Какая-то непонятная робость мешала ему это сделать, а Васятка все никак не хотел открывать глаза. Тогда Третьяк встал так, чтобы закрыть ему солнце. Оказавшись в тени, юродивый очнулся от неги, склонил голову набок и испытующе посмотрел на бывшего государя.
– Что, худо, поди? – спросил он чуть насмешливо. – Я вить сказывал твоему боярину, да он меня не послушался, забыл, что во многая мудрости есть многая печали… Коли что предначертано, то уж так тому и быть, а начнешь поправлять, дак, гляди, кабы хужее не сталось, – вздохнул он печально. – Хорошо, что ты мне рублевика не пожалел тогда. Вот он и сгодился.
– Так это ты меня им защитил?! – ахнул Третьяк.
– Ну а кто ж еще. Тока гляди, Ванятка, – строго погрозил он пальцем, – сызнова исправлять не удумай, а то и вовсе большое худо приключится. Потому я и дозволил, чтоб тебе щеку головня прижгла. Она тебе словно печать станет, чтоб диавол вдругорядь не соблазнил. Щека что – поболит да пройдет, а жив будешь.
– Я буду, а дети? – с замиранием сердца спросил Третьяк.
– Ишь ты какой! – посуровел голос Василия. – Откуда ж я столько силов возьму, чтоб еще и их защитить? К тому ж не сироты они, пока их отец жив. Вот ты и думай, – чуть ли не дословно повторил он слова Настены. – А сюда не торопись поскорее угодить. Тут, конечно, хорошо – с землей не сравнить, но уж больно скушно, так что поживи еще. И рублик-то дай сюды.
С этими словами он протянул руку. Как ни удивительно, но ладонь юродивого, обычно чумазая, с черной каймой грязи под длинными ногтями, на сей раз была чистой и какой-то по-младенчески розовогладкой. Третьяк чуть поколебался, но затем вложил все-таки в нее серебряную монету. Едва Васятка сжал ладошку в кулак, как тут же пропал из виду. Вот был только что, и вдруг на тебе. И главное – куда исчез? Кругом-то все голо и пусто.
– Ты где?! – отчаянно закричал Третьяк и… проснулся.
Спохватился он о пропаже рублевика не сразу, лишь к вечеру. Расспросы ничего не дали – никто монету из кулака не вынимал. Может, сам выронил? Но пол в горенке Василиса каждый день подметала и мыла, так что непременно нашла бы. Получалось… Впрочем, получалось такое, что в голове не укладывалось, и потому Третьяк строго-настрого запретил себе даже думать об этом. А вот слова юродивого отчего-то врезались, запали в душу. Вроде бы он их особо и не вспоминал, ан все едино – дня не проходило, чтобы Васяткин голос не всплыл в памяти: «Поживи еще, поживи еще, поживи еще…».
И Третьяк… стал жить.
Правда, разговаривал пока мало – в основном лишь отвечал на вопросы, да и то кратко и односложно. Остальное время думал. Мысли были безрадостные, но требовалось найти выход, и потому он заставлял себя размышлять, неспешно перебирая скудные возможности доказать свое право на престол и раз за разом отметая их в сторону.
«Выход должен быть, выход всегда есть», – убеждал он себя, пытаясь обрести былую уверенность, но вот как раз ее-то ему и недоставало. Что-то светилось там впереди, но уж больно далеко от него. Так далеко, что он никак не мог разглядеть, как ни всматривался.
Если бы не проклятый ожог, который обезобразил почти всю его правую половину лица, все было бы гораздо проще. Была у него масса возможностей проникнуть в Кремль, добраться до опочивальни, а уж там…
Хотя что «там»? Убивать того, кто спит, не хотелось, да и потом – убьет он его, а что дальше? Куда девать труп? А если это вдобавок не простой труп, но человека, который выглядит в точности как царь? Во всяком случае, похож на государя гораздо больше, нежели сам обезображенный Третьяк. И как потом доказать всем прочим, что…
«А что ты собрался доказывать? – мелькнуло вдруг в голове где-то на третий или на четвертый день. – Что тот, кто до семнадцати годков правил Русью и жил в своих палатах, ныне сызнова туда угодил? Так оно и без тебя ясно. И что станешь говорить? Что ты царь? Что еще вчера ты в тревоге сидел у постели тяжело больной царицы Анастасии, своей жены, пусть не перед церковью, но перед богом? Так ведь и братцу твоему есть о чем поведать. К примеру, что ту же Анастасию под венец он привел, а не ты. Что с самого рождения в государевых палатах он проживал, а тебя там и близко не было. Что пока на него митрополит бармы царские с шапкой Мономаха надевал, ты конюшни чистил у князя Воротынского».
И стало так тоскливо, так больно, что он и вовсе замолчал, даже перестав отвечать на вопросы, а если что-то и цедил с неохотой, так и то спустя минуту, две, да и то невпопад. Стало казаться, что и окружающие косятся на него, поскольку он им в тягость – месяц, почитай, как валяется в постели, а ведь его каждый день кормить-поить надо.
Тоска же все сильнее сжимала сердце. Да и было с чего. Выхода не виделось, а со всех сторон – только мрак. Если бы один трон оказался потерян – можно было бы стерпеть. Пес с ним! Но тут ведь все в кучу. Жена умерла, дети для него потеряны, а в довершении ко всему рожа обезображена так, что и глядеть противно. В лохань с водой, которую каждое утро добросовестно притаскивала для омовения Желана, он теперь заглядывал не иначе как с содроганием в душе.
И в долгие бесконечные часы досуга ему лишь оставалось вертеть в руках последнюю память о царском величии – золотой перстень с осьмиугольным искристым лалом, на котором был вырезан двухголовый орел с короной, а под ним начальные буквицы четырех слов, означающие: «Иоанн – царь всея Руси». Тот самый перстень, который он отдал Тихону, чтобы тот в случае нужды мог распорядиться от его имени тушением пожара в своей слободе. Стрелецкий сотник вернул его почти сразу. Во всяком случае, когда Третьяк пришел в себя, лал уже весело поблескивал на его пальце.
Но это все, что у него осталось. Прочие перстни, жиковины, печатки исчезли. Братец не побрезговал даже обручальной памятью, хотя… С другой стороны, и он не лучше. Пускай не сам, а его люди, но в свое время они тоже поснимали с рук его брата все перстни до единого, так что близнец лишь вернул должок.
Да и вообще Третьяк с каждым днем все чаще и чаще с удивлением ловил себя на мысли, что он начинает оправдывать брата. Если так разбираться, тот лишь возвращал себе свое, не более – свою жену, свое одеяние, свою прежнюю жизнь, свою Русь, наконец. Так в чем его виноватить, коли тать-то, если призадуматься, не тот, кто сидит сейчас на троне с высоким резным подголовником, осеняемый золоченым орлом, а иной, который лежит в стрелецкой слободе? И было бы смешно, если бы тать стал во всеуслышанье горланить о том, что ему, дескать, не дали доделать начатое.
А потом ему приснился странный, немного жутковатый сон.
Темный дом, в котором оказался Третьяк, не походил ни на что виденное им ранее. Горница, в которой он оказался, была довольно-таки тесна, хотя все необходимое в ней имелось – и печь, и широкая лавка с постелью, и стол, уставленный какой-то немудреной, но сытной снедью, и шуба, висящая где-то в углу, близ двери.
Сам Третьяк стоял посреди со свечой в руке, а впереди так и манила, так и притягивала его взгляд золотая дверь, ослепительно сверкавшая даже в тусклом свете горевшей свечи. И настолько она была красива, что он, не колеблясь, двинулся к ней. Немного полюбовался вблизи, после чего решительно толкнул ее и вошел в другую горницу.
Тут все было иное, все наперекор предыдущей. Схожими казались разве что лавки, да и то если забыть про атласные полавочники, которыми они были покрыты. В остальном же и вовсе никакого сравнения. Богатство так и сочилось со всех углов, но почему-то совершенно не радовало глаз – уж больно холодным и чужим оно казалось.
В отдалении же виднелся трон – единственное, что почудилось Третьяку более близким, во всяком случае – знакомым. Он сделал несколько шагов по направлению к нему, подошел почти вплотную и уже протянул руку, чтобы дотронуться до подлокотника, но тут же испуганно отшатнулся. Черная мгла, словно рой страшных мух, будто потревоженная от неосторожного прикосновения, разом поднялась с сиденья и стала угрожающе клубиться прямо пред ним, набухая и увеличиваясь в размерах буквально на глазах.
Третьяк в страхе оглянулся, но то, что он увидел, напугало еще больше – мгла клубилась уже повсюду, сочась изо всех углов и с потолка и все плотнее окружала человека со свечой, злобно сжимаясь вокруг него. Он еще раз оглянулся и вдруг заметил дверь. Правда, вид у нее был неказистый, можно сказать, мрачноватый, но зато за ней – Третьяк чувствовал это – его ждали тишина и покой.
Он шагнул к этой двери, но тут она открылась, и в проеме показался… Васятка. Бывший юродивый молчал, грустно улыбаясь и печально покачивая головой.
– Я ведь уже сказывал тебя, Ваня, – рано еще, – не проговорил – пропел он. – Для того и рублевик твой берег до самого последнего часа. Ну да уж ладно. Коли жаждется – изволь, провожу. – И услужливо посторонился, еще шире открывая дверь и оставляя достаточно широкий проход для Третьяка.
«Но ведь он же умер! – мелькнуло в голове. – Выходит, он меня проводит туда, куда… Э-э, нет. Сам сказывал, что рановато».
Вдруг с неистовой силой захотелось еще пожить, пускай немного, самую малость, но пожить, а тьма продолжала клубиться, увеличившись настолько, что, казалось, протяни руку – и коснешься. Он вспомнил про дверь, в которую вошел, оглянулся и с несказанным облегчением обнаружил, что она никуда не исчезла, оставаясь такой же прочной, пускай и неказистой, сколоченной из обыкновенных плохо оструганных досок. Шагнул к ней – тьма не препятствовала, хотя по-прежнему клубилась рядом. Она угрожала, но не нападала. Третьяк сделал еще шаг, и еще и наконец-то оказался рядом с дверью, затем с силой, опасаясь в душе, что не откроется, рванул ее на себя и без колебаний шагнул обратно к неказистому убранству.
– Правильно решил, Ваня, – раздался одобрительный голос Васятки у него за спиной.
Третьяк обернулся, чтобы последний раз посмотреть на юродивого, да и за рубль поблагодарить не мешало, но тут проснулся.








