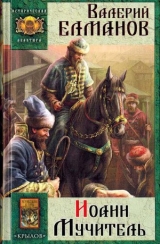
Текст книги "Иоанн Мучитель"
Автор книги: Валерий Елманов
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 19 страниц)
Глава 10
ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ
Разбудила его, как выяснилось, Желана. Легонько касаясь его лба рушником, вытирая обильную испарину, она смотрела на него с некоторым испугом.
– Что, устала за уродом ухаживать? – спросил он грубовато, дабы скрыть неловкость.
– Коль не прогонишь, государь, так я всю жизнь бы от тебя не отходила, – мягко выговорила девушка и вдруг ахнула, выронила рушник, прижала обе ладони ко рту и испуганно посмотрела на Третьяка.
Некоторое время оба молчали. Наконец она, как-то жалко улыбнувшись, пояснила:
– Я не к тому, государь, что… Ты не подумай, будто… Про уход я токмо рекла, что лучше меня за тобой…
Но щеки Василисы продолжали наливаться краской, фразы становились все более бессвязными, и она в конце концов умолкла.
– Ошиблась ты, Желана. Не государь я ныне.
– Сызнова станешь! – вновь обрел уверенность девичий голос.
– Не стану! – негромко, но твердо ответил Третьяк. – Коль один раз не сложилось, так чего уж. Да и негоже царствовать с такой-то рожей. Меня с нею даже в дьячки на селе не возьмут.
– Грех тебе на себя наговаривать, – упрямо замотала головой Василиса. – Ты и ныне самый пригожий в мире. Хошь всю Русь обойди – краше не сыскать.
– Ты что – всурьез эдакое сказываешь?! – несказанно удивился Третьяк.
На мгновенье даже промелькнула мысль, что Василиса, устав от ухода за ним, попросту издевается, но, приглядевшись, понял – нет. В лучистых глазах девушки сияло такое восхищение, такие восторг и… любовь, что Третьяк даже не поверил увиденному. Ну не может нормальная девка в здравом уме да еще вон какая красивая, статью вышедшая в мать, вылитая Настена, смотреть с такой нежностью на это «огородное чучело», как он сам себя называл.
Впрочем, скорее всего, это шло от ореола царской власти, нынче ушедшего в безвозвратное прошлое, которое, очевидно, продолжало легкой дымкой окутывать его. Окутывать, скрывая в своем сиянии нынешнее уродство. Оставалось только разъяснить неразумной, что она видит перед собой обычного мужика по имени Третьяк, а в святом крещении – Ванька, и все, что было – уплыло, да так далеко, что кидаться за ним вплавь не имеет смысла. Догнать не выйдет, а вот самому утонуть в погоне за утерянным – запросто. Хотя, честно признаться, разъяснять не хотелось – уж очень плескало на него из Василисиных глаз. Так плескало, что… жить хотелось.
«И как это я раньше не замечал», – подивился он, но вслух строго произнес:
– Ты вот что. Ты о том не думай. Ни к чему оно тебе, – и замолчал, почувствовав, что говорит совсем не то, да, пожалуй, и не так, как надо бы. Чуточку помешкав, он, уже больше по инерции, все-таки договорил: – У тебя, Желана, такой славный жених будет – куда уж мне, увечному. Да и нет у меня ничего за душой. В одном кармане клоп на аркане, а в другом блоха на цепи.
– А мне не надобно за душой! – гордо отрезала Василиса. – Лишь бы она сама на месте пребывала – того и хватит, – и усмехнулась, продолжив в тон Третьяку: – Можно подумать, что у меня поболе. Липовы два котла, да и те сгорели дотла, серьги двойчатки из ушей лесной матки, да одеяло стегано червленого цвету, а ляжешь спать, так его и нету…
– Я и впрямь гол как сокол, – перебил ее Третьяк.
– А вот с соколом ты себя славно сравнил, государь, – одобрил девушка. – Он и впрямь гол, да токмо когда на него глядишь – душа замирает. Царь-птица.
– Царь-птица – это орел, – поправил Третьяк.
– А оно кому как. В величавости тот и впрямь повыше всех прочих стоит. Может, и силы у него поболе – о том тоже спорить не стану. Зато тот… – и, не договорив, махнула рукой: – О пустом говорю развели, государь. Все мы разные, и по вкусу нам тоже разное подавай. Кому орла, кому – сокола, кому – ворона, а иная и воробьем ощипанным довольна, лишь бы притулиться где-нибудь. Чего уж тут – всякой Желане свой Желан по сердцу.
– А тебе, Желана? – тихо спросил Третьяк.
Он хотел и не хотел услышать ответа, ждал его и в то же время боялся. Ждал, потому что чувствовал, как ее любовь что-то согревает в его душе, растапливая ту невидимую корку, ледяным панцирем окутавшую сердце. Боялся же, потому что был уверен – нечего ему дать взамен. Она ему – огонь души, а он что в ответ? Черные головешки с пепелища? Негоже как-то.
– Ежели бы ты меня ныне Желаной не назвал – не ответила, – помолчав, медленно произнесла девушка. – Хотя, что уж тут таить, коли я и так чую – сам ты все видишь. Видать, и вправду люди сказывали, будто любовь, что шило, кое в мешке не утаить. Она тоже наружу норовит вылезти, да так шустро, что все едино – заметят. Помнишь, когда там, в избе, перед тем, как уйти, ты меня поцеловал?
Третьяк наморщил лоб, вспоминая, затем неуверенно протянул:
– Смутно как-то, – и виновато добавил: – Очень уж давно это было.
– А я помню. С тех пор и зареклась, что никого целовать не стану. И еще один разок – тот уж и вовсе пред глазами стоит. Даже вкус твоих губ помню, будто ты меня ныне своим поцелуем ожег.
– Так ведь оно по обычаю, – промямлил Третьяк.
– По обычаю, – эхом откликнулась Василиса. – Так это он у тебя по обычаю, – грустно улыбнулась она. – Для меня ж – иное. Ну, словно задаток. Ты не удумай чего – я ведь и не помышляла доселе. Куда уж простой девке до государя? Об одном надеялась – чтоб ты меня по просьбе Тихона к себе в палаты взял. Пусть изредка, но хоть одним глазком могла бы на тебя поглядеть. Мне и того хватило бы. Знаешь, когда милого хоть видеть можешь – уже радость на душе. Пусть он с другой к дети у него не твои – от этой другой, лишь бы все у него ладно шло. А уж о том, что ты меня когда-нибудь приголубишь, да Желаной назовешь, да дитем одаришь – об этом я и себе самой мыслить воспрещала. Хотя… чего уж тут… все одно – мыслилось. И впрямь, дура упрямая, – горько усмехнулась она, вспоминая, но тут же построжела голосом. – Зато теперь, государь, иное. Ты уж прости, но вышло так, что верхом на твоем несчастье мое счастье ко мне прискакало. И ныне я от тебя ни на шаг не отступлюсь. В том тебе мое слово нерушимое.
– Не ведаешь ты, что на себя берешь, Василиса, – перебил ее Третьяк. – В горячности ты слово это дала, но ничего – я от него тебя освобождаю. Мне ведь теперь даже в Москве нельзя оставаться. Почует братец, что я жив, – весь град перевернет, чтоб сыскать.
– И Тихон о том же бает, – кивнула Желана и пренебрежительно передернула плечами. – Ну так что ж. Куда ты пойдешь, туда и я следом поплетусь. Гнать будешь – отстану, но все одно – издали пригляжу, чтоб сокол мой не споткнулся. Нет тебе без меня пути. И от слова не освобождай, не в горячке я его дала, да и не сейчас, а гораздо ранее. Твердое оно у меня и нерушимое, – и усмехнулась, будто несмышленышу: – Сказывала ж тебе мать, что упрямая я. Такая вот уродилась твердолобая. А потому, государь, о том, чтоб одному тебе идти, и не помышляй. Все равно ничего не выйдет.
И так она это сказала, что Третьяку стало ясно – ни пяди не уступит Василиса. Коли сказала – по ее будет. И не сумел он подыскать такие слова, чтоб еще раз попытаться отговорить упрямую. Не сумел и… не захотел. Д и были ли они вообще?
Правда, честно предупредил:
– Мне тебе взамен дать нечего.
– Душа, яко поле у земли, – мудро заметили Василиса в ответ. – Срезали колосья, и стоит оно пусто. Нечего ему дать более. К зиме ж и вовсе снегом укрывается от печали. Ништо. Придет пахарь весной и сызнова его засеет. Вот тебе и новый урожай. Считай, государь, что я уже приступила к севу. А что всходов не видать – то не беда. Я ж упрямая – я дождусь.
– Не боишься, что лето неурожайное задастся? – не зная, как еще отвадить Василису, спросил Третьяк.
– А чего бояться? – усмехнулась та. – Это у года лето одно, а у человека их много. Сызнова засею. Меня все одно – не переупрямить.
И было Третьяку еще одно дивно. Все остальные – и брат Тихон, и мать Настена – даже не пытались отговорить неразумную, восприняв ее отъезд как должное. А может, и пытались, да потом махнули рукой – кто ведает. Провожая в путь-дорожку, Сычиха не плакала, лишь сказала, целуя на прощанье Третьяка:
– Ты уж побереги ее, государь. Одна она у меня окромя Тихона. Да когда осядете где-нибудь – весточку пришли, не забудь.
Пообещал ей Иван прислать весточку. Твердо пообещал. Он и правда ее прислал, но лишь через два года. Хотя тут уж не его вина. Никак не получалось у них встать накрепко. Поначалу они подались туда, где самая глушь, на украйну Руси, в лесистый древний Муром. Неоднократно разоренный татарами, он и сейчас, после того как миновала основная опасность, нет-нет да и мог подвергнуться нападению со стороны беспокойных заокских соседей.
Мордва хоть и вела себя тихо, ан порою тоже взбрыкивала.
Уезжал он не голым как сокол. Хоть и сказал так Василисе, да потом вовремя припомнил, что имелось у него в опочивальне заветное местечко, где лежали три неких мешочка. В одном Третьяк держал серебрецо, предназначенное для раздачи нищей братии – не обращаться же всякий раз к казначею. Монеты были разные, хотя преимущественно малые – деньга, копейка, то бишь две деньги, да еще алтыны в шесть денежек, да гривенки. В другом – рублевики, хотя и немного, десятка три, не более.
Зато, помимо серебреца, в третьем хранились перстни, которые царь тоже прихватывал с собой, когда заезжал в какую-нибудь из государевых слобод, чтоб если пожелается, то поощрить особо умелого мастера. С руки стягивать жалко – там даже повседневные и то все как один с крупными каменьями. Потому и повелел он изготовить жиковин попроще. Те были вовсе без камешков, да и золотые ободья куда тоньше. Словом, больше для почета, чем для богатства.
Были те мешочки не велики, но и не малы – Тихон-стрелец выносил их содержимое целых пять дней. Подсчитав, Третьяк сделал вывод, что на житье-бытье на первое время вполне хватит, а коли с умом, то и поболе. Правда, малую часть серебреца пришлось потратить, покупая в Муромском посаде скромный домишко. Если бы торговался за него бывший царь, то, пожалуй, пришлось бы выложить намного больше, но за дело взялась Василиса, так что дом обошелся вдвое дешевле.
– Ты с кого серебрецо стянуть решил? – напустилась она на седенького низкорослого, будто вросшего наполовину в землю мужика. – Нешто не видишь, что у нас всей скотины – таракан да жужелица, посуды – крест да пуговица, а одежи – мешок да рядно, – и попрекнула: – Эх ты! Шесть десятков прошел, а ум назад пошел.
– Дак нетути у меня шесть десятков, – возмутился хозяин дома.
– Тем хуже для тебя, – отрезала Василиса. – Ты на свою избу-то глядел хоть? Пол под озимым, печь под яровым, полати под паром, а полавочье под покосом. За что деньгу сорвать восхотел? А хошь, – озорно улыбнулась она, – я с боку стену подопру, и она у тебя рухнет?
– Не надо, – не на шутку испугался продавец, опасливо взирая на рослую и статную девушку, возвышающуюся над ним. – Согласный я подешевше отдать, согласный.
– На сколь? – деловито осведомилась Василиса.
– Четверть скошу, а боле не могу, – заявил тот.
– Что?! – взвилась на дыбки Василиса и вновь пошла сыпать присловьями да прибаутками…
– Ну и мастерица твоя баба торг вести, – сказал Третьяку бывший хозяин дома, после того как урядился в цене, и позавидовал: – С такой женкой по миру не пойдешь.
– С кем? – чуть не подавился яблоком Третьяк.
– С женкой, – недоуменно произнес мужичок и похлопал его по спине, помогая откашляться.
– А-а, – промычал Третьяк, после того как отдышался. – А то мне послышалось…
– Чаво? – полюбопытствовал мужичок.
– Да так, пустое, – отмахнулся Третьяк, но вечером, сидя на лавке в новом доме и с удовольствием уплетая мясную уху, не удержался от ехидного вопроса:
– А не скажешь ли, Василиса, в какой церкви нас с тобой обвенчали, а то я что-то запамятовал?
Та, не сводя влюбленных глаз с ненаглядного и с умилением следя, как тот уминает за обе щеки ее стряпню – какой хозяйке это не придется по нраву? – лишь рассеянно отмахнулась:
– Да и я тоже запамятовала.
– Когда хоть оно было? – осведомился Третьяк.
– Да нешто упомню я, государь, – взмолилась Василиса. – Известно дело – глупа баба и с умишком у ей худо, не дал господь разума, все мужу отвалил.
– А зачем вообще так сказала? – буркнул Третьяк.
– Ты уж прости, Иоанн Васильевич, что дозволения не спросила, – она встала и отвесила низкий поясной поклон. – Но содеяла я оное токмо ради покоя твоего. Ты сам-то посуди. Ежели иное сказать, ну, мол, отец с дочкой, али старший брат с сестрой – дак непременно самое большее, через месяц-другой жди сватов. И нужны тебе эти хлопоты – женихов отваживать?
– Отчего ж отваживать, – возразил Третьяк. – Можно и согласие дать.
– Согласие – оно и от девки надобно. У нас в церкви, коли я «нет» скажу, ни один поп венчать не станет. Да и до церкви жениху со мной дойти не выйдет.
– Это еще почему?
– Да потому, что меня в нее токмо спеленатую занести можно. Надорвется по пути. Во мне, почитай, пять пудов, не мене. У него пуповина по дороге развяжется, – хладнокровно пояснила Василиса.
– Да-а, оно, пожалуй, и впрямь тяжко, – согласился Третьяк.
– То им тяжко, – небрежно отмахнулась Желана. – Тебе ж о сем заботиться не следует. Коли позовешь – на крыльях полечу.
– А коль не позову? – уточнил Третьяк, теряясь от такого напора.
– Обожду. Я терпеливая, – спокойно ответила Василиса.
– Ну, пока ждешь, ты хоть Иоанном Васильевичем не зови. Так лишь царей величают, – уже не зная, что еще сказать, сменил тему разговора Третьяк. – Иван я, и все тут.
– Как скажешь, государь, – пропела Василиса.
– И… государем тоже, – промямлил он.
– Вот тут уж дозволь малое слово поперек сказать, – не согласилась Желана. – В государях испокон века и бояре хаживают, и окольничьи, да даже тех, кто у самых захудалых детей боярских землю пашут, и то так величают. В каждой семье кто голова, тот и государь. У нас же, стало быть, ты получаешься.
– Да какой я голова? – вздохнул Третьяк. – Я ведь и в поле бывал лишь изредка, а так все больше на конюшнях трудился, – напомнил он рассказ о собственной жизни, когда чуть ли не за два дня до отъезда из Москвы сознался Василисе, что завладел троном далеко не по праву.
Выслушав его тогда, она долго молчала, что-то прикидывая в уме и напряженно хмуря лоб. Затем отрицательно мотнула головой:
– Нет, не пойдет.
– Что не пойдет? – не понял Третьяк.
– Негоже такое ни матери, ни брату сказывать, – сказала она. – Добра не будет. Потеряешь ты кой-что в их глазах. Ныне-то они тебя совсем иным видят – вот таким и оставайся.
– А тебе как оно? Неужто я ничего в твоих глазах не утерял?
– Так ведь сказывала я тебе – мне все едино, – пожала та плечами. – Хотя нет. Пожалуй, даже обрел ты. Ближе как-то стал, роднее, словно с высот спустился. Ну, знаешь, как вот соколу надоело вверху парить, он и присел на плетень рядом с курицей. Той-то, ежели она не вовсе дура, понятно, что он вскорости сызнова в такую высь поднимется, что не угнаться, а сидеть рядышком все одно – честь великая.
– А коли не взлететь ему боле? Коли крылья обрезаны, да так, что им уж не вырасти? – глухо спросил Третьяк. – Тоже лестно?
– И лестно, и отрадно, – кивнула Василиса, пояснив: – А отрадно, потому как теперь в ее силах этому соколу подсобить. Тяжко ведь ему к оной жизни привыкать. По небу за добычей гнаться – одно, а по земле ступать да зернышки выискивать – иное. На все свой навык нужон. Вот я тебе и подсоблю на первых порах.
– А ты когда-нибудь видела, чтоб сокол не мясом, а зерном кормился? – грустно усмехнулся Третьяк.
– Потому он и есть птица неразумная, – пожала плечами Василиса. – Одним-единственным его господь наделил, вот он и не в силах, как бы ни тщился, себя поменять. Ты ж сосуд божий. Тебе многое дадено. Да что там долго сказывать – был ведь и ты уже в нашем дворе, и зернышки те тебе знакомы. Токмо ты их не в поле, а в конюшне клевал. Потом крылья отросли – взлетел. Ныне же, как их не стало, надобно за старое приниматься. Но вспоминать – не заново учиться, свет мой ясный. Поверь, что оно гораздо легче будет, – ласково произнесла она.
На том разговор и закончился. Но, напомнив о нем сейчас, Третьяк тоже ничего не добился. Вся его неуверенность от нынешнего шаткого положения всякий раз разлеталась на мельчайшие кусочки от напористой убежденности Василисы. Разлеталась, и хотя потом собиралась заново, но была уже далеко не тем нерушимым монолитом, от которого хоть в голос кричи: «Что делать? Чем заняться?» Вот и сейчас Желана ответила, словно хлестнула булатным мечом:
– Конюшни – оно хорошо. Но уж прости, государь, дуру глупую, коль она усомнится, что ты лишь на одно это годный. Вон сколь людей вовсе грамоты не ведают, а ты и честь, и писать, и считать – всяко умудрен. Святые книги тож чуть ли не назубок ведаешь. Или хошь поведать, что ни мечом, ни сабелькой махать несподручен?
– Сподручен, – согласно кивнул Третьяк.
– Вот! – торжествующе заметила Василиса. – Хотя нет – это я уж лишнее поведала, – тут же озаботилась она.
– Это почему? Боишься, что татары убьют? Да мне теперь…
– Не того, – отрезала Василиса.
Конечно, на самом деле именно это ее и тревожило, но не сознаваться же. Этим ее пока мнимого, но в будущем непременно настоящего супруга уж точно не остановить. Тут иное надобно. Ага, вот оно, нашлось.
– На сече смерть краснее, да и почетна, но тебе до нее еще дожить надобно. Тиша сказывал, что ты всякий раз по весне смотрины своему войску устраивал. А ежели и братец твой тако же?
– Не признает, – буркнул Третьяк.
– Зато почует, – отрезала Василиса. – А тебе в пыточной помирать нельзя – о детишках помни.
– Помню, – тоскливо вздохнул он.
Третьяк и впрямь все время помнил о них. Странное дело, Анастасия вспоминалась уже не столь отчетливо, зато шестилетний Иоанн и совсем маленький трехлетний Федор стояли перед глазами так ясно и четко, будто он с ними расстался лишь вчера, а ведь прошел уже почти год.
В Муроме ему так и не удалось прижиться. Помешал келарь соседнего монастыря. Вроде бы и дом стоял на вольной земле, и сам он был вольной птицей – плати тягло и живи как хошь. Но вот втемяшилось келарю в голову, что Третьяк – это беглый смерд, который после того, как сгорел его дом, так и ушел из деревеньки, не выплатив пожилого, да и не озаботившись расплатиться со всеми прочими долгами.
К тому же было у монаха подозрение, что тот не просто ушел, но попутно залез в монастырь, который в ту пору тоже огнем занялся. Залез и поживился. Во всяком случае то, что он подсоблял тушить пожар – точно, ну а когда рухнула крыша, то запросто мог и добраться до монастырского серебра. Келарь уже потихонечку начал выпытывать у соседей – откуда тот к ним прибыл да где взял деньгу на обзаведение. Третьяк же, еще когда восемь лет назад собирался идти в третий раз на Казань, провел в Муроме целых две недели, и этот келарь – тогда он был отцом Агафоном и подкеларником – запомнился ему уже в ту пору. Выходит, что и его лицо запало в память отца Агафона, и тот недаром бормотал себе под нос: «Где-то я его видел…»
Словом, пока не случилось худа, нужно было уходить. А жаль… Местный воевода – младший из братьев Булгаковых – принял его весьма радушно в связи с острой нехваткой грамотеев. Став подьячим, Третьяк мог жить – при скромном достатке – припеваючи. Да и Василисе было до слез жалко бросать нажитое. Все ж таки это был первый дом, где она полновластно хозяйничала, а в хлеву уже мычала первая корова, купленная ими, хрюкала, кудахтала и гоготала на все лады прочая живность. Да, и не в них дело, а в том, что именно здесь она впервой любилась со своим суженым.
Глава 11
НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ, ДА НЕСЧАСТЬЕ ПОМОГЛО
Случилось это спустя почти год после того, как они тут осели. Жердинка на лестнице оказалась то ли с трещинкой, то ли с сучком посередке, и до сеновала Желана так и не добралась, полетев вниз на глазах Третьяка, который в это время возился внизу.
Ударилась она, конечно, чувствительно, приземлившись на самый кобчик. Но ни тогда, ни уж тем паче теперь, не согласилась бы отменить это падение. Да, было больно, а по первости даже нестерпимо больно, но в то же время как сладко, когда он кинулся к ней – встревоженный, перепуганный, в глазах слезы. А уж как на руках до избы нес – ей, пожалуй, до смертного часа не забыть. И посейчас вспомнить, так мураши по коже.
Странное дело, никогда бы раньше она не подумала, что у ее ненаглядного столько силы в руках. Или это у него от страха за ее жизнь прибавилось? Да какая, в конце концов, разница. Главное – нес. «И ведь даже под ноги ни разу не глянул, – уже потом удивлялась она, – ан все одно – ни разу не споткнулся».
Словно на крыльях взлетел он с ней в избу, уложил на постель и ну хлопотать да суетиться. Осмотреть ушибленное место она не дозволила – уж больно срамно. Вместо этого попросила сходить за бабкой, которую так и звали на посаде Шепчиха. Пока он за нею летал, она кое-как сама себя ощупала. Прислушавшись к боли, поняла – ерунда, само по себе пройдет, но бабке строго настрого наказала говорить иное, пояснив, что накануне не поладила с мужиком, вот и надобно его чуток поучить.
– Ох, не ведаю, останется ли жива, – сокрушенно заявила старуха, выходя из избы.
Услышав такое, Ваня-Ванечка-Ванюша, как она называла его в сладких мечтах, так и охнул. Хорошо, стенка рядом была – прислонился, да по ней и сполз на переставших держать тело непослушных ногах.
– Все, что хочешь, Шепчиха, лишь спаси, – только и выдохнул умоляюще.
– Ладно уж, – благосклонно кивнула старуха. – Есть у меня зелье заветное – дам. Поить две седмицы надобно. Да гляди, сила-то у ей напрочь ушла – своей надели.
– Это как? – опешил Третьяк.
– Пущай не в рубахе спит, а нагишом. Ну и ты тоже рядышком без ничего. И жмися к ей, жмися. Так и передашь силушку-то.
– А выздоровеет?
– А тут уж, милый, не ведаю, – прошамкала бабка и лукаво покосилась на озабоченного супруга. – Тут все от тибе зависить – сколь дать сможешь. Коль не жадный, от души – дак непременно.
Смеяться бы Василисе, когда Третьяк ее раздевать принялся, да не до смеха – даже стонать позабыла, когда он с нее со всевозможным бережением принялся рубаху снимать. Порою его пальцы и впрямь причиняли ей некоторую боль, когда касались больного, но господи, как же сладка она была! До слез. Ее ведь с самого детства никто не мог довести до рева, а тут почувствовала – выступили, да не просто, а уже и потекли, заструились по обеим щекам.
– Тебе больно, – увидел он в лунном свете ее зареванное лицо.
– Не-ет, – выдохнула она и сама всем телом потянулась к нему, помогая еще сильнее прижаться и окончательно отбросить боязнь причинить боль.
Лежали недвижимо недолго, хотя это внешне они почти не шевелились. Зато внутренне так были напряжены, что дальше некуда. И все продолжали и продолжали сильнее и сильнее вжиматься друг в друга. Он по совету Шепчихи, хотя уже не только по совету, а она… Впрочем, и так понятно.
И потом, когда дальше сблизиться было невозможно – вдавились друг в дружку еще сильнее, она вновь шепнула, стыдясь самой себя и в то же время неистово желая:
– Дай мне силушку-то, милый, – и легонько провела кончиками пальцев по его телу сверху донизу.
– Василисушка, ладненькая, так ведь тебе ж, – еще выдавил он кое-как, хотя уже ощущалось, что жаждет-то он как раз обратного и, что она уловила с особой радостью, не только телом, но и душой.
– Можно, Ванюша, мне ныне все можно, – выдохнула она, зажимая ему рот ладошкой, и глаза ее в этот миг напомнили Третьяку Настенины, точнее, даже Сычихины.
Точно такая же мгла бушевала в зрачках девушки, только на этот раз была эта мгла не таинственно-чужеродной, хоть и манящей, но бушующей от предвкушения сладости того первозданного греха, которым Ева сгубила Адама и весь людской род. Впрочем, сгубила ли? А может, наоборот – осчастливила? В книжках, известно, всякое можно понаписать, а как на самом деле было? Вот то-то и оно.
И… сбылось долгожданное. И вновь была боль, смешанная с долгожданной сладостью. Сколько раз она представляла это в мечтах, сколько раз мысленно воображала… Говорят, что фантазии всегда ярче и лучше действительности, которая им уступает. Не верьте! Бывает и наоборот. Правда, чего уж таить, реже, гораздо реже, но Василисе свезло. Выпала на ее долю именно эта редкость.
Никакое воображение не смогло бы воспроизвести поощрительную улыбку луны, на которой, по преданию, скрылась от господа окаянная и своенравная Лилит [45]45
Лилит – согласно одному апокрифическому сказанию, она была первой женщиной, которую сотворил бог, причем точно так же, как и Адама, то есть из глины. Но она оказалась очень своенравной и в первые же часы повздорила с Адамом, отстаивая свое равенство, после чего убежала от него и отказалась вернуться обратно, хотя бог и послал за нею ангелов, укрывшись на Луне.
[Закрыть], никакие мечты не могли бы доставить такого наслаждения, где боль смешивалась с острой опять-таки до боли сладостью, образуя вместе такую неописуемую смесь, что хоть в голос вой, потому что молча эту мучительную негу уже не выдержать – сердце не сдюжит.
А наслаждение все длилось и длилось – тягучее, как патока, ласковое, как майская трава, и сладкое, как липовый мед. И она закричала – дико, по-звериному, высвобождая в себе неудержимую радость от свершившегося. Закричала и впилась одарившему ее этой радостью зубами в беззащитно подставленное горло. И он тоже зарычал по-звериному, дико и неистово, словно не она, а он грыз это тело, подобно первобытному хищнику, терзающему покорно лежащую плоть…
А потом было еще раз…
И еще…
И еще…
Они даже не заметили, как уснули во время очередного небольшого перерыва. Да и сон ли это был. Будто умерли оба. Умерли, возродившись к новой жизни для обоих, к той, где биение сердец может быть только обоюдным – такт в такт, стук в стук, потому что остановись одно, и немедленно остановится другое, ибо в этой новой жизни он уже будет не в силах жить без нее, а она без него.
И даже коварная Лилит, которая бесстыдна, но не святотатственна, перестала заглядывать в слюдяное окошко, устыдившись и закрывшись в смущении облачком, как платком. Устыдившись и… позавидовав увиденному, потому что наказанием за ослушание ей стало одиночество, которое сегодня, при виде всеторжествующей любви, оказалось неизмеримо горше обычного…
А потом была вторая ночь – похожая и вместе с тем не похожая на первую. Нет, она была ничуть не хуже, но и не лучше – куда уж. Просто иная. За ней пришла третья и тоже другая. А там и четвертая…
Словом, Третьяк честно и добросовестно выполнял наказ бабки Шепчихи, у которой потом до самого отъезда «молодоженов» не переводились в избушке ни мягкий свежеиспеченный хлеб, ни свежее, с тяжелой жирной пенкой молоко, ни куриные яйца – хоть такой ничтожной малостью пыталась расплатиться Василиса со старухой. А попросила бы та – она и корову свела со двора, причем даже не задумавшись. За это что ни заплати – все мало.
Хотя навряд ли Третьяк помнил о наказе старухи относительно двух недель. Во всяком случае, он продолжал щедро делиться своей силушкой и на третью седмицу, и на четвертую. И все так же манили Третьяка широкие бедра, и так же сладки были Василисины сочные губы, все так же затягивали в жадную бездонную мглу ее темнеющие до черноты глаза, и он погружался в них весь, плывя в этом бесконечном омуте блаженства, задыхаясь от нежности и любви.
Оказывается, не все сгорело в его душе, и нуждалась она лишь в хорошем порыве ветра страсти, взметнувшем такое полыхающее в своем неистовстве пламя, в котором душа, подобно сказочной птице Феникс, неугасимо горела каждую ночь. Горела, но не сгорала, ибо это был очистительный огонь, сжигающий лишь ту скверну, что сам человек и рад бы, но спалить не в силах.
Но если верно то, что бог есть любовь, значит, истинно и обратное – любовь есть бог и чудеса, творимые ею, безграничны. И их случайно нагрянувший медовый месяц плавно и незаметно для обоих перевалил на второй, а затем перешел и на третий. Да и как не перейти, когда такого у Третьяка не было за всю жизнь. Разве что с Анастасией, но там все равно было иначе. Она лишь отзывалась, Василиса же звала сама. Та робко ожидала, а эта шла навстречу, и там, где царица откликалась, Желана сама подавала голос, там, где первая смущалась от собственного бесстыдства, никогда не переходя некую невидимую, но строго очерченную ею самой грань, дочка Настены не смотрела на черты незримых рубежей. Анастасия Романовна всегда, хоть немного, но помнила о приличиях – для шалой Василисы их не существовало вовсе. И главное, что отделяло, – царица всегда шла вослед, но никогда даже рядом, а Желана потому так и оставалась желанна, что устремлялась вперед, зачастую опережая Третьяка или – вровень. И не было такого, чтоб она не поспевала, разве что чуточку отставала, но совсем неприметно.
Ох, если бы не этот чертов келарь!..
В какую сторону ехать – вопрос не стоял. Слухи, доходившие до них, прямо предостерегали, что подниматься выше, в сторону севера, в обильные хлебом и зажиточно-тихие места, к Суздалю, Владимиру или Переяславль-Залесскому не стоило. Двигаться на восток к черемисам и не покорившимся до конца татарам тоже не мыслили, равно как и на юг, в мордовские леса. Потому телега покатила на запад.
Осесть в Шацке не получилось – отчего-то заупрямилась Желана, которую Третьяк теперь называл только так. Ну, разумеется, не считая прочих ласковых прозвищ, на которые мы все так изобретательны в порывах нежности. Впрочем, ему и самому в этом граде что-то не приглянулось. Хотя иначе, наверное, и быть не могло. Коль двое за одно, то когда один чувствует, другому всегда отдается, и когда первый говорит, второй тотчас откликается.
Вдобавок у Третьяка хватало дополнительных причин, чтобы здесь не задерживаться. Тогда, в лето 7059-е [46]46
1551 год.
[Закрыть], то есть десять с лишним лет назад, он сам повел поставить этот град, который послужил еще одной, самой нижней на востоке стяжкой-пуговкой в крепкой линии засек, отделявшей Русь от крымчаков. Выполняя его указ, на следующее лето в этих местах и поднялись крепостные стены и башни. Даже воевода оставался еще прежним – сам Третьяк его и поставил по подсказке князя Владимира Воротынского. А ну как признает? Э-э, нет уж. От греха подальше.
Зато в Шацке их повенчали. Седоватый, но еще в полной силушке поп, гулко бася, соединил в пустоватой церквушке нерушимыми церковными узами раба божьего Иоанна и рабу божию Василису в единое и неразрывное целое. Чуть поколебались, когда решали – куда дальше. Дорог было три. Первая, самая северная, лежала в направлении Переяславля-Рязанского, который позже назовут Рязанью. Самая южная шла чуть ли не по кромке Дикого поля, к Рясску. Еще одна пролегала между ними, упираясь в Пронск.
В Переяславле Третьяк, точнее, царь Иоанн бывал не раз. Конечно, навряд ли его там признают в этой одежде да с таким ликом, но сказано древними: «Не искушай всуе». Потому решили не искушать, а направились в Рясск, как самый ближний изо всех градов, а уж коли и там что-нибудь не заладится, то до Пронска недалече.








