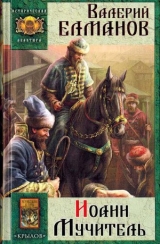
Текст книги "Иоанн Мучитель"
Автор книги: Валерий Елманов
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 19 страниц)
– А може, бог когда не оставит.
Но и тут царь поступал с тайной мыслью хоть чем-то насолить Подменышу. Обычно великие князья, завещая своему старшенькому страну, давали прочим сынам в удел немного – в обрез на достойное проживание, но не более, чтобы после не возникло свары. Иоанн же, в отношении младшего, Федора, не поскупился, отмерив ему столько, что хватило бы на целое королевство, а то и два. Да и с городами он был щедр. Ярославль, Суздаль, Кострома и многие другие – тут при желании на такую свару могло хватить, чтоб вся Русь кровушкой залилась. Да пес с ней, с Русью-то, главное, чтобы они оба в этой сваре издохли.
Однако, чтоб Подменыш ничего не заподозрил, и завещание он включил и подробное наставление о том, чтоб жили дружно, чтоб Федор был во всем заодно с братом, а Ивану наказывал не искать удела под Федором. Знал, случись что, и никто не станет обращать внимания на родительские слова, а потому и не скупился на увещевания к любви и миру.
Правда, и тут не удержался. Чтобы поводов для грядущей свары было побольше, а сама она возникла пораньше, он советовал, до тех пор пока Иван не утвердится на государстве, раздела не учинять.
– И люди бы у вас заодин служили, и земля бы заодин, и казна бы у вас заодин была ино то вам прибыльнее, – диктовал он, усмехаясь в душе.
Еще бы не злорадствовать. Коль две бабы у одной печи и то горшки не всегда мирно делят, то тут уж и вовсе. Непременно друг на дружку пойдут.
Не упустил он случая сказать и о себе. Пусть Подменыш, если эта бумага попадет к нему в руки, твердо уверится в том, что он, Иоанн, всерьез раскаялся.
– Аще и жив буду, но богу скаредными своими делами паче мертвеца смраднейший и гнуснейший, – диктовал он, нехотя, через силу выкладывая ту правду, которую не смели произнести вслух даже самые ближние из его подданных, – сего ради ненавидим есмь.
Немного походив по горнице, он решил, что не лишне будет дать знать всем этим мучителям-отравителям о том, что ему все известно. «Ежели не удастся разжалобить, так, может, хоть устрашатся», – подумал он, и вновь бойкое перо дьяка забегало по бумаге:
– Тело изнеможе, болезнует дух, струпи телесна и душевна умножишися, и не зрю я врача, дабы сумел исцелити мя…
Однако дальнейшие события приободрили его. Отправленные им послания – отдельно к боярской Думе, к митрополиту и к населению – всколыхнули жителей столицы. Уже на следующий день после их оглашения толпа взбудораженных москвичей со всех сторон окружила митрополичий двор, где собрались и члены Думы, на которую Иоанн, не удержавшись, свалил-таки все свои неудачи в войне с Ливонией.
Представители купечества и наиболее видные горожане, допущенные в покои к новому митрополиту, в один голос заявили, что верны старой присяге и хотят просить государя, чтобы он вернулся на царство, да чтобы к их голосам прибавил свой и сам владыка.
Бывший царский духовник протопоп Андрей, который недолго дивился загадочной перемене в Иоанне, уйдя в монастырь и будучи нареченным при пострижении Афанасием, был избран митрополитом, можно сказать, почти против своей воли. Теперь он пребывал в задумчивости, не зная, что ответить людям.
А что тут скажешь, когда он и сам толком не разобрался, что за бес вселился в царя сразу после смерти его супруги. Да судя по тому, что Иоанн начал вытворять – не просто бес, но сам сатана. Ушло время задушевных бесед, кануло в небытие, как не было их вовсе. Впрочем, что беседы, когда изменилось все, решительно все, даже сама манера речи. Словно в одночасье взяли и подменили человека. На лик глянь – он, а душа-то не благостью дышит – смрадом. Не делами голова занята, как прежде, – развратом, на сердце не умиление вкупе с пониманием и прощением – злоба лютая.
И ответ на все увещевания один:
– Твое дело, поп, грехи мои отпускать, а не проповеди читать. Давай-ка поторапливайся, а то недосуг мне. В пыточной ждут.
Сказывал протопоп о загадочных переменах владыке Макарию, а у того лишь мутная слеза скорби в ответ. Ни словом, ни полсловечком так и не обмолвился старик за все то Недолгое время, пока отец Андрей к нему приходил. Раз лишь произнес шепотом:
– То за грехи господь его дал. Мы все в том повинны, а я так поболе всех.
Спрашивается, он-то тут при чем? Лучше бы посоветовал, как дальше жить! Выслушивать же каждый день о творимом государем непотребстве, стало невмоготу. Особенно худо пришлось отцу Андрею во время суда над протопопом Сильвестром и боярином Алексеем Федоровичем Адашевым. И корил себя отец Андрей за слабость души, и ругал всячески за малодушие, и бранил непотребно за страх, но крепко сидел в нем лукавый, нашептывая: «Что проку, коль ты, следом за владыкой, возвысишь свой глас в защиту оных праведников? Было б вас не двое, а поболе – иное дело, а так…» Словом, так и не вымолвил ничего царский духовник.
Суд давно прошел, а он все никак не мог простить себе этой трусости. Пусть не обвинял, но и не вступился же – смолчал. Потому и ушел в иноки, приняв постриг, а вместе с ним и новое имечко. И не потому, что пострижение совпало с днем смерти преподобного Афанасия [55]55
2 декабря по старому стилю.
[Закрыть], а потому, что твердо решил жить именно так, как он, приняв на себя обеты затворничества и уединения. Пускай и нет пещеры, из которой этот святой двенадцать лет не выходил, зато есть келья в Чудовом монастыре. В конце концов, какая разница.
Но слаб человек. Решил уходить в затвор не сразу, а приучив себя к обычной монастырской жизни, ан и тут соблазн подкрался. Сразу после смерти владыки Макария царь вспомнил о бывшем духовнике – тихом, безгласном и покладистом. Такой показался угоден. И грехи послушно отпускал, и об исполнении им же налагаемых епитимий не нудил, не приставал. Да тут еще архимандрит Левкий пристал заодно. Дескать, богу везде послужить можно, лишь бы желание было. Опять же книги вспомнились. Их Макарий изрядно после себя оставил. Вот они-то его окончательно и добили. Они и надежда, что сумеет образумить государя, что вернет долг покойным Сильвестру да Адашеву тем, что не сробеет, подаст свой глас в заступу неправедно гонимых. И стал инок Чудова монастыря митрополитом всея Руси.
И вот теперь, сидя у себя на подворье – загородные хоромы он не очень-то любил, предпочитая те, что в городе, – митрополит скорбно размышлял, что сказать волнующимся горожанам. Честнее всего – в этом он был абсолютно уверен – поведать правду, заключавшуюся в том, что человек с сатаной в сердце не может называться человеком, а уж тем паче государем, а потому лучше всего с радостью принять его отказ от царства да поспешить, пока он не одумался. Вот только кому нужна такая правда? Захочет ли кто-нибудь к ней прислушаться?
Конечно, человек мог и еще раз разительно перемениться, но он-то знал – прежний Иоанн, которого он когда-то знал, умер вместе с царицей Анастасией Романовной. Этот же – не изменится никогда. Как случилось с ним страшное превращение, так и осталось в неизвестности. Да и то сказать – из человека в зверя превратиться легко. Тому примеров без счету. А вот обратно в человека перекинуться – тут трудненько, и ежели задуматься, всего одно подобное чудо и припоминалось – как неистовый гонитель первых христиан Савл преобразился в апостола Павла. Но он-то, Афанасий, не Христос, чтоб сказать: «Иоанн, Иоанн, почто народ гонишь?» А и скажет – все едино. Не станет его царь слушать. Нипочем не станет.
Но и то взять – ведь было же еще одно чудо. Совсем недавно оно приключилось, всего-то шестнадцать годков назад, когда нынешний государь из льва рыкающего в кроткого агнца превратился. Опять же без царя люду и вовсе худо станет. Ежели помыслить – людишки не за государя просят. Они своевольства боярского страшатся. Было уж такое, ведают, яко оно тяжко.
И как тут быть? Пойти навстречу – отвратно. Отговорить – лучше не пытаться. И снова слабость души сказалась – решил Афанасий по течению плыть, чтоб вместе со всеми.
– Приказные приказы свои покинули, – молвил он тихонько. – Коли я уеду – стольный град и вовсе без присмотра останется. Не дело оно. Надобно и тут кому-то быть для бережения.
«Глупость, конечно, – тут же подумал он про себя. – Ну как я Москву уберегу? Чем? Крестом что ли? Смешно даже, – и с удивлением подметил: – Но ведь слушают, молчат, кивают. Стало быть, верят? Ну и ладно».
– Ныне же наряжу чудовского архимандрита отца Левкия. Он и пойдет с вами к государю, – продолжал владыка более уверенно. – А с ним вместях и архиепископы Пимен да Никифор, – вовремя вспомнил Афанасий про как раз находившихся в Москве пастырей новгородской и ростовской епархий.
Сам же злорадно подумал про Пимена с Левкием: «Вы – его ласкатели, вот теперь и хлебайте досыта». Но старшим назначил Никифора – тот посдержаннее, хоть не так лебезить станет.
Могучие заставы из отборных ратников, кольцом оцепившие Александрову слободу, остановили посланцев митрополита уже в Скотино. Лишь после разрешения царя, взяв, словно татей, под стражу, повезли представителей церкви дальше. Усиленный конвой сопровождал и делегацию бояр, да и то допускали не всех, а поименно отобранных самим Иоанном. Впрочем, и тех он разрешил допустить лишь после «слезных молений духовных отцов». Остальные же так и ждали в Скотино. Из черного народца и купчишек не пропустили никого.
Размышлял Иоанн долго и ответ дал не сразу, изрядно потомив в ожидании. Может быть, и вовсе отказал бы – страх оставался, но гнойничковые чирьи к тому времени прошли, а это обнадеживало. Значит, перестали его травить. Опять же глянул накануне вечером на пузцо своей черкешенки – растет помалу. И тут же тоскливая мысль: «Духовную славно отписал. И впрямь перегрызться могут. Но своей-то кровинушке так ничего и не оставил. Даже сельца захудалого – и того не дал, потому как не в силах, ибо не рождено еще чадо. Его и упомянуть-то нельзя – имечка христианского нетути. Нет, не дело я удумал. Рановато мне в монастырь подаваться».
Боярам же заявил про Подменыша почти в открытую, опять-таки в надежде, что, испугавшись, они перестанут чинить ему козни:
– Чую всех своих ворогов и ведаю, что злоумышляете супротив меня. Мыслите мой род низвергнуть? Не выйдет! [56]56
Мои слова подтверждают и показания бывших царских опричников Таубе и Крузе, которые в своих записках говорят, что Иоанн обвинил своих противников в намерении свергнуть законную династию.
[Закрыть]
Но еще колебался, не зная, что предпринять. Хотелось, ох как хотелось остаться на престоле, но при одной этой мысли страх перед двойником вырастал в некое исполинское чудище.
«Вот бы отдельно от всех поселиться, опричь самых верных никого не видеть и не слышать, – подумалось с тоской. И тут же: – А кто мне помешает-то?»
Он еще раз пожевал-прокатал на языке неожиданно подвернувшееся словцо «опричь» [57]57
Опричь – кроме (ст. – слав.). Отсюда и второе название опричников, которое дал им народ, – «кромешники». При этом, как утверждал Лев Гумилев, подразумевался и второй, глубинный смысл, ведь христиане того времени «тьмой кромешной» называли ад. Получалось, что кромешники – адовы слуги. Учитывая, что они вытворяли на Руси, сказано не в бровь, а в глаз.
[Закрыть]. Выходило неплохо, очень даже неплохо. Да и сама мысль об этом была весьма недурственной. Получалось, что он одной стрелой заваливал сразу двух зайцев – и оставался на престоле, и в то же время сводил на нет все дальнейшие попытки двойника.
Вот только ни с того, ни с сего строиться наособицу было как-то… Слишком походило на трусость, а выказывать ее, пускай даже оценить ее может только двойник, не хотелось. Чересчур велика честь для холопского сынка. Да и где строиться, коли в городе и на улицах-то тесно. Каждый норовит свой терем за крепкими стенами поставить – уж больно оно почетно. Получалось, что надо расчистить себе это место.
А спустя всего два дня в Москве приключился странный пожар. Был он малым, такие в столице на редкость даже в зимнюю пору, но на сей раз горело не в Китай-городе, не в слободах, не в Занеглименье, а в самом Кремле, причем рядышком с дворцом. Вначале занялись царские конюшни, оттуда огонь перекинулся во двор князя Старицкого, и пошло-поехало.
– А митрополичье подворье жечь было ни к чему, – проворчал Иоанн, выслушав подробности пожара от Малюты.
– И не мыслил даже, – оправдывался тот. – Я и терем князя Старицкого не успел запалить – сам от ветра занялся. Гасить-то поздно принялись, вот и не уберегли покои владыки. Дак там на задку лишь погорело. Ветр ведь, он яко дыхание божье. Видать, повеление свыше было, чтоб, значится…
– А ты, стало быть, рука господня, – ехидно прищурился Иоанн.
– Так я что же, – растерялся Малюта, но брошенный царем искоса взгляд успокоил Григория Лукьяновича – пришучивает лишь, вон в уголках рта улыбка затаилась. – Как повелишь, государь, тем я и стану, – позволил он себе вольность.
– Ну, ну. Ступай себе с богом, – добродушно проворчал Иоанн и, оставшись один, бодро потер ладоши. – Вот и место сыскалось.
Правда, после того, как расчистили пожарище, выяснилось, что места этого все равно мало, а потому митрополита все одно пришлось выселять, заодно разломав покои царицы и все пристройки, где ютились многочисленные дворцовые службы. Словом, снесли все до самых Курятных ворот.
Но не прошло и года, как обуявший его страх, который к тому времени опять стал усиливаться, заставил Иоанна отказаться от своего намерения жить в новых палатах, побуждая вовсе распроститься с Кремлем и переехать… на Арбат. Уж очень символично ему показалось поселиться на том самом место, где он некогда вновь обрел свой престол. Благо, что по указу об опричнине в ее пользу была отмежевана вся Чертольская улица, начинавшаяся в аккурат от Кремля и доходившая до всполья, а также Арбат до Дорогомиловского всполья и Новодевичьего монастыря.
Тот же страх заставил царя повелеть выселить из опричных кварталов всех бояр, дворян и приказных людей, не принятых в опричнину, а в нее принимали далеко не каждого. Специально созданная комиссия в составе первого боярина Алексея Басманова, князя Афанасия Вяземского и думного дьяка Петра Зайцева провела генеральный смотр дворян трех опричных уездов – Суздальского, Можайского и Вяземского. Во время смотра четверо старших дворян из каждого уезда должны были после особого допроса и под присягой показать перед комиссией происхождение рода не только самих уездных служивых людей, но и рода их жен. Требовалось даже указать, с какими князьями и боярами они водили дружбу, после чего зачисляли лишь тех, против кого у царя не было ни малейших подозрений [58]58
И тут тоже нет ни малейшего вымысла. Порядок приема в опричнину взят автором почти дословно из книги Р. Г. Скрынникова «Великий государь Иоанн Васильевич Грозный».
[Закрыть].
Наконец, тысяча верных была отобрана. Каждый из них поклялся разоблачать опасные замыслы, грозящие царю, и не молчать обо всем дурном, что он узнает. С земщиной опричникам общаться было строго-настрого запрещено. Ввели и специальную черную одежду, которую каждый из них был обязан носить. Правда, символичные собачьи головы, привязанные к седлу, в скором времени пришлось убрать – очень уж смердели, если не менять вовремя, хотя бы раз в неделю, а где ж в столице сыскать столько собак. Теперь они оставались только у самых ближних, включая самого государя, но только в виде медальона на груди, изображающего собачью голову с угрожающе раскрытой пастью. Метлу же, болтавшуюся у саадака, оставили. С ней мороки не было.
Захарьиных-Юрьевых в первых рядах опричников не было. Иоанн решил отказаться от всей старой знати без исключения, и как они ни пытались пролезть, ничего у них не выходило. Глядя на них, Иоанн невольно вспоминал Анастасию, не сумевшую сохранить верность законному супругу, и воспоминания эти были далеко не из приятных. К тому же один из братьев – Данило – умер, хотя младшего царь не обидел, передав ему, словно по наследству, чин дворецкого, который до того носил покойный.
Дядьев бывшей царицы он тоже недолюбливал и никого из них к себе не допускал, отдав почетные места близ себя князьям Черкесским – родичам Марии Темрюковны, а одно из самых первых ее юному брату Салтанкулу, получившему при крещении имя Михаил. Одно время тот даже возглавлял опричную думу, а в ливонском походе 1567 года числился главным дворовым воеводой, то есть вторым после царя.
Доверие к нему было понятно. Сын мелкого горского властителя никаким боком не мог быть связан с двойником, уж очень он юн был в ту пору, когда Иоанна обманом вывезли из села Воробьева.
Разумеется, не обошел Иоанн вниманием и любимца – Федьку Басманова. Ради приличия оженил его на племяннице покойной Анастасии Романовны – княгине Василисе Сицкой и пожаловал в качестве свадебного подарка думный чин кравчего, поплевав на то, что до Басманова этот титул присваивали обычно выходцам из наиболее знатных удельных княжеских родов.
Казалось бы, теперь все – живи да радуйся. И хоромы, пусть и в Кремле, пока не построен дворец на Арбате, но все равно наособицу от всех мало-мальски подозрительных, и общение только с проверенными по десятку раз, и Малюта, если что – всегда под рукой. Но страх оставался, не унимаясь, а лишь затухая на время.
Случалось, что вспыхивал он не сам по себе – помогали иные, порой вовсе того не желая, как в случае с тем же князем Горбатым. Мало того что тот на каждом пиру все время ударялся в воспоминания о славных деньках под Казанью, о которых Иоанн по вполне понятной причине ничегошеньки не помнил. Но это еще полбеды – терпел Иоанн до поры до времени. А потом… Дернул же князя черт за язык сказать на пиру, когда Иоанн, изрядно подвыпив как обычно, расстегнул ворот рубахи, чтоб дышалось посвободнее:
– Государь, а где же твой шрам, что тогда под Казанью?..
Иоанн как-то сумел отговориться, сославшись на своего лекаря, знатно ведающего раны и умеющего учинить такие припарки, от которых в скором времени рубцов не остается вовсе. Так ведь не унялся дурень, принялся выпрашивать этого лекаря для себя, чтоб тот и ему эти припарки учинил, а то, вон, куда ни глянь – всюду шрамы. Конечно, боевыми рубцами принято гордиться, и воину оно в почет, согласился он с Иоанном, но уж больно чешутся треклятые к непогоде.
– Пришлю лекаря, – зловеще пообещал царь. – Для тебя, Ляксандра Борисыч, все что хошь.
И прислал, не заставил себя долго ждать. Но не лекаря. Ни допросов, ни прочих формальностей не было вовсе, а государево обвинение гласило туманно и крайне лаконично: «За великие их изменные дела». Далее же говорилась в нем сущая нелепица. Дескать, князь Горбатый-Шуйский вознамерился возвести на царский трон одного из суздальских князей. Доказательств тому, пускай и облыжных, не приводилось вовсе. Безвестного кандидата в цари, хотя бы из приличия, даже не пытались искать. Хотя никто при всем желании не смог бы и опровергнуть сказанного. Вот я считаю, что ты думаешь обо мне худо, имеешь черный умысел – и чем тут доказать обратное? Да ничем. Получалось очень удобно.
Сына его, Петра, он поначалу не хотел трогать, но потом подумалось: «А вдруг отец поделился с ним своими сомнениями насчет рассосавшихся царских рубцов? Нет уж. Тем более мальчишке всего семнадцать лет. В таком возрасте мало кто язык на привязи держит». Заодно повелел присовокупить и окольничего Головина – все ж таки тесть. Мало ли, что ему зятек поведал. Так что на Лобное место они вышли втроем. Первым лег под топор мальчишка, однако Александр Борисович, не желая видеть смерть сына, строго заметил:
– Не гоже поперед батьки лезть. Родители допрежь детей уходить должны, – и, отстранив его, сам положил свою голову на плаху.
После того как топор смачно разрубил его шейные хрящи, сын поднял отрубленную голову отца, поцеловал ее и только после этого принял смерть. Так и пресекся род Горбатых.
Случалось и иное, когда Иоанн вдруг просыпался в холодном поту и с ужасом вспоминал: «А ведь новая дворня тоже могла оказаться засланной?!» И тут же звал Афанасия Вяземского, которому он пока доверял без меры – сам выбрал из молодых, – и наказывал всех проверить, всех опросить, и ежели что…
После этого в царском архиве появился еще один ящик со ставшим символичным в конце XX века номером двести. В нем хранились опросные листы всех дворовых людей, входивших в обслугу нового дворца Иоанна – «сыски родства ключников, и подключников, и сытников, и поваров, и хлебников, и помясов…».
В тот же год и по причине того же страха, памятуя, какую власть держали в боярской Думе суздальцы Шуйские, а их при Адашеве только боярский чин носило пятеро, да еще трое служили по княжеским спискам, Иоанн повелел… нет, не убивать. Уж больно много получалось народу, ведь помимо суздальцев есть еще и князья ярославские, и ростовские, и стародубские. Тут в один мешок всех не упрятать – прорваться может. Проще… сослать. И «послал государь в своей государевой опале князей Ярославских и Ростовских и иных многих князей и дворян и детей боярских в Казань на житье и в Свияжский град и в Чебоксарский город и жити в Казани городе» [59]59
Взято из книг Разрядного приказа за 1565 г. Цитируется по книге Р. Г. Скрынникова «Великий государь Иоанн Васильевич Грозный».
[Закрыть].
В их числе были ярославцы Булгаковы-Куракины и Сицкие, Шестуновы и восемь Щетининых, да вдвое больше Засекиных, ростовчане Катыревы и Темкины, Яновы да Приимковы, стародубцы Кривоборские и Ковровы, Ромодановские и Гундоровы, Пожарские и Гагарины. Заодно дочистили до конца род Адашевых, происходивший из дворян Ольговых, загнав в Казань восемнадцать одних только Путиловых-Ольговых.
А к тому времени был выстроен и отделан новый царский двор на Арбате. Расположенный напротив Ризоположенских ворот Кремля, он внушал почтение одним своим видом – в такой не ворвешься. Не терем – замок. Мощная стена на сажень от земли из тесаного камня. Правда, остальные две сажени – уж больно торопил государь – из кирпичей. Выходившие к Кремлю ворота, окованные железными полосами, украшала фигура льва, который многозначительно раскрыл свою пасть, обратив ее в сторону земщины. На шпилях терема гордо возвышались черные двуглавые орлы. Стены днем и ночью охраняли несколько сот опричных стрелков. Сразу после крещенских праздников, 12 января 1567 года, Иоанн туда и переехал.
Ну теперь-то уж все, можно бы и угомониться. Но нет. Радость длилась недолго, всего несколько дней, а потом, вначале слабо, дальше сильнее и сильнее стало томить прежнее беспокойство, постепенно переходящее в страх. Что-то томило и угнетало, набегая волнами, словно морской прибой, а когда отступало, то оставляло на песке Иоанновой души такое, что лучше и не глядеть.
Как ни странно, но полный покой царь находил лишь в одном месте, и было оно… его недавним узилищем. Впервые он это ощутил, когда попал туда просто из желания посмотреть на свое прежнее обиталище, но уже не как узник, а как властелин. «Посмотрю и спалю», – бурчал он себе под нос, приближаясь к избушке. Посмотрел… и отчего-то пронзительно защемило в сердце. Почти с ужасом, сам себе не веря, он вдруг осознал, что именно тут, в этих ненавидимых им некогда стенах, он никого и ничего не боялся.
Нет, было раз, когда проведать его приехал Подменыш. Ох и перепугался тогда Иоанн. «Да тут любой на моем месте струхнул бы, – оправдывался он перед самим собой. – Повелел бы, и все. Пускай не старцы – они бы на такое не пошли, но долго ли ему самому? Рук марать неохота? Так и не надо. Вон, повороши кочергой в печи да выброси из нее на пол перед самым уходом пару горящих поленьев. От единой свечки половина Москвы сгорает, так что от тех головней вмиг бы изба занялась – не уймешь».
Но это был единственный раз, а все остальное время в избушке веяло уютом, покоем и тишиной, нарушаемой лишь вдумчивым неторопливым голосом одного из старцев, читающего какую-нибудь из святых книг.
«А ведь если бы не они, я бы и к чтению не пристрастился, и писание не постиг. Иное из того, что им больше всего полюбилось да по двадцать-тридцать разов читалось, и вовсе наизусть запомнил», – с каким-то умилением подумал он. И душа, заскорузлая от проливаемой крови, стала как-то высвобождаться из ссохшихся оков, понемногу очищаясь. Так, самую малость, краешком. Или она с этого краешка была еще вовсе незапачканной? Кто ведает.
– Огонька? – услужливо подскочил к нему на выходе из сеней уже стоявший наготове с пылающей головней в руке верный Малюта.
– Я тебе дам огонька! – окрысился на него Иоанн, скрывая смущение от нахлынувших чувств. – Все бы тебе убивать да жечь, – и протянул презрительно: – Эх, ты…
Малюта опешил, но с расспросами не приставал – надо будет, и сам скажет, когда придет время, а уж не придет, так и не надо. За то его царь и ценил, помимо палаческого дара, что с ним легко молчалось и легко думалось. И недовольно покосился на Скуратова. Всплыло в памяти, что в народе сказывают, будто лучше всего молчится с тем, чья душа ближе всех прочих. Получалось, что к нему, Иоанну, божьему помазаннику, государю… словом, и прочая, прочая, прочая, ближе всех этот смердячий пес, вечно забывающий после пыточной сполоснуть руки и вычистить грязь вперемешку с кровью из-под крепких желтых ногтей. Неужто у него, государя, ближе этого человека, который уже не по колено, а по самую маковку погружен в кровь, никого нет?
Этот вопрос возникал не в первый раз, но царь все время старательно отгонял его прочь. Не потому, что не знал на него ответа. Скорее, напротив, потому, что знал его слишком хорошо. И от этого становилось вдвойне тоскливее, а на душе закипала злоба. Не на Малюту – на двойника. Ведь если бы он его сюда не упрятал, как знать – может, и не было бы сейчас никаких казней, не было бы и лютого беспричинного страха, да и вообще ничего из этой скверны, что сейчас окружает его со всех сторон. Но потом ему припоминались забавы детства и юношеские молодечества, он грустно усмехался и ронял в душе печальное: «Зарекалась свинья…»
А на Белоозеро он стал выезжать регулярно, не реже чем раз в два года, и никогда не забывал заглянуть в избушку. Собственно говоря, он и приезжал туда лишь для того, чтобы окунуться в ее тишину и чуточку сполоснуть душу. Пускай немного, но хоть так. К тому же предлог был подходящий – богомолье в Кирилло-Белозерский монастырь. И повод для этого богомолья, к сожалению, тоже имелся – окаянная черкешенка скинула его дите и больше не беременела. Так что и тут не подкопаешься.
Как-то подумалось, что, может, избушка тут вовсе ни при чем. Может, причина возникающего на душе благостного покоя кроется совсем в другом – например, в дивных местах. Сосны – в три обхвата, зверье – непуганое, а воздух – да его как сбитень пить можно, не то что в Москве – с ее грязью и вонью. Но тут же с беспокойством подумал: «А как там без меня?»
За пожары он не беспокоился. Эка невидаль. Ныне сгорит – завтра новое выстроят. Вон, обыденные церкви и то наловчились за один день рубить [60]60
Обыденная церковь потому так и называлась, что ее действительно возводили за один день, приступив к работе с рассвета и успев в тот же день не только освятить ее, но и провести в ней первое богослужение.
[Закрыть], а тут избы. Они и вовсе пустяк. А вот за престол… Тут ведь не только двойник – тут и без него желающих хоть отбавляй.
И вновь злоба на Подменыша. «Нет, чтобы подлинно нужными делами заняться, так он на Казань поперся. Хотя рачительный хозяин и для не шибко нужной вещицы тоже применение найдет. Ну куда бы он тех же ярославских, ростовских да стародубских князей распихал? А так, вон сколь места. Но все равно, Казань Казанью, но мог бы пускай хоть одного князя Старицкого приголубить. И поводов для того – тьма-тьмущая. Ту же болезнь взять, когда Владимир по наущению матери присягать отказался. Тут ведь и выдумывать ничего не надо – подлинная и самая взаправдашняя измена выходит. Да он сам бы за такое…» – и насмешливо фыркнул, вспомнив, что придумал Подменыш на следующий год сразу после рождения у него сына Ивана.
«Вот уж и впрямь – холоп он и есть холоп, – подумал насмешливо. – Ну взял ты с него крестоцеловальную запись, что он обязуется выступать супротив любых недругов царя и его наследника, так что же? Да ему на эту запись – тьфу, да и только. Да еще на мать обязали доносить, ежели она учинит что лихое, пускай и в помыслах. Тоже не дело. Нешто сын супротив родительницы встанет? Да еще супротив такой, как княжна Хованская? Нет уж, надо было как я поступил. Теперь-то, когда она уже не Ефросинья, а старица Евдокия – куда спокойнее. Опять же строить козни, сидючи в келье, несподручно».
И вновь мысли вернулись к избушке. А что, если… Он задумался: «Дворец мой новый на Арбате еще не готов, только начат, да и все равно – Москва-то шумливая под боком. Ее, как город [61]61
Здесь слово «город» произнесено в значении Кремль, который в те времена частенько называли именно так, не добавляя приставок вроде Китай-города, Белого города и т. д.
[Закрыть], не покинешь. Или вместе со двором сюда перебраться?»
И повелел Иоанн Васильевич осенью лета 7073-го от сотворения мира заложити каменные стены в Вологде, да рвы копать и на городские здания к весне «готовити всяческий запас». По его задумкам должны были в этом граде соорудить большой каменный кремль, а посреди крепости возвести огромный собор, чтобы не уступал столичному. А спустя два года, теснимый все тем же страхом, он пожертвовал в Кирилло-Белозерскую обитель двести рублей с тем, чтобы в монастыре устроили для него отдельную келью, а позже даже прислал драгоценную утварь, иконы и кресты для украшения своего будущего жилища.
Именно после того Малюте и еще ряду опричников, перепугавшихся от такого решения, и пришла в голову мысль натолкнуть государя на то, чтобы устроить подобие монастыря где-нибудь поближе, ну хоть в Александровой слободе. И пояснение тому тоже имелось. Дескать, тяжела монашеская жизнь, а коль напялил рясу с клобуком, так потом не скинуть, потому лучше всего ее опробовать на время, вроде как испытание пройти – подойдет такое или нет. Иоанн, подумав, согласился. Вот с того-то времени и пошли у обитателей слободы иноческие порядки да одежа.
Однако мысли о том, что кто-то из бояр подсоблял Подменышу прийти к власти, тоже не оставляли царя, возникая порой в самый неподходящий момент. Так было с любимцами его двойника – Сильвестром и Адашевым. Так же он поступил и с еще одним боярином – князем Димитрием Курлятевым-Оболенским, сослав его сразу после суда вначале на воеводство в Смоленск, а затем и вовсе повелев постричься. Не пощадил он и двух его дочерей, которых вместе с матерью тоже заставил принять схиму, а затем удалил их в глухую Челмогорскую пустынь, расположенную в полусотне верст от Каргополя.
Перечить ему, непогрешимому, каким он сам себя считал, становилось все более и более чревато. Тут уж боярина не могли спасти никакие прошлые заслуги. Вон, попытался было возмутиться младший из братьев Воротынских новым Земельным Уложением. Понять князя Михайлу было можно. Если принять это Уложение, то выморочная треть Новосильско-Одоевского удельного княжества, которая находилась после смерти Владимира Ивановича в распоряжении его вдовы Марии, для братьев терялась, переходя, за неимением сыновей у усопшего, к Иоанну.
Потому и вел себя Михайла Иванович резко, дерзить осмеливался, да и в выражениях не больно-то стеснялся. Думал, что победителю крымчаков и покорителю Казани все дозволено, да не тут-то было. Шалишь, брат. Что было – быльем поросло, а царю грубить не след. Потому Михайла и был вскоре отправлен со всей семьей на Белоозеро, то есть именно туда, где принял в свое время схиму и скончался старший братец. Князь Александр Иванович оказался поумнее брата. А может, сдерживался именно потому, что не числил за собой особых заслуг, вот и оказался в ссылке поближе – в Галиче.
Но время для них еще не пришло. Оно нагрянуло гораздо позже, когда уже возвращенный из ссылки обратно князь Михайла сумел разбить Крымскую орду и вновь ненадолго обрел милость государя. Но тут уж он сам виноват. Не надо было ему во время пира, потеряв всякую осторожность, вспоминать Казань да желать сызнова вернуть то время.








