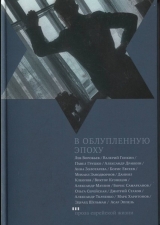
Текст книги "В облупленную эпоху"
Автор книги: Валерий Генкин
Соавторы: Александр Матлин,Марк Харитонов,Александр Драбкин,Дмитрий Стахов,Асар Эппель,Даниил Клеопов,Лев Воробьев,Ольга Серейская,Борис Самарханов,Михаил Занадворов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 16 страниц)
Павел Грушко
МЯЧ
Мама усмехнулась:
– Снова! Будто мало у нас книг…
– Это двухтомник Фридриха Бильца, – прищурился на маму отец и добавил, понизив голос: – 1902 года издания!
– Бильца-шмильца…Мальчику нужны новые сандалии.
Отец был врачом в местной больнице, а Бильц, как объяснил он, знаменитый немецкий естественник. Никаких лекарств. Травы, вода, солнце, воздух, паровые ванны.
– Лучшее лекарство, – рассмеялась мама, – бульон из молодой курочки с манными клецками…
Она была родом из Одессы, а там знали толк не только в бульоне с большими плоскими манными клецками. Однако неизменно, что бы мама ни подавала на стол, она приговаривала: «Сегодня дус эсн из нит азой гит ви томэт [1]1
Еда не так хороша, как всегда ( идиш).
[Закрыть]». Маму звали Мария, папу Ефим, а детское имя сына было Гриша. Он тогда не знал, что еврей. Вокруг были люди с разными лицами и именами, но всего трех видов: мужчины, женщины и дети.
Он был – дети.
Летом городок пышно утопал в зелени, словно хозяином здесь был не он, а окрестный лес, пустивший его погостить. Осенью побуревшую листву, разного кроя, скрадывали дожди, и она некрасиво смерзалась к зиме, которая пушила тихим снегом их дом и участок, и этот снег вкусно скрипел под валенками, а весна заявлялась вся в хрустких наледях и торопливых ручьях. Городок жил при трех речках – Серебрянке, Уче и Воре. В стороне, не очень далеко, лениво плескалось большое водохранилище. Летом стрекозы шебаршили над самым ухом, кузнечики выскакивали прямо перед носом, щенки были препотешные.
То подмосковное лето было довоенным.
(Когда оно вспоминалось будущему Грише – Григорию Ефимовичу, – у него обмирало сердце, и он непременно удивлялся, как это память удерживает столько подробностей детства, когда не можешь вспомнить, что кушал утром; и еще Григорий Ефимович измышлял ответвления той безмятежности, мысленно переводил стрелку и уводил поезд судьбы на другой путь, минуя воспоследовавшие события всемирного значения и семейные невзгоды, даже собирался написать рассказ – как бы это могло быть, да все откладывал, пока не…)
Июньским воскресным утром Гриша с отцом отправились на стадион, только что открытый возле тонкосуконной фабрики. Предстояла встреча по волейболу между местными и курсантами школы ВОХР [2]2
ВОХР – Военизированная охрана.
[Закрыть].
Отец играл за местных; крепкий, среднего роста, он, несмотря на некоторую полноту, был прыгучий, – выносился над сеткой по плечо, а бил с обеих рук.
Пока команды раздевались, он расшнуровал принесенный из дома мяч, выпростал сосок, смотал с него бечевку. Сосок дернулся, из него с разбойным свистом вырвался плененный воздух, и отец стал надувать мяч заново. Лицо у него побагровело, а острый с горбинкой нос, наоборот, побелел. Перегнув сосок, он для оценки протянул мяч Грише, тот похлопал его по черным глянцевитым щекам – мяч отозвался тихим звоном. Сын одобрительно кивнул. Отец завязал сосок и, заправив его в покрышку, тут же ее зашнуровал, продергивая кожаный шнурок маминой шпилькой.
Команды высыпали на площадку. Судья дал свисток. И тут – будто по этому сигналу – завыла сирена фабрики; кто-то, конечно, загоготал.
А по дощатой трехъярусной трибуне пробежал ропот. Гриша увидел подбегавшую женщину в цветастом сарафане, это была тетя Дуся с их улицы. Всплеснув руками и грудью, она хрипло выдохнула весть: «Война началася!»
Курсанты ВОХР, подобрав амуницию и войдя в сапоги, как были в черных трусах, заторопились в сторону казармы. Стали наплывать другие гудки, близкие и отдаленные.
Дома их встретила встревоженная мама. Мяч покатился в угол. И прошло два с половиной года.
(Особенно горько Григорию Ефимовичу будет вспоминаться взгляд отца, отрешенно смотревшего в этом июньском плюсквамперфекте куда-то вдаль, мимо них, точь-в-точь как монах на одной из картин Эль Греко, но монах, разумеется, появился в его сознании много лет спустя, когда у него чуть не…)
Из уральского города Ирбита, где они были в эвакуации, мать с Гришей вернулись ранней весной.
Перед своим домом не увидели ни палисада, ни калитки, исчезли и доски, крест-накрест набитые на ставни окон, и ставни тоже, – война обобрала их жилище руками людей, промышлявших древесину.
Родной дом при виде их с жалобным скрипом распахнул входную дверь, не без помощи порывистого ветра с водохранилища.
– Могу себе представить, что там внутри, – вздохнула мама.
А там оказалась их соседка тетя Дуся. Она появилась в проеме двери и невесело запричитала:
– Ой! Маня возвернулась! Проходите, гости дорогие! – и шмыгнула в дом.
Тетя Дуся жила теперь в нем в двух комнатах с больной матерью и дочкой. Вещи хозяев дома громоздились в двух других комнатах.
– Ну, и на чердаке тоже, – отчиталась тетя Дуся. – Нас как вселили после зажигалки, мы все ваше и перетащили. Я только два половика взяла, с подпола сильно дует.
Наутро принялись двигать мебель и раскладывать вещи. Но сперва мама перевесила фотографический портрет отца, чуть коричневатый, в рамке из карельской березы. Портрет улыбался, и мама, протирая стекло тряпочкой, что-то сказала ему.
Вечером вошла тети-Дусина дочь Варя, она протянула два конверта и выскользнула за дверь. Мама побледнела. Один был похоронкой, в нем извещалось печатными буквами, что «в бою за социалистическую родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество был…», а в пробелах аккуратной прописью с неуместными завитками было красиво выведено «муж… военврач 2-го ранга Ефим Маркович Дворкин… убит…». Второе письмо было треугольное, с пометкой полевой почты, от командира части, в котором он писал, какой славный человек был доктор 2-го ранга.
– Я чувствовала, – сказала мама и спрятала конверты на груди под кофтой. Она прижала к себе сына и безмолвно заплакала. Портрет теперь не улыбался, а виновато усмехался.
(Известно: не столько вещи и понятия меняются, сколько их преображает сознание меняющихся людей. Серьезно задумался об этом Григорий Ефимович годы спустя и даже набросал разработку психологического эксперимента, в котором исследовалась бы реакция пациента (например, мужчины – на одну и ту же картину с обнаженной женщиной) в юности и в зрелом возрасте, или, скажем…)
По мере перемещения мебели в новом двухкомнатном проживании, нашлись Гришины игры, конструктор и недоделанный самолет на резиновом заводе, слаженный из бамбуковых тростинок, проволоки и слюды. А еще тетрадь для рисования с папанинцами на льдине и красочные фантики от появившихся перед войной больших эстонских конфет.
Все это он отдал Варе, оставив себе гербарий с засушенными свидетельствами живой окружающей растительности, который они с отцом оформляли и снабжали подписями. Варе достались и его детские книжки, даже особо любимые Мистер-Твистер и Плюх с Плихом, они принадлежали другому времени, недавнему, но другому.
Из Ирбита Гриша привез четыре взрослые книги (только они и были в тамошнем магазине) – о разведении кроликов, о победе над Финляндией и два воинских устава: боевой устав пехоты и строевой устав конницы – и поставил их на полку рядом с томами Бильца, которые отыскались в погребе.
Дуся использовала их как гнет для деревянной доски в кадушке, где она квасила капусту. На переплетах остались небольшие высохшие разводы – следы участия немецкой науки в русском квашении, но живописные иллюстрации съедобных и ядовитых грибов и вклеенные цветные схемы человеческих тел в разрезе не пострадали. И Гриша с живым любопытством взрослеющего мальчика ознакомился со строением мужчины и женщины, все глубже и глубже проникая в их подкожный мир с каждым раскрытием твердых бумажных створок.
(Такой в далеком начале двадцатого столетия была послойная томография, говорил впоследствии гостям Григорий Ефимович, осуществляя с ними, в роли опытного спелеолога, спуск в живописные глубины разнополых человеческих существ, не забывая при этом…)
Через два дня к восторгу Гриши на чердаке за сундуком обнаружился мяч. Гриша отер его рукавом, и проглянул прежний кожаный глянец. Он крепко обнял мяч: тот упруго отозвался, не так, как тогда, но все же. Таких теперь не было и в помине, как не стало многого из довоенного обихода.
В эвакуации, в Ирбите, мама нанялась работать на воинский пищеблок, ее там прозвали Тетя Каша, такая вкусная она у нее получалась, но выносить что-либо было строжайше запрещено (она и не стала бы), при выходе дежурные по кухне со стыдливым пристрастием прощупывали женщин. Гриша злился на соседок, которые, завидев ее, шептали: «Жулье». Он до позднего вечера ждал маму: она приносила сытные запахи кухни, и он потихоньку обнюхивал ее, а она дотрагивалась до его щек и тоскливо улыбалась.
Лишь однажды принесла большущий кулек с косточками чернослива: новобранцы их выплевывали, кушая компот. Гриша до полночи орудовал молотком. Горькое это было лакомство.
Однажды в Ирбите, накрывшись с головой одеялом, он в голодном полусне домогался еды у неведомой силы. Вытягивал руку с открытой ладонью и шептал, чтобы не разбудить маму: «Сейчас сосчитаю до пяти, и пусть появится котлетка…» Но Сытая Сила так и не ответила.
(Ирбитский голод запомнился как мучительный телесный недуг. Был он недолгим, но длинным, и Григорий Ефимович объяснял этим шоком многие свои бзики, вроде того, когда, выбрасывая засохшую краюшку, целовал ее, словно навсегда расставался с родным существом, и еще…)
Худущий, как косточка чернослива, Гриша в Ирбите до задыхания, до изнеможения гонял в футбол. Мячом служила большая, обмотанная тряпьем, консервная банка из-под американского ленд-лизовского бекона, – какой-то счастливец его слопал, а банку выбросил. Частенько Гриша стоял на воротах, обозначенных двумя обломками кирпича. Неплохо стоял, но когда пропускал лохматую банку, то слышал от сверстников:
– Узе-узе! Опять прозевал!
Так обзывали некоторых приезжих. Не всех.
Теперь он знал, что еврей. Только не понимал, почему считают, что узе-узене воюют, как другие, а по тылам отсиживаются.
– Мой папа не отсиживается! – выкрикивал Гриша, выставив кадык. – Он военврач!
– Вот-вот. Нет, чтоб в окопах…
Теперь, задним числом, Гриша мысленно переубеждал ушлых ирбитцев: «И военврачи проявляли геройство и мужество, верные воинской присяге! Мой папа не отсиживался!»
За домом был двор, упиравшийся в закопченную кирпичную стену обрушенной керосиновой лавки, где как раз до войны работала тетя Дуся (она и теперь немного попахивала керосином). Когда подсохло, Гриша куском крошащегося щебня начертил на стене небольшие футбольные ворота. Установил мяч на почти сухой проплешине. Чуть отошел и с размаху ударил по нему.
От глухого толчка крови он потерял сознание. Когда Гриша очнулся, он не мог понять, потерял ли сознание, когда пнул мяч, или когда тот, срикошетив от стены, угодил ему в голову. Мяч лежал рядом, с беловатым отпечатком щебня на боку. Первая мысль была: «Штанга…» А вторая…
Вторая – ошеломила его, и он расплакался: это был даже не плач, а монотонная жалобная скорбь обиженного судьбой сироты, которому открылось: рядом с ним, в мяче, находилось то единственное, что осталось от живого отца, – его дыхание.
Он замкнулся. Не разлучался с мячом. Мама заставала Гришу спящим в обнимку с ним. Когда пробовала осторожно высвободить его из рук сына, тот просыпался с жалостным нытьем, исступленно цепляясь за черный шар. И она примирилась, отнесла эту причуду на счет переживаний сына, а их в эвакуации было немало.
Мария Гарегиновна, сероглазая, коротко стриженная шатенка, была моложе мужа на пять лет. Они не успели родить еще одного ребенка, но мечтали: Ефим о втором мальчике, она – о девочке. Мария Гарегиновна была наполовину еврейка, наполовину армянка, и они с мужем решили, что второму ребенку дадут армянское имя. Если будет мальчик, то имя ее отца – Гарегин, для всех он будет Гариком. Родится девочка – назовут ее Маринэ, звать будут Мариночкой. Родители Марии Гарегиновны погибли в буйную эпоху молодого совдепа, когда девочке было пять лет, выросла она в Одессе в окружении трех еврейских тетушек, о судьбе которых теперь можно было только догадываться.
Война не умалила ее красоту, явно не русскую, только заострила черты. Природная снисходительность помогала ей в Ирбите сносить оскорбления в свой адрес, будь то на базаре, где она выменивала на жалкие кучки и кусочки привезенные вещи (среди других – милую желтоглазую чернобурку, крепдешиновые платья и постельное белье), или в очередях за продуктами по карточкам и по аттестату. И когда сын заявлялся в слезах, она с затаенным негодованием, но внешне спокойно, облегчала Гришины обиды доступными его возрасту размышлениями о человеческой природе.
Мама убеждала: ребята не злые, злая – война, которая всех ожесточила, вот они и срывают зло на тех, кто на них не похож. Главное не то, что говорят о тебе, а то, как ты сам к себе относишься. Гриша тогда не все понимал, но ее слова и раздумчивая интонация его успокаивали.
(Григорий Ефимович с неизменным удивлением вспоминал о педагогическом такте матери, которая уберегла его тогда от озлобления и презрения к людям, – ему ведь надлежало жить и жить, – и которая, хоть и была начитана, слыхом не слыхала о Святом Августине, Фрейде и Юнге, тем более о Викторе Эмиле Франкле, которому к тому же…)
Обмороков больше не было. Но и того, внезапного, хватило, чтобы мяч вызывал у него тревожное ощущение связи с отцом. Теперь это был не только мяч, а вместилище всего, что было, и того, что, как знать, может произойти. На что нельзя не надеяться. Вернулся ведь инвалидом сосед, похороненный извещением о смерти!
Гриша рассказывал мячу обо всем, что происходило дома. И о том, к слову сказать, что два тома Бильца в целости. Только не отваживался спрашивать, потому что в первую очередь надо было узнать у мяча, вправду ли больше нет отца, а получить ответ Гриша страшился.
Мать пригласила врача местной больницы, где работал муж. Притаившись за дверью, он послушал сбивчивые откровения Гриши и успокоил ее:
– Ничего особенного, Мария Гарегиновна. Фантазии подростка. Девочки ведь разговаривают с куклами. А Гриша ребенок впечатлительный…
Подумав, решился все же добавить:
– Такие крови в нем играют… – и осекся, увидев ее затуманенный слезами взгляд.
Подходило к концу лето. Перед началом занятий, – Гриша был теперь третьеклассником, – он, с мячом под мышкой, отправился на водохранилище.
Лес начинался тут же за школой ВОХР, где курсантами теперь почти сплошь были немолодые, стриженные по-мужски женщины. «Прям не вохра, а жабы какие!» – отзывалась о них тетя Дуся, чья дошкольная Варя доводилась дочерью, Дуся этого не скрывала, одному бойкому довоенному курсанту.
Караульщица у ворот школы крикнула Грише:
– Дал бы мяч поиграть, красавчик!
Он углубился в лес, шел по тропинке, которая вела к водохранилищу. Перед войной Гриша с родителями там бывал. По словам Дуси, немцы вышли зимой на водохранилище с другого берега, а наши-то воду подо льдом немного спустили, так ихние танки все утонули, и немцам Дусю оккупировать не удалось.
Тропинка спустилась в широкий лог, где шелестела змейка ручья; лог густо порос травами, над которыми возвышались болиголовы с их беловатыми зонтами. Гриша помнил предостережение отца: болиголовы ядовиты, лучше к ним не прикасаться, и Бильц тоже указывал на это, – Гриша теперь каждый день листал его.
(Дурманный дух поляны потом всю жизнь преследовал Григория Ефимовича, но особенно – птица с розоватой грудкой, застывшая тогда на высоком стебле и глядевшая на него искоса. По прошествии многих лет, когда он испытывал беспокойство, нервничал, он вызывал это видение, и оно действовало на него успокаивающе, если, конечно…)
Поднявшись из лога, Гриша в просвет между соснами увидел водохранилище. И услышал голоса.
Подростков было трое. Они шли с рыбалки, двое с удочками на плече, а третий постарше, высокий, помахивал бечевкой, на которой серебрились несколько рыбешек. В губах у него разгуливала самокрутка.
Гриша попятился и побежал. В несколько прыжков долговязый догнал его и повалил. Перед глазами Гриши, на фоне сосновых крон задергалось бледное лицо с вонючей самокруткой, которую напавший выплюнул, освободив рот для всегдашнего – а какого же еще! – оскорбления.
– Вона с какими мячами шляются!
Он рывками выдирал мяч из Гришиных объятий, тот отбивался ногами, пока не ослеп от страшного удара по лицу.
Домой его принесли две вохры: они набрели на худышку, возвращаясь с купания. Отерли кровь на его лице своими свежевыстиранными мокрыми майками.
На этот раз мама ничего ему не внушала. Да и что она могла сказать своему ребенку, который, не открывая глаз, дергаясь, однотонно, жалостливо причитал:
– Они его бьют… Ему больно…
(Незадолго до смерти Мария Гарегиновна вспомнила, как у Гриши отняли мяч, и он бредил, повторял, что мячу больно, и она не решилась тогда сказать, что били, бьют и будут бить, а сказать это она хотела ему… в утешение, и Григорий Ефимович подумал еще, что правильно сделал, скрыв от матери, кому больно, хотя…)
Александр Драбкин
КУДА НОЧЬ, ТУДА И СОН
Когда я начинаю рассказ со слов – много лет тому назад, то чувствую себя стариком и, будучи уверенным в том, что это не так, заменяю эти слова на другие, и представьте себе – чувствую моложе. Особенно когда рассказываю о маме и о своем детстве.
Я пишу о событиях так, как их запомнил, пусть не ругают меня читатели, если увидят искажения фактов, это все-таки рассказ, а не учебник истории.
В женском общежитии, где я вырос и где мама моя работала комендантом, жила женщина по имени Физа. Я не помню ее внешности, фамилии, помню, что звали ее Физа, и все. Однажды она пришла к нам домой и, плача, показала какой-то документ. Как сказала потом мама кому-то из знакомых, это было уведомление об исполнении решения суда расстрелять Физиного мужа Сашку за изнасилование и убийство старухи Ривки Сосиной. Ещё мама рассказала о предсказании своего отца, старика Якова, который был самым известным толкователем снов в посёлке Биракан и его окрестностях.
Старик Яков был чахоточным, не работал и мало спал, а мало спал потому, что не мог работать и уйти на фронт и сильно переживал по этому поводу. У Якова было трое детей: моя мама, её старший брат Михаил и младшая сестра Майя. Дети постоянно хотели кушать, а на еду зарабатывала только жена, известная в те годы портниха Эстерка Герштейн. Я не стану утомлять вас подробностями устройства быта еврейской семьи, скажу лишь о том, что у чахоточного Якова было время подумать о жизни, о совпадении снов и их смысле. В те годы люди больше нуждались в предсказаниях, чем сейчас в гороскопах, потому что шла война, и она поделила семьи на ушедших на фронт и на ждущих с фронта. Недосыпающие от войны люди как сводки информбюро обсуждали сны, потом шли к Якову. Он, в свою очередь, внимательно слушал людей и что-то предсказывал, что, говорят, сбывалось.
В 1943 году Ривка Сосина, самая красивая женщина в Биракане, получила извещение о том, что её муж Иосиф пропал без вести. Все плакали, а она не верила и пришла к старику Якову и рассказала, что Иоська ей приснился, сказал, что придет, когда наберет в тайге орехов, чтобы продать и купить новый дом. Потом якобы Иоська сел в поезд и поехал куда-то, а она, Ривка, кричала, чтобы он не ехал, что в бираканских сопках и так полно орехов, но Иоська не послушал ее. Старик Яков сказал, что сон хороший, Иоська вернется, и еще сказал, что ему, Якову, надо отдохнуть. Ривка вышла, и пока она шла до ручья, все слышали, как она плачет.
Уж кто-кто, а Эстерка знала, что муж ее Яков может не сказать всего, потому что людям сейчас плохо и без плохих предсказаний. Яков всегда брезговал обманом, считал, что промолчать это не значит обмануть.
– Яков, – спросила Эстерка, – Иоськи уже нет?
– Иоська придет когда-нибудь. Но жить они не будут. Ривка умрет плохой смертью… Скажи мне, Эстер, зачем об этом знать Ривке?
– Куда ночь, туда и сон, – неуверенно произнесла Эстер, махнув рукой в сторону.
– Иоська придет, – твердила Ривка всем, кто ее спрашивал. – Иоська придет, так сказал старик Яков.
И люди верили.
Когда война закончилась, Яков был еще жив. А Иоська все не приходил и не приходил.
– Иоська придет, – твердила Ривка, – так Яков сказал, он никогда не обманывает.
И Иоська пришел. Где он был еще год после войны, никто не знал. Иоська пришел, и Ривка, ждавшая его до сумасшествия, тронулась умом от счастья. Когда Иоська вошел в дом, она посмотрела на него и спросила: «Ты принес орехи?» Говорят, она была самой красивой сумасшедшей из всех, кого знали в селе.
Иоська тоже был очень красивым и сильным. Он прошел войну и, как потом узнали, плен, но жить с Ривкой у него не получилось. И он ушел. Куда и к кому – никто не знал. «Иоська придет, – твердила Ривка, глядя на свое отражение в ручье, – он соберет орехи и придет, Яков так сказал».
В 1956 году умер Яков. Его хоронили в гробу, как хоронили русских. Но после похорон в доме собралось десять мужчин (миньян), они молились и ели хлеб, макая его в вино, а под окнами дома бродила старуха с седыми космами. Она держала в руках истрепанное извещение о без вести пропавшем и все твердила: «Иоська придет». Мужчины не слышали ее, они молились.
…В особой камере Хабаровского следственного изолятора, в камере смертников, от скрежета дверей проснулся Физин муж Сашка. Едкий дым седыми космами Ривки Сосиной плеснул из пистолетного ствола в его лицо. Склонившись над расстрелянным, доктор констатировал наступление смерти, а прокурор поставил точку в протоколе возмездия.
Со временем я стал замечать, что плохие сны сбываются гораздо чаще, чем хорошие. Вот, например, как говорила моя мама, что-то помнящая о снах от своего отца Якова, если снится рыжая собака, то это обязательно к врагу и неприятностям, которые надо ждать от этого врага. И что вы думаете? В армии, а служил я в стройбате, однажды мне приснилась рыжая собака, которая меня кусала. Весь день я избегал конфликтов и драк – а там, где я был, избежать их было трудно. Ночью мы вернулись с завода, где добросовестным солдатским трудом исполняли гражданский долг перед Родиной. В казарме, куда я вошел последним, было необычно темно и шумно, брань смешалась с криками боли – шла резня между русскими и азербайджанцами. В драке никого не волновало, что я еврей, а посему уже через минуту кто-то ударил меня заточкой снизу вверх. «Вот вам и рыжая собака», – подумал я. И еще подумал: вот почему, оказывается, когда я говорил бабушке, что мне приснился дурацкий сон, и пытался рассказать его, она махала рукой в сторону и ворчала: «Дуракам дурацкие сны снятся. Посмотри в окно и скажи: куда ночь, туда и сон».








