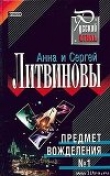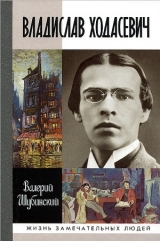
Текст книги "Владислав Ходасевич. Чающий и говорящий"
Автор книги: Валерий Шубинский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Стражеву, впрочем, вскоре пришлось оставить литературу при довольно скандальных обстоятельствах: в списке полицейских «шпионов», опубликованном неутомимым Владимиром Бурцевым, оказалось имя его гражданской жены. Тень пала на самого Стражева, который счел за лучшее надолго уехать в провинцию и всецело посвятить себя педагогике – до конца своих дней. Между прочим, на склоне лет он стал одним из авторов учебника по литературе XIX века для 9-го класса, по которому в 1940–1950-е годы учились советские школьники.
Ходасевич отдельно отрецензировал еще несколько книг – например «Смешную любовь» Петра Потемкина, «Идиллии и элегии» Юрия Верховского. Но, пожалуй, более интересны его нравоописательные и философические заметки этого времени.
Две из них – «Накануне» (Раннее утро. 1909. № 144.25 июня) и «Тяжелее воздуха» (Руль. 1909. № 191. 14 сентября) связаны с модным техническим новшеством – авиацией. Отношение Ходасевича к техническому прогрессу и механической цивилизации – тема вообще особенная и сложная. Как мало кто, он чувствовал эстетическую выразительность революционных изменений вещного мира, но при этом не разделял вызванного этими изменениями энтузиазма. И именно это смущало газетчиков.
Фельетон «Накануне» был, по воспоминаниям поэта, отклонен несколькими газетами, шокированными его пессимизмом. Между тем Ходасевич всего лишь написал, что «нельзя начинать новую эру, грозя все тем же добрым старым кулаком» [164]164
СС-2. Т. 2. С. 66.
[Закрыть]. Мечты о всеобщем мире, антимилитаризм – все это было чрезвычайно популярно в канун мировой войны. Но всерьез в надвигающуюся угрозу мало кто верил. Ходасевич – верил.
«Когда в один прекрасный день „союзные“ броненосцы загудят над нашими городами, когда расцветут „дружественные“ демонстрации воздушных флотов – захочется накрыть себе голову. А когда военные силы откровенно превратятся в сражения – не придется ли нам прятаться под землю, уходить на 40 этажей вниз, как теперь мы взбираемся на 40 этажей вверх.
Не будет ли человеческая кровь литься на нас с неба?» [165]165
Там же.
[Закрыть]
Впрочем, в русской поэзии того времени есть один пример такого – провидения? или просто проявления трезвости? Это – финал «Авиатора» Блока:
Иль отравил твой мозг несчастный
Грядущих войн ужасный вид:
Ночной летун, во мгле ненастной
Земле несущий динамит? [166]166
В то время как поэтов посещали тревожные видения, а газетчики были настроены радужно, иные «люди дела» обсуждали самые неожиданные возможности, связанные с появлением аэропланов. Так, способный инженер Евно Азеф, бывший главой боевой организации партии социалистов-революционеров (партийная кличка – Иван Николаевич) и по совместительству агентом Департамента полиции (оперативные псевдонимы – Раскин, Виноградов), разработал в 1908 году проект нападения на Царскосельский дворец с воздуха.
[Закрыть]
Но окончательная редакция стихотворения Блока написана уже в 1912 году, а в то время три года (с точки зрения технического прогресса и, в частности, в контексте осознания его последствий) были сроком изрядным.
Фельетон Ходасевича «Тяжелее воздуха» трактует ту же тему в ином, ироническом ключе, причем в связи с актуальными политическими новостями – делом об убийстве в июле 1906 года депутата Первой Государственной думы, кадета Михаила Герценштейна, в организации которого прогрессивная общественность обвиняла одного из лидеров черносотенного Союза русского народа Александра Дубровина [167]167
М. Герценштейн был убит 18 июля 1906 года в Териоках, на территории Великого княжества Финляндского. Четыре соучастника убийства были осуждены финляндским судом в 1909 году. Непосредственный исполнитель, Александр Казанцев, до суда не дожил: он стал жертвой мести человека, которого обманом заставил убить другого видного кадета, Г. Иоллоса. В отношении А. Дубровина расследование было закрыто по высочайшему повелению.
[Закрыть].
«Развитие воздухоплавания обещает раскрыть горизонты необъятной ширины. Действительность, окружающая нас, примет совершенно новые, необычные формы. Парламент будет собираться на высоте 500 метров выше Петербурга, совершенно как хоры ангелов. Дубровиных будут разыскивать где-то на седьмом небе. <…>
Да, настанет пора воздушных прогулок, небесных свиданий. Воздушные кокотки будут так очаровательны, воздушные дамы – так коварны! Воздушные молодые люди… Боже мой, какие цилиндры будут у воздушных молодых людей! А полиция воздушных нравов? Я думаю, она будет чрезвычайно строга» [168]168
СС-2. Т. 2. С. 70.
[Закрыть].
Но, несмотря на игривый тон, мысль Ходасевича серьезна.
«Тонкие дни наступают, изящные. Но неужели вся тонкость, вся легкость будет только в том, что мы раскинемся в нескольких ярусах? И все будет по-прежнему?
Мы все-таки останемся – „тяжелее воздуха“» [169]169
Там же. С. 71.
[Закрыть].
Для Ходасевича это «тяжелее воздуха» – осознание крушения символистской утопии, мечты о сверхматериальном и сверхчеловеческом, которое в тот момент воспринималось им только трагически. Несколько лет спустя взгляд изменится – и тогда в его творчестве снова появится мотив авиации, хотя на деле он так никогда в жизни и не поднимется в небо.
Другой темой, о которой много говорилось в то время, были попытки достичь Северного полюса. И здесь Ходасевич снова не проявил должного энтузиазма. Для него и достижение человеком самой северной точки Земли – не осуществление, а крушение мечты: «Взамен прекрасной тайны человечество получило отныне клочок земли, изобилующий пушным зверем» [170]170
СС-2. Т. 2. С. 68. Фельетон «Сфинкс» (Руль. 1909. № 188. 24 августа) – парный к «Тяжелее воздуха». Оба они напечатаны под рубрикой «Последние письма романтика» (и действительно написаны в форме посланий к некоей «сударыне») за подписью Гарольд. Насчет тайны Ходасевич погорячился. Тайна оставалась – по крайней мере, оставалась неясность. Дело в том, что в апреле 1909 года американец Фредерик Кук объявил о том, что он достиг Северного полюса 21 апреля 1908 года (Куку понадобился почти год, чтобы добраться до Большой земли и послать оттуда сообщение), но не смог предъявить результатов измерений географических координат. Через несколько дней другой американец, Роберт Пири, объявил о покорении Северного полюса (результаты измерений на этот раз были предъявлены). Последующая жизнь Пири была посвящена утверждению своего приоритета (успешному) и уничижению Кука. Современные исследователи пришли к сенсационному выводу: ни Кук, ни Пири на полюсе не были. Правда, Пири и его спутник Мэтью Хенсон находились от самой северной точки Земли всего в восьми километрах: их подвели приборы.
[Закрыть].
Ощущение кризиса – на сей раз не символистского миро-видения, а декаданса как образа жизни – особенно остро отразилось в одном из самых интересных газетных текстов Ходасевича той поры – «Девицы в платьях» (Руль. 1908. № 16. 27 января). Этот текст – злая сатира на массовое «декадентничанье», девальвирующее то, что для самого поэта было важным и, в некий момент, даже священным. По времени это первая публикация Ходасевича, носящая не чисто литературный характер. Фельетон писался еще в дни расставания с Мариной, что, может быть, сказалось на его резко-язвительном тоне.
«Придя на „вторник“ в Литературно-художественный кружок, или в художественный театр, или на лекцию Андрея Белого, на картинную выставку – вы поражаетесь обилием дам и девиц, одетых и причесанных „в стиле“. Какой это стиль – тайна, открытая только дешевым портнихам и конфетным художникам.
Пробуйте поговорить. Сразу вас огорошат:
– Как вы думаете, лесбос и уранизм – одно и то же? Но два лика, да?
– Гм, право, я не знаю, почему это вас так интересует?
– Я никогда не отвечаю на вопросы: зачем и почему!
Умолкаете.
Девять десятых „декадентских“ барышень учатся на драматических курсах, говорят о новом театре и приходятся сродни художественному.
– Искусство есть ритм и пластика!
Ах, искусству присущи и ритм и пластика, но после такого афоризма хочется брякнуть:
– Наплевать мне на всякое искусство!
Девица возмущается:
– Но вы пишете стихи!
– Мне кушать хочется.
Презрительно отвертывается и бормочет:
– Поступал бы в дворники.
Но говорить ей хочется до головокружения и она восклицает (непременно афоризм ни с того ни с сего):
– Андрей Белый подарил нас (вы кусаете себе ногти) солнечностью в лазурности, а Бальмонт (произносится Бальмонт) – пьяной росистостью. О, кованость брюсовского стиха, о, колдовство Сологуба, о, маска Блока!
Боже мой! Если вам дороги Брюсов и Белый, и Блок – вы обязаны ответить.
– Белый – ломака, Бальмонт – эротоман, Брюсов – бездарность, умеющая писать только о бледных ногах.
Девушка исчезает и уже пальцем указывает на вас новому спутнику. На лице – презрительный ужас» [171]171
СС-2. Т. 2. С. 43.
[Закрыть].
Почему-то эта, в сущности, невинная разновидность «исторической пошлости» так возмущала молодого поэта. Он словно забыл эпизод из «Моцарта и Сальери»: слепой скрипач,уродующий своим исполнением моцартовскую музыку, вызывает у самого гения лишь хохот – негодует патетический завистник. Но некая внутренняя логика в его фельетоне есть. Во всяком случае очень легко нащупать нить, ведущую от гимназического сочинения 1903 года к «Девицам в платьях». Для Ходасевича по-прежнему есть две правды: правда эзотерических «поэтов-жрецов» и их неизбежно малочисленной аудитории, и правда «людей, живущих здоровой жизнью». Проникновение в их среду моды на «новое искусство» вредно и опасно, потому что ведет, с одной стороны, к вульгаризации этого искусства, с другой – к отравлению его ядами «нормальных» людей: адвокатов, инженеров, матерей семейств.
Между тем сам Ходасевич к этому времени во многом внутренне расставался с символизмом и тем более – с «декадансом» как мироощущением. Это проявилось уже в стихах конца 1900-х годов.
3
«Молодость» вызвала не так уж много рецензий. Самая пространная из них принадлежала Виктору Гофману и была напечатана в седьмом номере «Русской мысли» за 1908 год вместе с рецензиями на «Романтические цветы» Николая Гумилёва и сборник Льва Зилова, небольшого поэта, позже в основном работавшего в детской литературе.
«Эта первая, чрезвычайно тонкая и бедная количеством стихотворений книга, несомненно, заслуживает внимания. Достаточно открыть ее на любом стихотворении, чтобы убедиться, что поэт прежде всего мастер формы. <…> Ходасевич знает ценность слов, любит их, и обыкновенно у него виден строгий и обдуманный отбор их. Размеры его разнообразны и внутренне закономерны, последовательно вытекая из содержания. Почти везде ощущается поющая мелодичность. Наконец, к положительным сторонам книги нужно отнести несомненный художественный вкус ее автора, не позволяющий ему все оригинальное считать непременно хорошим. <…>
Это плюсы. Но есть, конечно, и отрицательные стороны. Таковы: часто неприятный маньеризм автора, его самолюбование, стремление к тому, что называется é pater les bourgeois [172]172
Эпатировать буржуа (фр.).
[Закрыть].И какими дешевыми среднедекадентскими приемами это иногда достигается. <…> К недостаткам книги, кажется, нужно отнести ту старческую слезливость, в которую кое-где переходит изящная сентиментальность поэта».
В сущности, это слово в слово можно было сказать о многих молодых поэтах той поры, и нелегко понять, что именно в стихах Ходасевича понравилось Гофману и что его оттолкнуло. Пожалуй, лишь о финале «Ряженых» он высказывается определенно:
«Если задаться вопросом о будущем г. Ходасевича, сравнив его первую книгу с первымиже книгами некоторых современных русских поэтов, которыми мы теперь по праву можем гордиться, то г. Ходасевичу, кажется, не придется краснеть. Кое-где у него даже лучше форма, больше вкуса и меньше смысловых ошибок, нелепостей, непонимания самого себя. Но в пользу ли г. Ходасевича будет и вывод?
Фридрих Геббель говорит в своем дневнике, что на первых шагах посредственности очень часто опережают гениев, и именно – с внешней стороны… Поэтому и г. Ходасевич не должен забывать, что и для него не исключена судьба многих скороспелых вундеркиндов. Впрочем, ничто пока не дает придавать этой возможности слишком большой вероятности» [173]173
Русская мысль. 1908. № 7. С. 243–244.
[Закрыть].
Уж кем Ходасевич не был – это скороспелым вундеркиндом. Скорее, Гофман писал не о нем… а уж не о себе ли?
Интересно, что и Гофман, и Брюсов в статье «Дебютанты» (Весы. 1908. № 3) сравнивают первую книгу Ходасевича и вторую (по другому счету первую) книгу Гумилёва. Гофман оценивает его «Романтические цветы» невысоко – в его глазах эта книга явно уступает «Молодости»: «Нет в этих стихах настоящей лирики, нет музыки стихотворения, которую образуют и в которую сливаются не только слова, размеры и рифмы, но и самые слова, образы и настроения». Брюсову гумилёвская книга нравится: он отмечает, что стихи этого поэта «красивы, изящны и, по большей части, интересныпо форме». Но ему недостает «силы непосредственного внушения». Напротив, «у Ходасевича есть то, чего недостает… Гумилёву: острота переживаний. <…> Эти стихи порой ударяют больно по сердцу, как горькое признание, сказанное сквозь зубы и с сухими глазами». Однако при том, «что до внешнего выражения этих переживаний, то оно только-только достигает среднего уровня, г. Ходасевич пишет стихи, как все их могут писать в наши дни после К. Бальмонта, А. Белого, А. Блока» [174]174
Брюсов В.Среди стихов. 1894–1924. С. 264.
[Закрыть]. Отзыв этот небеспристрастен, в нем отразились сложности человеческих отношений – и напротив, покровительственная приязнь Брюсова к почтительно проходившему ученический искус Гумилёву. И все-таки в нем есть своя справедливость [175]175
По сути то же самое, но прямее говорит Брюсов о книге Ходасевича в письме Нине Петровской от 12 марта 1908 года: «Поэзии в ней мало, но есть боль, а это кое-что. Не такая пустота, как стишки Alexander’а» (ИМЛИ. Ф. 13. Оп. 3. Ед. хр. 38. Л. 8 об.). Alexander – псевдоним Александра Брюсова.
[Закрыть].
Еще один отзыв – в знаменитой статье Иннокентия Анненского «О современном лиризме» в первом номере «Аполлона» (1909): «Вот сборник Владислава Ходасевича „Молодость“. Стихи еще 1907 г., а я до сих пор не пойму: Андрей ли это Белый, только без очарования его зацепок, или наш, из „комнаты“. Верлен, во всяком случае, проработан хорошо. Славные стихи и степью не пахнут. Бог с ними, с этими емшанами!» Суждение странное и двусмысленное (чего стоит этот неожиданный «емшан» – Ходасевич противопоставляется не кому другому, как кумиру его детства, Аполлону Майкову, автору хрестоматийной в свое время баллады о степной травке емшане, чей пленительный запах убедил хана Отр ока вернуться в родные степи). Но по-детски высокомерного отзыва Ходасевича на «Книгу отражений» Анненский или не помнил, или не придавал ему значения. Позднее Ходасевич не раз говорил о поэзии Анненского с искренней, хотя и не безоговорочной любовью. Лично они, видимо, не встречались: вскоре после публикации двух частей статьи «О современном лиризме» Иннокентий Федорович скоропостижно скончался, нескольких месяцев не дожив до своей долгожданной славы.
Редактором «Аполлона» был Сергей Маковский. Он сразу же предложил Ходасевичу сотрудничество в журнале. Владислав Фелицианович позднее несколько раз печатался в «Аполлоне», хотя признавался, что вести деловые и особенно денежные переговоры с мужем своей бывшей жены ему психологически трудно. Впрочем, это было не единственное петербургское издание, которое к концу десятилетия обратило внимание на Ходасевича. 15 марта 1909 года Алексей Ремизов, с которым Ходасевич познакомился несколько раньше, пишет ему (своим характерным витиеватым полууставом): «Теперь вот что: у нас будет журнал поэтов. Сборник, в котором будут толькостихи. Вести будут три молодых поэта: Потемкин, Гумилёв и гр<аф> А. Толстой. На гастролях у них будут участвовать Брюсов, Вяч. Иванов, Сологуб, Волошин, Кондратьев, Верховский. Пришлите мне несколько стихов Ваших, и я им предложу. Вас ценят» [176]176
РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 79. Л. 1.
[Закрыть]. Речь идет о журнале «Остров», умершем на втором номере, который издатели даже не нашли средств выкупить из типографии. Среди его авторов, кроме перечисленных Ремизовым, были и Блок, и Анненский, и молодой Бенедикт Лившиц, но стихи Ходасевича появиться в «Острове» не успели.
Наряду с рецензиями в 1908 году в газете «Руль» (23 апреля), в цикле «Литературные портреты» появилась первая, можно сказать, «монографическая» статья, посвященная поэту. Автором ее был А. Тимофеев. Она замечательна как чуть ли не первое по времени свидетельство о впечатлении, которое производил Ходасевич на человека «со стороны», не принадлежащего к замкнутому кругу, внутри которого все понимают друг друга с полуслова и все связаны многолетними отношениями и счетами.
«Тонкий. Сухой. Бледный. Пробор посредине головы. Лицо – серое, незначительное, изможденное. Только темные глаза играют умом, не глядят, а колют, сыплют раздражительной проницательностью. Совсем – поэт декаданса! <…>
Позже я познакомился с поэтом. И надо сказать, в нем действительно как-то странно и привлекательно сочетаются – физическая истомленность, блеклость отцветшей плоти с прямой, вечно пенящейся, вечно играющей жизнью ума и фантазии. Как в личности, так и в творчестве, в поэзии Ходасевича… так же странно и очаровательно сплетаются две стихии, два начала: серость, бесцветность, бесплотность – с одной стороны, и грациозно-прозрачная глубина, кокетливо-тонкая острота переживаний, то грустно смеющаяся, то нежно грустящая лирика – с другой стороны».
Поэт в культуре начала века нуждался в собственном образе, даже маске. Хилый, истомленный, «бесплотный», но наделенный острым и беспощадным умом «декадент» – образ не самый прельстительный, но выразительности не лишенный. Образ этот (впоследствии эволюционировавший, но сохранявший свою суть) сложился раньше, чем собственно творческая индивидуальность поэта.
Впрочем, в глазах Тимофеева, «истомленность» молодого поэта была результатом вредного влияния «декаданса» на его свежий талант. «„Безмолвная мудрость полей“ – ты многому научила высоких и сильных, научи и Ходасевича. Ибо ему много дано, а значит, много с него и спросится» – так завершает газетный «портретист» свой очерк.
К тому времени, когда появились все эти отзывы, поэзия Ходасевича во многом изменилась. Стихи «Молодости» были для него уже пройденным этапом. Новые его стихотворения и походили, и не походили на прежние.
Гораздо отчетливее, чем в «Молодости», звучит теперь «пушкинианская» нота. О своих любовных несчастьях поэт говорит языком едва ли не батюшковской элегии:
…Быть может, там ручей,
Еще кипя, бежит от водопада,
Поет свирель, вдали пестреет стадо,
И внятно щелканье пастушеских бичей.
Иль, может быть, на берегу пустынном
Задумчивый и ветхий рыболов,
Едва оборотясь на звук моих шагов,
Движением внимательным и чинным
Забросит вновь прилежную уду.
Страна безмолвия! Безмолвно отойду
Туда, откуда дождь, прохладный и привольный,
Бежит, шумя, к долине безглагольной.
Но может быть – не кроткою весной,
Не мирным отдыхом, не сельской тишиной.
Но памятью мятежной и живой
Дохнет сей мир – и снова предо мной.
И снова ты! а! страшно мысли той!
В некоторых других стихотворениях элемент стилизации еще сильнее. Литературный контекст 1908–1910 годов гораздо естественнее включал такие стихи, чем это имело место несколькими годами раньше. Многие поэты околосимволистского круга, утомленные неврастеническим мироощущением «декадентов», шокированные стремительной вульгаризацией символистской эстетики, сопровождавшей ее шествие в массы, не принимавшие ни экстатических умствований ивановской «башни», ни взвинченного демонизма брюсовских эпигонов, обращались к стилистической реконструкции, искали гармонии в культуре иных эпох. То, что до сих пор было скорее достоянием живописи и декоративного искусства (мирискуснического круга), все больше заявляло свои права в поэзии. В 1908 году появляются «Сети» Михаила Кузмина, два года спустя – его статья «О прекрасной ясности». Если репертуар Кузмина-стилизатора был очень широк, от эллинистической Александрии до средневековой Персии, от французского рококо до старообрядческих духовных стихов, то Юрий Верховский, Борис Садовской, Василий Комаровский тяготели к пушкинской эпохе как к эталону духовного и формального благородства. Да и сам Брюсов в эти годы, по проницательному позднейшему замечанию Ахматовой, «решил, что ему (то есть единственно истинному и Первомупоэту) больше всего подойдет личина ученого неоклассика» [177]177
Ахматова А. А.Листки из дневника // Ахматова А. А.Собрание сочинений: В 6 т. М., 2001. Т. 5. С. 131.
[Закрыть].В этом контексте должны были восприниматься новые стихи Ходасевича, пару раз появлявшиеся в 1908 году в газете «Руль», а с 1910-го время от времени публиковавшиеся в журналах.
Впоследствии Пушкин и пушкинская эпоха станут для него предметом не только творческого диалога, но и ученых штудий. К этим штудиям он готовился смолоду. Брюсова, по словам Брониславы Рунт-Погореловой, Ходасевич поражал «своим изумительным знанием материалов о Пушкине, его переписке и многого такого, что покоилось в Пушкинском архиве и не доходило до широкой публики» [178]178
Погорелова Б.Валерий Брюсов и его окружение // Воспоминания о Серебряном веке. М., 1993. С. 38.
[Закрыть]. К этим же годам относятся воспоминания Мариэтты Шагинян – к ней и ее сестре Лине, жившим в Успенском переулке, Владислав Фелицианович часто заходил в гости вместе с Муни: «Он изумительно читал Пушкина; и чтение „Музы“ с его голоса, буквально повторенное мною позднее, когда я „зачитала“ ее Рахманинову и вслед за ним Николаю Метнеру, вошло в русскую музыкальную классику, отразившись в двух „Музах“ этого композитора» [179]179
Шагинян М.Собрание сочинений: В 9 т. М., 1986. Т. 1. С. 251; впервые: Новый мир. 1973. № 4.
[Закрыть].
«Рассеянный» образ жизни, который Ходасевич вел в эти годы, казалось бы, не соответствует этому гармоническому идеалу. Не так ли, однако, жил сам Пушкин примерно в этом же возрасте, после Лицея? Только в его жизни, в дополнение к картам, пьянству, безденежью, балам и пылким разговорам, были еще театральные кулисы, политическая фронда (Ходасевич в эти годы ни театром, ни политикой не интересуется) и нестрогие дамы полусвета. А летом, в Михайловском, наступало время спокойного и трезвого труда [180]180
И именно там и тогда написано стихотворение «Домовому» (1819), откуда Ходасевичем взято название книги «Счастливый домик» – книги, в которую вошли в том числе его стихи конца 1900-х годов.
[Закрыть]. Для Ходасевича Михайловским было Старое Гиреево, где жил он летом на даче у брата Виктора (родители проводили лето по соседству, в Новогирееве).
В Гирееве, кроме стихов, Ходасевич написал в 1908 году статью «Графиня Е. П. Ростопчина», которая – в переработанном виде – увидела свет лишь восемь лет спустя, в 1916-м, в журнале «Русская мысль». Что привлекло его в обыденной судьбе и не слишком значительных стихах второстепенной поэтессы середины XIX века, знакомицы Пушкина и приятельницы Лермонтова?
«В стихах ее довольно найдется формальных промахов, плохих рифм, образов, устарелых даже в ее время. Ее поэзия не блистательна, не мудра и – не глубока. Это не пышная ода, не задумчивая элегия. Это – романс, таящий в себе особенное, ему одному свойственное очарование, которое столько же слагается из прекрасного, сколько из изысканно безвкусного.
Красивость, слегка банальная, – один из необходимых элементов романса. Пафос его невелик. Но тот, кто поет романс, влагает в его нехитрое содержание всю слегка обыденную драму души страдающей, хоть и простой.
В наши дни, напряженные, нарочито сложные, духовно живущие не по средствам, есть особая радость в том, чтобы заглянуть в такую душу, полюбить ее чувства, простые и древние, как земля, которой вращенье, очарованье и власть вечно священны и – вечно банальны. Ах, как стары и дряхлы те, кому кажутся устарелыми зеленые весны, щелк соловья и лунная ночь!» [181]181
СС-2. Т. 2. С. 65.
[Закрыть]
Любование «изысканной банальностью», старинным высоким простодушием, противопоставленным претенциозному манерничанью «девиц в платьях», мечта о волшебно-буколическом «ситцевом царстве» – все это вполне соответствовало тенденциям этих лет. Но у Ходасевича это лишь один из полюсов сознания и творчества. Второй – это, напротив, упоение собственными одиночеством, безлюбием, обреченностью и связанной с ними свободой. С ностальгией припоминаемые былые «лирические речи», «радости любви простой» и нынешнее «уединенное презренье», родственное вдохновению, которое зовется «святыней», сталкиваются в одном стихотворении. И это лишь ранняя, несколько наивная интерпретация той внутренней раздвоенности между «человеческим» в себе (мягким, чуть-чуть инфантильным, не свободным от сентиментальности) и высоким, вечным, космическим, требовавшим отречения и беспощадности. Где-то на сломе этих двух «я» рождалось знаменитое остроумие Ходасевича, в их единстве – его лирика.
Этот пафос гибельной избранности кажется ницшеанским, но в том преломлении, которое характерно для Ходасевича, он старше Ницше. Можно вспомнить о «русском байронизме», под знаком которого прошла юность Пушкина и Лермонтова.
Впрочем, если говорить о непосредственных предшественниках Ходасевича-поэта в первой половине XIX века, то это, конечно, в первую очередь Евгений Баратынский. Переклички с ним уже на рубеже 1910-х годов многочисленны и явственны.
Вот одно из вершинных стихотворений позднего Баратынского:
На что вы, дни! Юдольный мир явленья
Свои не изменит!
Все ведомы, и только повторенья
Грядущее сулит.
Недаром ты металась и кипела.
Развитием спеша,
Свой подвиг ты свершила прежде тела,
Безумная душа!
И, тесный круг подлунных впечатлений
Сомкнувшая давно,
Под веяньем возвратных сновидений
Ты дремлешь; а оно
Бессмысленно глядит, как утро встанет,
Без нужды ночь сменя,
Как в мрак ночной бесплодный вечер канет,
Венец пустого дня!
А вот Ходасевич – «Душа», стихи 1908 года:
О, жизнь моя! За ночью – ночь. И ты, душа, не внемлешь миру.
Усталая! К чему влачить усталую свою порфиру?
Что жизнь? Театр, игра страстей, бряцанье шпаг на перекрестках,
Миганье ламп, игра теней, игра огней на тусклых блестках.
К чему рукоплескать шутам? Живи на берегу угрюмом.
Там, раковины приложив к ушам, внемли плененным шумам —
Проникни в отдаленный мир: глухой старик ворчит сердито.
Ладья скрипит, шуршит весло, да вопли – с берегов Коцита.
Стихотворение Ходасевича замечательно (оно выше всего, написанного им прежде, кроме «В моей стране»), но при этом перекличка с Баратынским очевидна: Ходасевич пишет как будто по канве своего предшественника. Но если у Баратынского внешний мир ограничен, тесен, но подлинен, а «возвратные сновидения» – это (вполне возможно) образы этого же бедного мира, по второму и третьему разу являющиеся к уже изведавшей их душе, то Ходасевич переосмысляет расхожую фразу «мир – театр, люди – актеры», уличая внешние страсти в поддельности. Душе стоит слушать только скудные, но настоящие звуки отдаленного мира, мира между жизнью и смертью: шуршание весла, скрип ладьи, ворчание глухого…
Можно воспринимать это как своего рода манифест. Как бы ни было бедно это настоящее, это инобытие, поэт не перестает быть наследником и двойником Орфея. Но его участь одновременно и величественна, и жалка. Он – бедный Орфей.
…Еще ручьи лепечут непрерывно,
Еще шумят нагорные леса,
А сердце замерло и внемлет безотзывно
Послушных струн глухие голоса.
И вот пою, пою с последней силой
О том, что жизнь пережита вполне,
Что Эвридики нет, что нет подруги милой,
А глупый тигр ласкается ко мне.
Отец, отец! Ужель опять, как прежде,
Пленять зверей да камни чаровать?
Иль песнью новою, без мысли о надежде,
Детей и дев к печали приучать?
Пустой души пустых очарований
Не победит ни зверь, ни человек.
Несчастен, кто несет Коцитов дар стенаний
На берега земных веселых рек!..
Эти стихи написаны в начале 1910 года. Спустя неполных два года акмеисты противопоставят символистскому образу поэта-мага – поэта-мастера. Ходасевич не принял этой замены. Для него поэт остается магом, пророком. Но беда не только в том, что мир, из которого пророк несет вести, безотраден. Мир, в который он несет весть, имеет право на свою невинную и ограниченную гармоничность. Отвергая Орфея, защищая себя от его «пустых очарований», он в своем праве.
4
Тем временем в жизни Ходасевича появляются новые люди – и возвращаются прежние знакомые.
По-новому расцветает дружба с Андреем Белым. На смену пьяному бреду петербургской поездки осенью 1907 года приходит ясная интеллектуальная дружба. Если с Муни Владислав проводит взвинченные вечера, то с Белым – трезвые дни. «Приходил большею частью по утрам, и мы иногда проводили вместе весь день, то у меня, то гуляя: в сквере у храма Христа Спасителя, в Ново-Девичьем монастыре; однажды ездили в Петровско-Разумовское, в грот, связанный с убийством студента Иванова. Белый умел быть и прост, и уютен… <…> Разговоры его переходили в блистательные импровизации и всегда были как-то необыкновенно окрыляющи. Любил он и просто рассказывать: о семье Соловьевых, о пророческих зорях 1900 года, о профессорской Москве, которую с бешенством и комизмом изображал в лицах. Случалось – читал только что написанное и охотно выслушивал критические возражения, причем был, в общем, упрям. Лишь раз удалось мне уговорить его: выбросить первые полторы страницы „Серебряного Голубя“. То был слепок с Гоголя, написанный, очевидно, лишь для того, чтобы разогнать перо» [182]182
Ходасевич В.Андрей Белый // СС-4. Т. 4. С. 52.
[Закрыть]. Ходасевичу едва ли не первому Белый изложил свою новую, революционную по тем временам теорию русского стиха.
Любовь к Белому и восхищение им не исключали некоторой иронии в его адрес – даже в эти годы. Еще в 1907-м Ходасевич написал остроумную пародию на «Симфонии», но без одобрения Бориса Николаевича (Ходасевич и Белый продолжали обращаться друг к другу на «вы» и по имени-отчеству) публиковать ее не стал. Белый и в эти годы побаивался злого языка своего младшего друга, но Ходасевич до поры сдерживал себя. Сам Борис Николаевич Бугаев, в жизни которого было в те годы разное: бесконечные довыяснения отношений с Блоками, ссоры с «Золотым руном», публичные скандалы, та же «Штемпелеванная культура», с Ходасевичем соприкасался в основном ясной, солнечной стороной своего сознания. Но с иным житейским обличьем Андрея Белого Ходасевичу еще придется столкнуться.
Другой человек из недавнего прошлого, Александр Брюсов, несколько лет провел в странствиях. Как иронизировал его старший брат, в книге Alexander’a «По бездорожью» (1907) чуть ли не каждое стихотворение «помечено другою частью света». В ходе этих скитаний он время от времени посылал тогда еще богатому Ходасевичу открытки с просьбой прислать денег (видимо, ему легче было обратиться с этой просьбой к гимназическому другу, а не к старшему брату). Побывав в Египте, Америке, Австралии, он снова объявляется в Москве.
В 1909 году на одном из поэтических вечеров на квартире Петра Зайцева Александр Яковлевич появляется со спутницей – худенькой темноглазой девушкой. Брюсов представлял ее как свою жену. Ее звали Анна Ивановна, близкие знакомые называли ее Нюра, ей было 22 или 23 года, она приходилась сестрой Георгию Чулкову, чьи стихи Ходасевич недавно так разбранил. Несмотря на свою молодость, Анна Ивановна уже испытала в жизни многое: побывала замужем за журналистом Евгением Гренционом (чью фамилию продолжала носить), родила сына Эдгара (Гарика, или Гаррика, как звали его дома), рассталась с мужем, некоторое время жила с Борисом Диатроптовым («который не был ни поэтом, ни писателем, но был умным человеком, большой культуры и тонкой души» [183]183
Ходасевич А. И.Воспоминания о В. Ф. Ходасевиче // Ново-Басманная, 19. С. 409.
[Закрыть], и тоже дружил с Ходасевичем), ушла от него к Александру Брюсову… По-видимому, официальный развод с Гренционом последовал не сразу: во всяком случае брак Анны с Брюсовым так и остался невенчанным.
Анне Ивановне очень понравились стихи Ходасевича (раньше она их не знала). Вскоре дружеское общение Брюсова-младшего и Ходасевича возобновилось. По ее словам, «Владя стал у нас часто бывать, даже гостил у нас на даче, совместно переводил с А. Б. какой-то испанский роман, писали шуточные стихи, эпиграммы, пародии и тому подобные вещи» [184]184
Там же. С. 394.
[Закрыть].
Нюра быстро стала ближайшим другом Ходасевича – гораздо ближе, чем Александр. Она была в числе первых читателей его стихов, и она была единственным (наряду с Муни) человеком, с которым он мог поделиться сокровенными личными переживаниями. Тем более что как раз с Муни в 1909–1911 годах не всем можно было поделиться: духовные и личные метания двух друзей опасно совпадали по фазе, и в метаниях этих была замешана одна и та же женщина.
Что же происходило с Самуилом Викторовичем Киссиным в 1908–1909 годах? Об этом известно от Ходасевича, а он многого недоговаривает.
«После одной тяжелой любовной истории… Муни сам вздумал довоплотиться в особого человека, Александра Александровича Беклемишева (рассказ о Большакове был написан позже, именно на основании опыта с Беклемишевым). Месяца три Муни не был похож на себя, иначе ходил, говорил, одевался, изменил голос и самые мысли. Существование Беклемишева скрывалось, но про себя Муни знал, что, наоборот, – больше нет Муни, а есть Беклемишев, принужденный лишь носить имя Муни „по причинам полицейского, паспортного порядка“.
Александр Беклемишев был человек, отказавшийся от всего, что было связано с памятью о Муни, и в этом отказе обретающий возможность жить дальше. Чтобы уплотнить реальность своего существования, Беклемишев писал стихи и рассказы; под строгой тайной посылал их в журналы. <…>