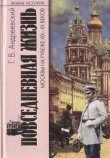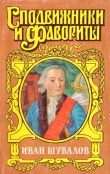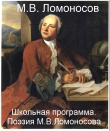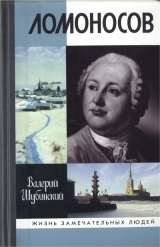
Текст книги "Ломоносов: Всероссийский человек"
Автор книги: Валерий Шубинский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 37 страниц)
После представленных Ломоносовым разъяснений Академическая конференция «апробировала» его речь, но Попов остался в «сумнении» и даже требовал, чтобы его письмо на сей счет было сохранено в архиве академии.
Так или иначе, 25 ноября Ломоносов поднялся на академическую трибуну и начал говорить: «У древних стихотворцев обычай был, слушатели, что от призывания богов или от похвалы между богами вмешенных героев стихи свои начинали, дабы слогу своему приобрести больше красоты и силы; сему я последовать в рассуждении нынешнего моего слова рассудил за благо. Приступая к предложению материи, которая не токмо сама собой многотрудна и неисчислимыми преткновениями превязана, но сверх того скоропостижным поражением трудолюбивого рачений наших сообщника много прежнего ужаснее казаться может, к очищению оного мрака, который, как думаю, смутным роком внесен в мысли ваши. Большую плодовитость остроумия, тончайшее проницание рассуждения, изобильнейшее богатство слова иметь я должен, нежели вы от меня чаять можете…»
Для «изведения из помрачения прежнего достоинства предлагаемой вещи» Ломоносов называет имя «между богами вмешенного героя» – Петра Великого. После долгих рассуждений о любви основателя империи к наукам и о его бесстрашии Ломоносов, наконец, добирается до своей мысли: «Оных людей, которые исполинскими трудами или паче исполинской смелостью тайны природы испытать тщатся, не надлежит почитать предерзкими, но мужественными и великодушными…» Дальше Ломоносов переходит к изложению своих теоретических положений. Говорит он очень о многом – о растениях, закрывающих свои цветки на ночь, о северных сияниях, о наступлении внезапных морозов, о грозах, о хвостах комет. По каждому поводу у него есть теория, но суть сводится более или менее к одному: в атмосфере существуют восходящие и нисходящие движения. Последние связаны с тем, что верхние слои воздуха, охлаждаясь (а температура воздуха тем ниже, чем дальше от уровня моря), становятся тяжелее и опускаются. «Электрическая сила» возбуждается «двояким искусством… <…> – трением и теплотою. <…> Электрическое паров трение производится в воздухе погружением верхней и восхождением нижней атмосферы». Так рождается атмосферное электричество.
Эта теория в принципе совершенно верна, хотя в деталях Ломоносов был неточен. Например, температура с подъемом вверх не изменяется так резко, как считал он. Несовершенство термометров того времени привело ученого к фантастическим утверждениям: например, что в городе Енисейске бывают морозы до минус 131 градуса (по Реомюру, что соответствует 160 градусам по Цельсию). Таких морозов не бывает не то что в Сибири, а вообще на земном шаре. Ломоносов был сильнее в теоретическом подходе к вопросам механики и, если можно так выразиться, пластики природных процессов, чем в точных измерениях и расчетах. Поэтому он и Рихман замечательно дополняли друг друга в научных изысканиях. Видимо, было и психологическое взаимодополнение: во всяком случае, это, может быть, единственная в жизни Ломоносова дружба, не омраченная конфликтами и недоразумениями.
Из всех атмосферных явлений, связанных с электричеством, особенно волновали ученого северные сияния, которые он регулярно наблюдал с 1743 года и которым он позднее, в самом конце жизни, решил посвятить особую работу («Испытание причины северных сияний и других подобных явлений…») – написать он смог лишь самое начало. Но заказать гравюры с изображений северных сияний, сделанных им в разные годы, он успел. Эти доски, числом тринадцать, были найдены Б. Н. Меншуткиным и напечатаны в 1934 году.
Речь Ломоносова в целом была положительно оценена коллегами. Крафт и другой, уже покинувший Петербург член академии, Готфрид Гейнзиус, были благожелательны, но с оговорками. Они сходились в мнении, что ломоносовские идеи нуждаются в дополнительной опытной проверке, однако «размеры сочинения и самый его характер, который необходимо принимать во внимание, поскольку это речь, полностью оправдывают автора». Эйлер счел гипотезу Ломоносова более чем вероятной и вообще с большой похвалой отозвался о его работе. Ответ Шумахера (письмо от 1 января 1754 года) был таков:
«Что у г. советника Ломоносова замечательный ум и что у него особливое перед прочими дарование, того не отвергают и здешние профессора и академики. Только они не могут сносить его высокомерия и тщеславия, что будто высказанные им в рассуждении мысли новы и принадлежат ему. <…> В особенности не намерены они простить ему, что в своих примечаниях он дерзнул напасть на мужей, прославившихся в области наук».
Эйлер дипломатично ответил, что перечитал сочинения Ломоносова и не нашел там ничего подобного. «И так он, без сомнения, на словах чаще грешил, и тем огорчал своих со товарищей. Но жаль в особенности ради его прекрасных дарований, когда он допускает увлекаться высокомерием» [115]115
Письмо от 23 февраля 1754 года.
[Закрыть].
Двадцать второго января Шумахер пишет Гейнзиусу: «Ваше мнение касательно препровожденной статьи я велел перевести и послать в Москву к его сиятельству г. президенту. Оно сходится с тем, что говорили здешние профессора. Они соглашаются, что мысль автора хороша, но вовсе, вовсе не нова, так как г. Эйлер, равно и г. Франклин высказывали ее. Гипотеза не есть доказанная истина, но г. автор хочет утверждать, что он первый высказал ее и что его система справедлива…»
Приведенные письма – лучшее подтверждение того, что недоброжелательное отношение Шумахера к Ломоносову в самом деле имело место и не являлось плодом мнительности последнего. Впрочем, может быть, эта была обычная тактика старого советника – стравливать ученых между собой, чтобы не давать им объединиться против академического начальства.
Ломоносов и позднее занимался изучением электричества – сохранилась программа его опытов в этой области. Что касается своей теории перемещения воздушных масс, то для ее доказательства он даже, как ни фантастически это звучит, сконструировал некий летательный аппарат (близкий к геликоптеру Леонардо да Винчи), который должен был поднимать в заоблачные выси термометры и электрометры. Все это осталось на бумаге.
9
Еще одной стороной деятельности Ломоносова была астрономия. Его устремление к этой области знаний связано с научным интересом к изучению физической структуры мира, в том числе – структуры звездных тел. В 1740-е годы он (вместе с Миллером и Тредиаковским) по просьбе Делиля искал информацию астрономического и метеорологического характера в старинных летописях. Сам он многие годы вел астрономические наблюдения. Обсерватория была им устроена во дворце Шувалова, а затем – в собственном доме на Мойке. И все же астрономические занятия Ломоносова во многом носили дилетантский характер. Однако ему довелось сделать астрономическое открытие – одно из самых значительных в его жизни и притом почти случайное. Как и большая часть работ Ломоносова, оно практически не оказало непосредственного влияния на развитие науки. Тем не менее приоритет его в данном случае несомненен.
Астрономов в академии было множество: в свое время – Делиль и Винсгейм, затем – Гришов, Попов и, наконец, Эпинус, который первоначально был профессором физики, но в 1760 году возглавил и обсерваторию. Об этом незаурядном во многих отношениях человеке стоит поговорить особо.
Франц Ульрих Теодор Эпинус (1724–1802), сын профессора теологии Ростокского университета, в этом же университете и получил образование. Уже в двадцать три года он удостоился докторской степени, затем работал в Берлине и, наконец, в 1757 году, по рекомендации Эйлера, получил профессорское место в Петербурге. К тому времени он успел зарекомендовать себя работами в астрономии (в 1753 году успешно наблюдал прохождение Меркурия через солнечный диск), математике, оптике, физике, механике. Главный след в науке оставили его исследования электрических явлений. В этой области он работал параллельно с Франклином, Рихманом и Ломоносовым и продолжал работать, когда Рихмана не стало, а Ломоносов отошел от опытов с «электрической силой». Именно «Опыт теории электричества и магнетизма» (1759) принес Эпинусу мировую славу и обеспечил его членство во множестве европейских научных обществ. Научную карьеру он успешно сочетал с придворной. С 1759 года Эпинус был близок ко двору Екатерины Алексеевны, которой давал уроки физики.
Конечно же у Ломоносова было с Эпинусом немало тем для разговора и сначала они подружились. Ломоносовское «Слово о явлениях воздушных…» и «Речь о сходстве электрической силы с магнитною» (явившаяся «черновиком» главной работы ростокского уроженца) были напечатаны в «Новых комментариях» рядом. Но вскоре дружбе пришел конец. Эпинус резко отозвался о проекте «ночезрительной трубы», предложенном Ломоносовым. Главное же – он сблизился с Таубертом, друзей которого Ломоносов по определению считал своими неприятелями.
С этого момента у Михайлы Васильевича, как у советника Академической канцелярии, постоянно возникали конфликты с профессором физики. Они спорили по множеству вопросов – и научно-организационных (оснащение физического кабинета), и чисто научных, и сугубо служебных.
В частности, Ломоносова возмущало нежелание Эпинуса читать лекции в Академическом университете. Точнее, Эпинус вроде бы и соглашался, но на условиях, которые стоит привести: «1) Чтоб упражняться мне в сем труде до тех пор, пока я похочу, и чтоб вольно мне всегда было отказаться от оного, когда пожелаю. Чтобы труды, собственно до Академии принадлежащие, к которым я обязан, дозволено было, яко важнейшие и мне приятнейшие, предпочитать всегда оным упражнениям. Равномерно было б невозбранно стараться мне потом и о слабом своем здоровье. 2) Дать мне таких студентов, о которых доподлинно известно, что труд при их наставлении не тщетен будет. 3) Дано б мне в волю назначить способное к сим лекциям время. 4) Чтобы студенты ходили ко мне домой, ибо невозможно от меня требовать, чтобы я для оного неприятного мне труда тратил деньги, чтобы я держал для того одного лошадей и коляску или и в ненастную погоду ходил в аудиторию». Это письмо было беспрецедентно по тону (так не писал никто и никогда в академии, включая ученых с мировым именем), а упоминание о «слабом здоровье» в устах 35-летнего человека (страдавшего только чрезмерной тучностью и дожившего до глубочайшей по тем временам старости) звучит почти комично.
Разумеется, условия Эпинуса не были приняты и к преподаванию в университете он не приступил; гораздо хуже, что он отказался предоставить инструменты из физической лаборатории Брауну, который готов был читать лекции не на столь исключительных условиях. А два года спустя несговорчивый профессор, несмотря на все свое отвращение к педагогике, с удовольствием принял преподавательскую должность в Шляхетном корпусе и проработал там десять лет, получая, параллельно с академическим, второе жалованье. Надо признать: Франц Ульрих Теодор Эпинус, при всех своих выдающихся научных талантах, очень себя любил; ему нравились достаток, спокойная жизнь и уют, и он меньше всего готов был жертвовать своими интересами ради науки и тем более – ради просвещения россиян. Позднее «Франц Иванович», как стали его называть, нашел себя вне академической среды: преподавал наследнику Павлу Петровичу, сочинял дипломатические шифры, а на досуге продолжал заниматься астрономией, механикой и физикой (понемногу, но успешно: изобрел ахроматический микроскоп).
В 1760 году еще молодой (34-летний) Гришов, старший профессор астрономии, тяжело заболел и 4 июля умер. Академическая обсерватория перешла в руки Эпинуса и его ближайшего помощника Румовского. У Ломоносова появились новые основания для недовольства. Он жаловался на то, что Эпинус и Румовский редко посещают обсерваторию: на лестнице, ведущей со двора на башню Кунсткамеры, полно снега. Возмущался он и тем, что в обсерваторию поднят заказанный еще при Гришове большой астрономический квадрант – «в бесполезную излишнюю тяжесть башне, в излишнюю беспрочную трату казны и в напрасную трату времени».
Между тем именно в этом году научный мир ждал важного события: прохождения Венеры через диск Солнца. Наблюдение за этим небесным явлением (открытым в свое время Кеплером и происходящим с интервалами от восьми лет до 121 года) с разных точек Земли должно было помочь уточнению солнечного параллакса. В России предполагалось послать наблюдателей в Сибирь – в Тобольск, Селенгинск и Иркутск. Академия обратилась за помощью в Париж. Оттуда прислали астронома Ж. Шаппа д’Отероша, который отправился в Тобольск. В Иркутск поехал Попов, а в Селенгинск – молодой Румовский. Наблюдения в Селенгинске (как и в Иркутске) не вполне удались из-за погоды, Ломоносов же, давно сердитый на «неблагодарного» ученика, обвинил в неудаче лично его.
В Петербурге тем временем происходило следующее. Эпинус напечатал в журнале «Сочинения и переводы, к пользе и увеселению служащие» (который был преемником «Ежемесячных сочинений») статью «Известия о наступающем прохождении Венеры между Солнцем и Землей». Попов, как коллега-астроном, не вполне согласился с расчетами Эпинуса. Ломоносов встал на его сторону, раскритиковал статью мекленбуржца на заседании Академической конференции и позднее сам составил «Показание пути Венерина по солнечной плоскости, каким образом покажется наблюдателям и смотрителям в разных частях света майя 26 дня 1761 года», оставшееся, правда, в рукописи.
Между тем 12 мая адъюнкт астрономии Андрей Дмитриевич Красильников обратился с письмом в канцелярию. Он просил разрешения «наблюдения чинить на обсерватории с профессором Епинусом вместе, но инструментами порознь».
Красильников, ученик Делиля, опытнейший 55-летний наблюдатель-практик, участник Камчатской экспедиции, имел немало заслуг: он вычислил широту и долготу десятков населенных пунктов в России, почти безошибочно измерил расстояние от западных до восточных рубежей России, написал первый на русском языке учебник астрономии. Впрочем, сам же Ломоносов признавал, что Красильников – всего лишь «добрый обсерватор и геодезист», далекий от «высших наук». Из своего многолетнего опыта Красильников знал, что глаз наблюдателя устает и что поэтому следует время от времени сменять друг друга. Именно так мотивировал он свою просьбу.
По настоянию Ломоносова канцелярия распорядилась удовлетворить просьбу Красильникова. Однако Эпинус отказался наблюдать в одном помещении с адъюнктом, поскольку, по его словам, при таких наблюдениях счет идет на секунды и потому «самой малой и почти неминуемой шорох может в том учинить замешательство». Начались сложные переговоры. Красильникову было предложено вести наблюдения в отдельной комнате, и он сперва согласился, но в последний момент вдруг проявил упорство. Теперь уже Эпинусу предложили «отдельный покой» для наблюдений и расчетов. Вопрос перешел в область престижа и амбиций. В конце концов Эпинус оставил обсерваторию в распоряжение Красильникова и другого адъюнкта, Николая Гавриловича Курганова (более известного как составителя «Письмовника», своего рода популярной энциклопедии своего времени), притом забрав с собой лучшие инструменты.
С помощью этих инструментов он и вел 26 мая наблюдение… в присутствии своей августейшей ученицы и покровительницы, будущей Екатерины II. Она, в отличие от коллег-астрономов, точности наблюдений помешать, как видно, не могла. Правда, и отказать ей Эпинус, скорее всего, не мог, – не то что коллегам-астрономам. Однако Ломоносов упоминает о том, что Тауберт с Эпинусом заранее пригласили на «обсервацию» целую компанию гостей. Коли так, ссылки профессора физики и астрономии на необходимость одиночества и сосредоточения нельзя не признать лицемерными.
Тем временем Ломоносов и Браун тоже вели наблюдения – у себя дома. Михайло Васильевич не претендовал на астрономические открытия: он «любопытствовал больше для физических примечаний», наблюдая Венеру сквозь небольшую трубу в «весьма не густо копченое стекло». Исходя из этих своих целей, Ломоносов «намерился только примечать начало и конец явления и на то употребить всю силу глаза».
И вот он, «ожидая вступления Венерина на солнце около сорока минут после предписанного в ефемеридах времени, увидел наконец, что солнечный край чаемого вступления стал неявственен и несколько будто стушеван, а прежде был весьма чист и везде равен». Вокруг диска Венеры, частично находящегося на диске Солнца, появился световой ободок. Это заметили многие. Но только «советник Ломоносов», сопоставив свои наблюдения с записями Красильникова и Курганова, сделал решительный вывод: «Планета Венера окружена знатной воздушной атмосферой, таковой (лишь бы не большею), какова обливается вокруг нашего шара земного».
Четвертого июля того же года на публичном академическом акте Ломоносов произнес свое знаменитое «Слово о явлении Венеры на Солнце». К осени оно было напечатано по-русски и по-немецки. Однако никакого эффекта эта публикация не имела: атмосферу Венеры тридцатью с лишним годами позже заново открыли знаменитый английский астроном У. Гершель и, независимо от него, немец И. Шрётер.
Почему же открытие Ломоносова осталось незамеченным? Зададим себе другой вопрос: а почему он, единственный в мире, совершил его в 1760 году? Ведь за Венерой наблюдали астрономы гораздо более профессиональные и опытные, чем он, и обладавшие лучшими инструментами! Видимо, здесь сказался энциклопедизм Ломоносова, занимавшегося не только астрономией, но и оптикой, да и самыми различными областями науки о веществе. Сказалась и его склонность к смелым гипотезам, которые он не всегда мог доказать, но которые довольно часто оказывались верными. Однако именно в силу всех этих причин его сообщение не было принято всерьез мировым научным миром – тем более что в своей речи, предназначенной для широкой публики, он не столько научно аргументирует свое утверждение, сколько предается поэтическим фантазиям. Наличие атмосферы на Венере – аргумент в пользу «множественности миров». Поэта-естествоиспытателя вдохновляет мысль, что на Венере «пары восходят, сгущаются облака, падают дожди, протекают ручьи, собираются в реки, реки втекают в моря, произрастают везде всякие прозябания, ими питаются животные». («На далекой звезде Венере… у деревьев синие листья…» – как, не помня, должно быть, о речи Ломоносова, написал поэт другой эпохи.) А может быть, там живут и люди…
Ломоносов демонстрирует в этой речи не только поэтическое воображение и ораторскую мощь, но и пафос просветителя, и ловкость богослова, доказывая соответствие гелиоцентрической системы «истинной» (а не искаженной невежественными церковниками) христианской картине мира. Но к специальным научным дискуссиям все это имело мало отношения.
К тому же из-за скандала с Эпинусом о петербургских наблюдениях мировая научная пресса вообще писала скептически. В частности, резкий отзыв принадлежит французскому астроному А. Пингре. Любопытно, что в этом отзыве нелестно характеризуются наблюдения не только Красильникова и Курганова (которых он не называет по имени), но и Брауна (хотя последний не публиковал своих результатов). «Все трое наделены несомненно и знаниями, и талантами, – писал парижанин, – но недостает им бесспорно одного – опыта в астрономических наблюдениях». В действительности дело обстояло, как мы знаем, прямо противоположным образом: Красильников был опытнейшим наблюдателем, ему не хватало как раз фундаментальных знаний. О Ломоносове же не сказано ни слова: лишний раз ссориться в открытую с профессором и советником канцелярии Эпинус, от которого, вероятно, исходила информация, опасался. Но Ломоносов конечно же увидел и здесь руку своих «врагов». Болезненная мнительность его с годами только усиливалась.
10
Для большинства людей нашего времени, специально не интересующихся историей естествознания, имя Ломоносова в первую очередь ассоциируется с законом сохранения материи (или, точнее, законом сохранения массы веществ), который в советских учебниках именовался «законом Ломоносова» или «законом Ломоносова – Лавуазье».
В учебниках, популярных книгах и статьях имя русского ученого до сих пор связывают с этим законом. При этом смысл излагается всякий раз по-разному: Ломоносов не открывал закона сохранения материи, а лишь впервые экспериментально доказал; Ломоносов открыл этот закон, но экспериментально доказать не смог из-за несовершенства приборов – это сделал Лавуазье…
Привлекает, однако, внимание то, что Михайло Васильевич «забыл» упомянуть о таком важном, таком глобальном открытии в списке своих научных достижений! Почему?
Подойдем к проблеме с другой стороны: как вообще возникла версия об открытии Ломоносовым этого закона? В уже цитировавшемся письме Эйлеру 1748 года содержится знаменитая формулировка, почти дословно повторенная в «Рассуждении о твердости и жидкости тел»: «Все перемены, в натуре случающиеся, такого суть состояния, что сколько у одного тела отнимется, столько же присовокупится к другому. Так, ежели убудет несколько материи, то умножится в другом месте; сколько часов положит кто на бдение, столько же сну отнимает».
Однако если бы Ломоносов сообщил Эйлеру эту мысль как новую или выразил бы претензии на ее авторство, скорее всего, на этом бы их переписка и закончилась, поскольку у великого немецкого ученого могли бы возникнуть сомнения не то что в компетентности петербургского коллеги, а в его здравом рассудке. Принцип сохранения вещества был высказан еще в VIII–VII веках до н. э. древнеиндийскими мыслителями, у «гимнософистов» его заимствовали греки, а затем, через Аристотеля, христианская Европа. Ломоносов упомянул об этом общеизвестном принципе лишь для того, чтобы перейти к другому, на открытие которого он тоже не претендовал, но который еще был не так четко усвоен тогдашней наукой: «Сей всеобщий закон простирается и в самые правила движения: ибо тело, движущее своей силой другое, столько же оныя у себя теряет, сколько сообщает другому». Б. Н. Меншуткин видит заслугу Ломоносова именно в том, что он, соединив оба закона в одной формулировке, осознал связь между ними. Но это не значит, что ему следует приписывать открытие принципа перехода потенциальной энергии в кинетическую. Ломоносов просто верил, что Бог при создании мира вложил в него определенное количество материи и сообщил ей определенное количество движения. Эта идея вполне укладывалась в его деистическую картину мира, не вступая, впрочем, в противоречие и с учением церкви.
Итак, Ломоносов не открывал закона сохранения материи. Может быть, он доказал его?
Сторонники этой точки зрения основываются на опыте, проведенном Ломоносовым, согласно его записям, в 1756 году (то есть во время, когда его интенсивная работа в химической лаборатории была в основном приостановлена).
«Деланы опыты в заплавленных накрепко стеклянных сосудах, чтобы исследовать, прибывает ли вес металлов от чистого жару; оными опытами нашлось, что славного Роберта Бойла мнение ложно, что без пропущения внешнего воздуха вес сожженного металла остается в одной мере».
Это-то и было интерпретировано как доказательство закона сохранения материи. Но если так – почему же сам ученый отнесся к этому потрясающему свершению настолько легкомысленно? Правда, когда в следующем году профессорам академии предложили составить индивидуальные списки тем публичных лекций, в числе пятнадцати тем, представленных Ломоносовым, была и такая – «Об увеличении веса металлов от прокаливания». Но семь лет спустя, подводя итог своей научной работе, он не включил эксперимент «в накрепко запаянных стеклянных сосудах» в число своих главных заслуг.
Что же, собственно, стремился доказать (и доказал) своим опытом Ломоносов? Только одно – что вес металла не возрастает от «чистого жару», то есть от присоединения теплорода, которого, по справедливому мнению Ломоносова, вообще не существует. Но поскольку большинство химиков считали теплород субстанцией невесомой, сам по себе этот опыт не доказывал кинетической теории теплоты, и Ломоносов это понимал. Что же касается закона сохранения массы, то мы знаем, что Ломоносов не верил в абсолютную пропорциональность массы и веса. Так что о массе, о «количестве вещества», как это называл сам ученый, в данном случае не было и речи.
Но, может быть, опыт Ломоносова доказывает, по крайней мере, закон сохранения веса (а не массы) при химических реакциях?
Прежде всего, нужно помнить, что Ломоносов, как и все его современники, придерживался совершенно неправильного представления о процессах, происходящих при горении металла: то, что мы называем окислением, было для них процессом отделения флогистона. При этом вопрос о том, обладает ли флогистон весом и может ли он рассматриваться как химический реагент, оставался открытым. А значит, невозможно было точно сказать, происходила ли в запаянной колбе химическая реакция…
Именно принцип сохранения как веса, так и массы веществ в ходе химических реакций (вытекающий из общего принципа сохранения вещества) был сформулирован Лавуазье – сформулирован, а не открыт! – в его «Элементарном курсе химии» (1789): «Ничто не творится, ни в искусственных процессах, ни в природных, и можно высказать положение, что при всякой операции имеется одинаковое количество материи до и после операции. <…> На этом принципе основано все искусство делать опыты в химии. <…> Так как виноградный сок дает углекислый газ и спирт, я могу сказать, что виноградный сок = углекислый газ + спирт».
Лавуазье провел, по крайней мере, один опыт, взвесив в запаянном сосуде продукты горения фосфора и убедившись, что их вес равен сумме весов фосфора и кислорода. Принципиальное отличие этого опыта от такого же точно эксперимента Ломоносова в том, что первооткрыватель «оксигена» знал, какая именно реакция происходит во время горения, и что у него не было никаких сомнений относительно пропорциональности массы и веса.
Таким образом, опыт Лавуазье продемонстрировал, что в данном конкретном случае закон сохранения массы действует. Но это ни в коем случае не доказывало его универсальность. Опыты, подтвердившие всеобщий характер этого закона, были проведены лишь в середине XIX века.
Следовательно, те, кто называет закон сохранения материи законом Лавуазье, не до конца правы, а те, кто говорит о законе Ломоносова или законе Ломоносова – Лавуазье, не правы совершенно. Впрочем, у обоих ученых достаточно других заслуг.
11
Таков вкратце современный взгляд на исследования Ломоносова в области «испытания натуры». Как же можно определить его место в истории естествознания?
Разумеется, было бы ошибкой относить его к величайшим ученым в истории человечества, ставить в один ряд с Ньютоном и Линнеем, Менделеевым и Лавуазье, Эйлером и Лобачевским. Михайло Васильевич, при всей своей гордыне, и сам превосходно это понимал. «Меня за Аристотеля, Картезия и Невтона не почитайте…» – это его собственные слова, свидетельствующие о достаточно адекватной самооценке. Но Ломоносов конечно же принадлежал к числу ведущих европейских ученых, способных на высоком научном уровне обсуждать актуальные проблемы естествознания того времени. По каждому из таких вопросов у него было собственное мнение, и в большинстве случаев он стоял на верном пути. Заблуждения его также достойны уважения и свидетельствуют о сильном и своеобразном уме. Некоторые его идеи опередили свое время. И хотя он был уже не единственным в своем поколении естествоиспытателем, чьей родиной была Россия и родным языком – русский, конечно, ни Попов, ни Теплов, ни даже Крашенинников не могли с ним соперничать ни талантом, ни знаниями, ни кругозором. Не уступал он и подавляющему большинству петербургских профессоров-«немцев», а некоторых, без сомнения, превосходил.
Однако надо признать: труды Ломоносова не оказали существенного влияния на развитие мировой науки. Причин тому несколько.
Во-первых, Ломоносов в зрелые годы не выезжал за пределы России и из крупных европейских ученых, живущих вне Петербурга, состоял в переписке только с Эйлером.
Во-вторых, на судьбе ломоносовских трудов сказался его трудный характер. Слишком со многими он не поладил, слишком многих обидел. Строгое отношение товарищей по академии к его трудам и нежелание их особенно пропагандировать было во многих случаях результатом испорченных личных отношений. Ведь и с Эйлером, так его ценившим, Ломоносов в конечном итоге поссорился…
Но главное – Ломоносов был слишком разносторонен, ему нелегко было сконцентрироваться на каком-то одном исследовательском направлении. Его наследие составляют не фундаментальные монографии, а множество небольших статей разнообразной тематики. Зачастую, высказав верную и даже блестящую гипотезу, он не давал себе труда подтвердить ее достаточным количеством экспериментов. Чаще он больше заботился о литературном стиле своих работ, чем о строгой их обоснованности. Эпинус развил и подробно изложил свою электромагнитную теорию, и она заняла должное место в истории физики; ломоносовская теория атмосферного электричества, высказанная в то же время и не менее ценная в научном отношении, оказалась забытой более чем на столетие. В этой разносторонности, граничившей с «универсальным дилетантизмом», был важный исторический смысл. При всем честолюбии Ломоносова, при всей его заботе о собственной славе и «славе русского имени», для него важнее создать предпосылки к разносторонней научной работе, подготовить хотя бы нескольких учеников, выработать терминологию, сделать русский язык пригодным «к выражению идей трудных». Именно это имел в виду Пушкин, когда говорил, что Ломоносов «сам был нашим первым университетом». Но у окружающих ломоносовский энциклопедизм часто вызывал недоумение.
Интерес к «тайнам натуры» был у Ломоносова искренним и неподдельным. Но и этот интерес он подчинял главной цели своей жизни. Цели, унаследованной от Петра, – обустройству русского пространства и времени.