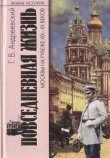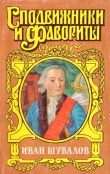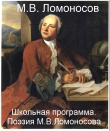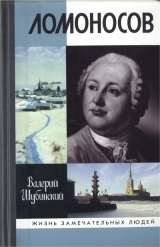
Текст книги "Ломоносов: Всероссийский человек"
Автор книги: Валерий Шубинский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 37 страниц)
Выглядит не очень красиво: вельможа-меценат для забавы стравливает поэтов (которые к тому же ведут себя как хармсовские персонажи). Впрочем, к этому рассказу, который отделяет от событий много лет, надо относиться осторожно. Над бешеным нравом Сумарокова подшучивали многие, но с Ломоносовым, как отмечал Пушкин, «шутить было накладно», даже Шувалову. Правда, видимо, в том, что всемогущий фаворит временами тяготился ломоносовской интеллектуальной опекой. Сумароков нужен был ему как противовес (не говоря уж о том, что ему, галломану, сумароковские песенки и пьесы втайне, может быть, были милее ломоносовского «парения»). Глядя на спорящих поэтов, Иван Иванович ощущал себя нейтральным арбитром, покровителем, примирителем – и лишний раз убеждался в собственной независимости и значимости.
В этом качестве Шувалов пытался направить соперничество Ломоносова и Сумарокова в конструктивное русло, и иногда ему это удавалось: так, в начале 1760 года они вновь, как шестнадцать лет назад, вступили в творческое соревнование, переведя «Оду к счастию» Жана Батиста Руссо.
Но вскоре отношения двух поэтов окончательно расстроил инцидент, в котором оказался замешан двоюродный племянник Ивана Шувалова и один из его близких друзей. Чтобы понять суть случившегося, необходимо напомнить о тех политических событиях, которыми ознаменованы последние годы правления Елизаветы Петровны.
Дело в том, что в 1756 году давно ожидаемая война – война, известная в истории как Семилетняя, – все же началась. Фридрих II, он же Великий, в отличие от своего отца Фридриха Вильгельма I был человеком утонченным: писал стихи (исключительно по-французски), играл на флейте, покровительствовал Вольтеру (некоторое время жившему при его дворе), строил роскошные резиденции и бравировал своим религиозным скептицизмом. Это не мешало ему продолжать отцовское дело, укрепляя армию и с успехом пуская ее в ход. В ходе войны за австрийское наследство он, пользуясь неразберихой в Вене, округлил свои владения за счет Силезии. Дальнейшие аппетиты Фридриха распространялись на соседние германские государства, прибрежные польские земли и шведские владения в Померании. Россию он хотел бы до поры иметь в союзниках, но шуваловско-воронцовская группировка к усилению Пруссии относилась с большой опаской.
Однако войну спровоцировали не пруссаки, а англичане. Дело в том, что у последних шла затяжная борьба с Францией в американских колониях. Поскольку сама Англия находится на острове (злые языки утверждали, что для Елизаветы Петровны эта географическая подробность оказалась внове), вторгнуться туда Людовику XV было затруднительно (напомним, что эта задача впоследствии оказалась не по зубам Наполеону и Гитлеру). Но английский король Георг II одновременно был курфюрстом Ганновера – небольшого государства на северо-западе Германии. Вот по Ганноверу французы и собирались ударить. Но не успели: 16 января 1756 года Англия и Пруссия заключили Вестминстерскую конвенцию, один из пунктов которой гласил: «Если же вопреки всем ожиданиям и в нарушение мира… любая иностранная держава предпримет вторжение в Германию, две договаривающиеся стороны объединят свои усилия для наказания этих нарушителей». Другими словами, на защиту скромного Ганновера могла выступить вся прусская армия.
Франция не могла уступить. В противовес англо-прусскому союзу она заключила в мае 1756 года пакт со своим давним (с XVI века) соперником – Австрией. А 29 августа 1756 года Фридрих начал войну, напав на австрийского союзника – Саксонию.
Россия примкнула к антипрусской коалиции и вступила в войну позже – на рубеже 1756–1757 годов. Целью Елизаветы был захват Восточной Пруссии, которую предполагалось передать Польше; в обмен Август II должен был согласиться на полное присоединение к России Курляндии, которая все еще оставалась формально независимой. В мае 1757 года стотысячное русское войско под командованием С. Ф. Апраксина форсировало Неман и двинулось в Восточную Пруссию. Был взят Мемель, одержана победа при Гросс-Егерсдорфе (в этой битве отличился молодой П. А. Румянцев)… А затем Апраксин стремительно, бросив артиллерию и раненых, вывел войска из Пруссии.
Это необъяснимое бегство стоило фельдмаршалу должности, а в конечном итоге и жизни: он умер от сердечного припадка, находясь под следствием. В действительности русские военачальники, как предполагают историки, просто боялись одерживать победы: в Петербурге спорили «партия войны» и «партия мира» (или даже союза с Пруссией), и неизвестно было, кто одержит победу. Тем более что Елизавета чувствовала себя все хуже, а симпатии наследника престола не были секретом. Да и на прусско-австрийском фронте дела шли с переменным успехом, а французы откровенно проигрывали пруссакам. Но в 1758 году петербургская «партия войны» (она же шуваловская) добилась больших успехов: Бестужев-Рюмин был смещен и отдан под суд, канцлером назначен Михаил Воронцов; большие неприятности были и у Екатерины Алексеевны, которую уличили в тайной переписке с английским послом. Она чудом избежала высылки из страны – страны, которой ей предстояло тридцать четыре года со славой управлять.
Позиция Ломоносова в данном случае была сложной. С одной стороны, он был слишком тесно связан с Шуваловыми и Воронцовыми, без них вся его деятельность стала бы невозможна. Пацифистом он не был, да и не водилось в ту эпоху принципиальных пацифистов. Но в то же время участие России в войне с неясными целями, отвлекавшее человеческие и денежные ресурсы, сказывавшееся на финансировании научных и образовательных институций, судя по всему, не вызывало у него особого сочувствия. В оде на день рождения императрицы и на рождение Анны Петровны, второго и последнего законного ребенка молодой Екатерины (1757), Ломоносов основное внимание уделил начавшейся войне, но говорит о ней весьма двусмысленно. С одной стороны, он устами Елизаветы объясняет причины конфликта:
Присяжны преступив союзы,
Поправши нагло святость прав,
Царям навергнуть тщится узы
Желание чужих держав.
Любопытно при этом, что в качестве главного врага выступает не Пруссия, а Англия.
Однако во второй части оды, представляющей собой ответ Бога Елизавете, говорится не о боевых победах, а о радостях мирной жизни:
Я кротким оком к вам воззрю:
Жених как выйдет из чертога,
Так с солнцем взойдет радость многа;
Врагов советы разорю.
И лишь после того как русские войска под командованием В. В. Фермора заняли Восточную Пруссию и после поражения при Цорндорфе одержали 1 августа 1759 года решительную победу при Кунерсдорфе, настроение Ломоносова изменилось. Ода, написанная им на кунерсдорфскую победу, полна искреннего воодушевления. Для Ломоносова важно было, между прочим, что победа была одержана во многом благодаря шуваловским гаубицам. Это было не только успехом близкой Ломоносову семьи, но и доказательством важности «высоких технологий».
Франция отныне возлагала на свою восточную союзницу большие надежды. И вот в этой обстановке в Петербурге появился 75-летний аббат Этьен Лефёвр, уже прежде неоднократно бывавший в России – в самые острые, переходные моменты ее истории. Лефёвр состоял священником при французском посольстве, но, судя по косвенным свидетельствам, выполнял также некие конфиденциальные поручения своего правительства.
В это время в Петербурге существовал литературный кружок, основанный двумя чрезвычайно утонченными и очень богатыми молодыми людьми – семнадцатилетним графом Андреем Петровичем Шуваловым, сыном Петра Ивановича, проведшим отрочество в Париже и писавшим стихи (по мнению современников, очень недурные) на французском языке, и 27-летним бароном [94]94
Впоследствии графом (с 1761-го – Священной Римской империи, с 1798-го – русским).
[Закрыть]Александром Сергеевичем Строгановым.
К середине XVIII века потомки купцов и промышленников Строгановых стали исключительно землевладельцами – как и многие выходцы из купеческого сословия, получившие дворянство. Сергей Григорьевич Строганов, барон во втором колене, жил во дворце, построенном Растрелли, и владел неплохой коллекцией европейской живописи. Его сын, первым браком женатый на дочери Михаила Воронцова, провел молодость в путешествиях по Европе, где получил истинно аристократическое образование – несколько поверхностное, но блестящее и разностороннее. Владелец великолепной библиотеки и уникальной нумизматической коллекции, покровитель художников (архитектор Воронихин, происходивший из строгановских крепостных, был у него почти на положении члена семьи), он в конце своей долгой жизни (а умер он в 1811 году, семидесяти восьми лет) возглавил Императорскую Академию художеств и много сделал для ее процветания. Он был одним из главных филантропов России, основал множество школ, помогал художникам и музыкантам.
Но в жизни Ломоносова с именем Строганова связан эпизод неприятный и унизительный.
Дело в том, что аббат Лефёвр счел необходимым именно в салоне Строганова – Шувалова, собиравшемся в строгановском дворце, произнести небольшую речь «о постепенном развитии изящных наук в России». Стремясь укрепить «единение наших государей» и повлиять на общественное мнение в Петербурге, аббат не скупился на похвалы «творческому гению» державы-союзницы. Зная, что дни Елизаветы сочтены, он счел своим долгом особо отметить достоинства ее наследника («который показывает в своем обучении образец солдата-патриота»), а особенно его супруги, которую французская дипломатия не прочь была переманить на свою сторону.
Наконец, оратор дошел до заявленной темы своей речи и, между прочим, так характеризовал успехи русской словесности:
«Здесь в питомце Урании изящные искусства имеют поэта, философа и божественного оратора. Его мужественная душа, подобно кисти Рафаэля, с трудом снисходит к наивной любви, к изображению наслаждений, грациозного и невинного.
Они имеют изящного писателя Гофолии [95]95
То есть нового Расина, автора трагедии «Гофолия».
[Закрыть]в великом человеке, который первым заставил Мельпомену говорить на вашем языке… Прелести трагического, наиболее нежного, украшают вашу сцену, а в вашем Горации заключается все величие Корнеля. Если подобная параллель способна охарактеризовать двух гениев-творцов, находящихся среди вас, то, милостивые государи, нам снова остается повторить: изящные искусства обладают здесь всеми своими богатствами».
Среди слушателей речи Лефёвра были и Иван Шувалов, и Михаил Воронцов. (Петра Шувалова, отца Андрея Петровича, не было: отношения между ним и Воронцовым ухудшились.) Были и многочисленные представители французской колонии в Петербурге. Разумеется, содержание этой речи очень быстро стало известно Ломоносову, тем более что Строганов через Миллера, с которым он был близко знаком, вошел в академию с представлением о печатании «Рассуждения о прогрессе изящных искусств» отдельным изданием. Ломоносов воспротивился, а когда его не послушались, он (по словам самого Лефёвра) «подобно тому как ваши казаки нападают на отряд пруссаков, обрушась на издание моей книги, с яростью разбил набор». Однако брошюру снова набрали и напечатали, убрав из нее фразу о «двух гениях-творцах».
Судя по всему, именно эта фраза особенно задела Ломоносова. Признать Сумарокова равным себе «гением-творцом» он не мог. Его возмущало, что иностранец, «не зная российского языка, рассуждает о российских стихотворцах и ставит тех в параллель, которые в параллели стоять не могут». В бессильной ярости он изливал душу на бумаге: «Genie créateur [96]96
Творческий гений (фр.).
[Закрыть]перевел в свои трагедии из французских стихотворцев, что есть хорошее, кусками, с великим множеством несносных погрешностей в российском языке, и оные сшивал еще гаже своими мыслями. Genie créateur! Стихотворение принял сперва развращенное от Третьякова [97]97
Так Ломоносов называет Тредиаковского.
[Закрыть]и на присланные из Фрейберга сродные нашему языку и свойственные правила написал ругательную эпиграмму. Однако после им же последовал и по ним писал все свои трагедии и другие стихи. <…> Genie créateur! Директорство российского театра вел так чиновно, что за многие мечтательные его неудовольствия и неистовства лишен прежней команды. Genie créateur! Сколько ни жилился летать одами, выбирая из других российских сочинений слова и мысли и желая их превысить, однако толь же счастлив был коль Икар… Genie créateur! Сочинял любовные песни и тем весьма счастлив, для того что вся молодежь, то есть пажи, коллежские юнкера, кадеты и гвардии капралы так ему следуют, что он перед многими из них сам на ученика их походит».
Что до Строганова, то с ним у Ломоносова – вероятно, в доме Петра Шувалова – произошло резкое столкновение. Видимо, молодой барон, попеняв ученому за его выходку, позволил себе упомянуть о низком происхождении Ломоносова, которому следовало бы испытывать благодарность за то, что он стал частью высшего общества… Во всяком случае, Ломоносов понял его именно так. Взбешенный, он писал Шувалову (17 апреля 1760 года): «Хочу искать способа и места, где бы чем реже, тем лучше видеть мне персон выскородных, которые мне низкой моей породою попрекают, видя меня как бельмо на глазе; хотя я своей чести достиг не слепым счастием, но данным мне от Бога талантом, трудолюбием и терпением крайней бедности добровольно для учения. И хотя я от Александра Сергеевича мог бы по справедливости требовать удовольствия за такую публичную обиду; однако я уже оное имею через то, что при том постоянные люди сказали, чтобы я причел его молодости, и приятель его то же говорил; а больше всего я тем оправдан, что он, попрекая недворянство, сам поступил не по дворянски». Дворянин в третьем поколении, «попрекающий недворянством» дворянина в первом поколении, – насколько это в духе русского XVIII века! Хотя, конечно, именитые люди Строгановы, сидевшие за царским столом, – это не то что черносошные крестьяне…
Что имелось в виду под «удовольствием» (то есть удовлетворением) – непонятно. В середине XVIII века это означало жалобу в суд или в Сенат; спустя четверть столетия – дуэль. Несомненно, у Ломоносова в марбургской юности был опыт поединков, к тому же Строганов задел его именно как дворянин дворянина, но все же – в описанный момент ученому было под пятьдесят, он был тучным и уже не очень здоровым человеком: странно представить его дерущимся на рапирах с молодым аристократом. Характерно, что даже смертельно оскорбленный Ломоносов не забыл в этом письме напомнить Шувалову о своей просьбе, касающейся намеченной инаугурации Академического университета.
За Ломоносова заступился Андрей Шувалов, благоговевший перед ним с детства – и знавший, как относится Сумароков к его отцу. Он произнес в том же салоне новую речь на французском языке, которая вскоре была напечатана в парижском журнале «L’Année littéraire» (1760. № 5). В этой речи он воздал пышную хвалу «творческому гению» Ломоносова.
«Он отец нашей поэзии; он первый пытался вступить на путь, который до него никто не открывал, и имел смелость слагать рифмы на языке, который, казалось, весьма неблагодарный материал для стихотворства; он первый устранил все препятствия, которые, мнилось, должны его остановить…» Но даже такой пламенный поклонник Ломоносова, принадлежащий к новому поколению, не мог уже восхищаться им безоговорочно. Вот как характеризовал он ломоносовский стиль: «Мысли свои он выражает с захватывающей читателей порывистостью;…живопись его велика, величественна, поражающа, иногда гигантского характера; поэзия его благородна, изящна, возвышенна, но иногда жестка и надута…» По мнению Шувалова, у Ломоносова есть важный недостаток – «это отсутствие нежности». Ломоносов не умеет «говорить от сердца к сердцу»; «способный чертить мужественные штрихи, он слаб при изображении трогательного». И все же поэту «должно простить то, чего ему недостает, во имя того, чем он обладает… и кто же мог бы вообще отличиться во всех родах». Молодой поэт-аристократ не ограничился этим глубоким и тонким критическим отзывом: он представил франкоязычным слушателям и читателям избранные ломоносовские строфы в собственном переводе. Сумарокова же Шувалов характеризовал исключительно как драматурга, причем – как подражателя Расина, лишенного творческого дарования, но умеющего «трогать нашу чувствительность и увлекать наше сердце».
На сей раз взбешен был Александр Петрович, приписавший этот отзыв враждебности к нему всех Шуваловых (кроме Ивана): «…отец его, мать, брат и он сам мои злодеи…»
Сумароковские выпады против Ломоносова тем временем продолжались. Еще до скандала из-за речи Лефёвра, в марте 1760 года, в журнале «Праздное время, в пользу употребленное» появилась его басня «Осел во Львовой шкуре»:
Осел, одетый в кожу Львову,
Надев обнову,
Гордиться стал,
И будто Геркулес под оною блистал…
Осел, выдавший себя за льва, стал вести себя гордо и надменно, «ворчал, мычал, рычал, кричал, на всех сердился» – как разбогатевший откупщик из крестьян:
Или когда в чести увидишь дурака
Или в чину урода
Из сама подла рода
Которого пахать произвела природа.
Хама разоблачила умная лисица, пришедшая просить у царя зверей милости – и сразу разобравшаяся, кто перед ней.
Сумароков и писатели его круга в своих произведениях постоянно обличали дворянскую спесь, доказывали, что важен не род, а «добродетель». Но это была теория. На практике, столкнувшись с уверенным в себе, надменным, напористым выходцем из низов, они не могли не попрекнуть его «подлым родом».
Ломоносов ответил басней «Свинья в лисьей шкуре». Он вывернул сюжет наизнанку: свинья, нацепившая шкуру мертвой лисы, приходит ко льву.
Пришла пред льва свинья, и милости просила,
Хоть тварь была подла, но много говорила,
Однако все врала,
И с глупости она ослом льва назвала.
Не вшел тем лев
Во гнев.
С презреньем на нее он, глядя, разсмеялся,
И тако говорил:
«Я мало бы тужил,
Когда б с тобой, свинья, вовек я не видался.
Тот час узнал то я,
Что ты свинья.
Так тщетно тщилась ты лисою подбегать,
Чтоб врать.
Родился я на свет не для свиных поклонов,
Я не страшусь громов.
Нет в свете сем того, чтоб мой смутило дух.
Была б ты не свинья,
Так знала бы, кто я,
И знала б, обо мне какой свет носит слух».
Сумароков еще пытался отругиваться, напечатал еще одну направленную против Ломоносова басню («Обезьяна-стихотворец»), написал несколько эпиграмм… Но самого Ломоносова в последние годы жизни полемика такого рода занимала куда меньше, чем смолоду. Не до того ему было.
Последняя по времени попытка Шувалова помирить двух поэтов послужила поводом для знаменитого ломоносовского письма, отправленного 19 января 1761 года. Накануне, 2 января, статский советник Мизере записал в своем дневнике: «Бешеная выходка бригадира Сумарокова за столом у камергера Ивана Ивановича. Смешная сцена между ним же и г. Ломоносовым».
Спустя две недели эта сцена имела вот такое, уже не очень смешное продолжение: «Никто в жизни меня больше изобидел, как ваше превосходительство. Призвали вы меня сегодня к себе. Я думал может быть какое обрадование будет по моим справедливым прошениям. Вы отозвали меня и поманили. Вдруг слышу: помирись с Сумароковым! т. е. сделай смех и позор! Свяжись с таким человеком, от коего все бегают, и вы сами не ради. Свяжись с таким человеком, который ничего другого не говорит, как только всех бранит, себя хвалит, и бедное свое рифмачество выше всего человеческого знания ставит. <…> Не желая вас оскорбить отказом при многих кавалерах, показал я вам послушание, только в последний раз. <…> Ваше превосходительство, имея ныне случай служить отечеству вспомоществованием в науках, можете лутчие дела производить, нежели меня мирить с Сумароковым. Зла ему не желаю. Мстить за обиды и не думаю. И только у Господа прошу, чтобы мне с ним не знаться. Буде он человек знающий, искусной, пускай делает пользу отечеству. Я по моему малому таланту также готов стараться. А с таким человеком обращения иметь не могу и не хочу, который все прочие знания позорит, в которых и духу не смыслит. <…> Не токмо у стола знатных господ или у каких земных владетелей дураком быть не хочу, но ниже у самого Господа Бога, который дал мне смысл, пока разве отнимет».
Последняя фраза – одна из самых знаменитых у Ломоносова. Человек, не лишенный слабостей, который мог быть временами мелочно тщеславным и мелочно самолюбивым, нетерпимым и сварливым, здесь вдруг встает во весь свой рост. И мы внезапно видим личность не только несгибаемой силы, но и подлинного духовного аристократизма, до которой Сумарокову, не говоря уж о Тредиаковском, было далеко. Но это письмо многое говорит и о его адресате. Ломоносов понимал, что бескомпромиссность может испортить его отношения с меценатом и другом. «По сие время ужились мы в единодушии. Теперь по вашему миротворчеству должны мы вступить в дурную атмосферу». Но «единодушие» между Ломоносовым и Шуваловым не исчезло, что доказывает ум и благородство всемогущего фаворита.
Сумароков не просто «ничего не знал, кроме своего бедного рифмачества». Он демонстрировал характерное дворянское презрение к естественным наукам. После показного, для Шувалова, примирения «господин Сумароков, привязавшись ко мне на час, столько вздора наговорил, что я еле ноги унес». Вероятно, он иронически высказывался о «новых изобретениях», которым его оппонент посвятил жизнь. Ломоносов, в свою очередь, с таким же презрением относился к сумароковскому окружению, состоявшему в это время по большей части из актеров. «По разным наукам у меня столько дела, что я отказался от всех компаний, жена и дочь моя привыкли сидеть дома и не желают с комедиантами обхождения».
Так начался распад доселе единой русской культуры Нового времени на два с трудом сообщающихся русла…
8
Если литературная полемика Ломоносова с Сумароковым в 1750-е годы была связана с шедшей тогда в России политической борьбой, то его последняя по времени полемическая схватка с Тредиаковским стала неожиданным завершением драматического конфликта с церковными властями.
Шестого марта 1757 года Синод подал Елизавете Петровне «всеподданнейший доклад»: «В недавнем времени проявились в народе пашквильные стихи надписанные: Гимн бороде, в которых не довольно того, что пашквилянт под видом якобы на раскольников крайне скверные совести и честности христианской противные ругательства генерально на всех персон, как прежде имевших, так и ныне имеющих бороды, написал; но и тайну святого крещения, к зазрительным частям человеческого наводя, богопротивно обругал, и чрез название бороду ложных мнений завесой всех святых отец учения и предания еретически похули».
В этом тяжеловесном тексте близко к оригиналу пересказывались некоторые строфы самого знаменитого сатирического стихотворения, вышедшего из-под пера Ломоносова.
Не роскошной я Венере,
Не уродливой Химере
В имнах жертву воздаю:
Я похвальну песнь пою
Волосам, от всех почтенным,
По груди распространенным,
Что под старость наших лет
Уважают наш совет.
Борода предорогая!
Жаль, что ты не крещена
И что тела часть срамная
Тем тебе предпочтена.
Попечительна природа
О блаженстве смертных рода
Несравненной красотой
Окружает бородой
Путь, которым в мир приходим
И наш первой взор возводим.
Не явится борода,
Не открыты ворота.
Борода предорогая!..
<и т. д.>
О прикраса золотая,
О прикраса даровая,
Мать дородства и умов,
Мать достатков и чинов,
Корень действий невозможных,
О завеса мнений ложных!
Чем могу тебя почтить,
Чем заслуги заплатить?
К «раскольникам» непосредственно относились следующие две строфы:
Борода в казне доходы
Умножает по вся годы:
Керженцам любезной брат
С радостью двойной оклад [98]98
Имеется в виду двойное налогообложение старообрядцев.
[Закрыть]
В сбор за оную приносит
И с поклоном низким просит
В вечный пропустить покой
Безголовым с бородой.
Борода предорогая!..
<и т. д.>
Не напрасно он дерзает,
Верно свой прибыток знает:
Лишь разгладит он усы,
Смертной не боясь грозы,
Скачут в пламень суеверы;
Сколько с Оби и Печеры
После них богатств домой
Достает он бородой.
Как мы уже писали, новая волна самосожжений была вызвана преследованиями со стороны господствующей церкви. Ломоносов с отвращением относился к старообрядческим вождям, считая их лицемерами, которые побуждают своих последователей к самосожжениям, чтобы завладеть их имуществом. Но и инквизиционная политика церковных властей не вызывала у него сочувствия.
Каковы бы ни были его собственно религиозные убеждения, врагом церкви как таковой Ломоносов не был. В конце концов, он получил духовное образование и сам чуть не стал священником. Какой-нибудь миссионер, несущий жителям отдаленных и пустынных мест завет Христов, а вместе с ним и грамоту, и цивилизацию, должен был вызывать у него живое сочувствие. В своей речи «Явление Венеры на Солнце» (1761) он говорит об этом с присущим ему дерзким гиперболизмом: «Некоторые спрашивают, ежели-де на планетах есть живущие нам подобные люди, то какой они веры? <…> В южных великих землях, коих берега в нынешний век только примечены мореплавательми, тамошние жители, люди видом, языком и всеми поведениями от нас отменные, какой веры? И кто им проповедовал Евангелие? Ежели кто-то знать и обратить и крестить хочет, пусть по евангельскому слову… туда пойдет. И как свою проповедь окончит, то после пусть поедет для того и на Венеру. Только бы труд его был не напрасен. Может, тамошние люди в Адаме не согрешили, и для того всех из того следствий не надобно» [99]99
Кстати, мысль о том, что жители других планет могут быть свободны от первородного греха, независимо от Ломоносова пришла в 1930-е годы Клайву Льюису (см. его роман «За пределы Безмолвной планеты», 1938).
[Закрыть].
Но чтобы исполнить эту миссию, Русская православная церковь сама должна была преобразиться, реформироваться. Планы у Ломоносова на сей счет были довольно решительные (впоследствии, в 1761 году, он позволил себе частично предать их бумаге [100]100
Об этом см. в Главе восьмой.
[Закрыть]). Сыграв в отношении русского языка роль, подобную роли Лютера, он, по крайней мере, теоретически примерял на себя его образ и в других отношениях. На этом пути он ощущал себя преемником Феофана Прокоповича – не случайна легенда о благословении, которое «спасский школьник» Ломоносов якобы от него получил. Предметом его ненависти были те круги, которые заняли первенствующее место в церкви при Елизавете. Вождями их были Димитрий Сеченов, епископ Рязанский, и Сильвестр Кулябко, архиепископ Санкт-Петербургский. Именно подписи «смиренного Сильвестра» и «смиренного Димитрия» первыми стояли под доносом.
Димитрий (Даниил Андреевич) Сеченов (1708–1767), хорошо знакомый Ломоносову еще по Славяно-греко-латинской академии (окончив курс в 1730 году, молодой Сеченов преподавал там риторику), и Сильвестр (Симеон Петрович) Кулябко (1701–1761) считались лучшими церковными ораторами той эпохи. Сеченов в качестве оратора был во многих отношениях литературным антагонистом Ломоносова. Его стиль – простой, грубоватый, лишенный славянизмов и других примет «высокого слога», сложных грамматических конструкций, изысканных тропов, но притом выразительный, бросал вызов феофановскому и ломоносовскому ученому красноречию. Об успехе проповедей Сеченова может косвенно свидетельствовать тот факт, что за восемь лет работы миссионером в Поволжье он склонил к православию 67 тысяч местных «инородцев»; правда, о степени добровольности и искренности этих обращений есть разные мнения. При этом «смиренный Димитрий» был гибок. Когда при Петре III и Екатерине II опять восторжествовала «феофановская» линия, он стал активным защитником секуляризации монастырских земель и благодаря этому сумел сохранить свое положение. Известно было, что у Сеченова – густая холеная борода, и он очень ею гордится.
В «Гимне бороде» есть прямой выпад против еще одного влиятельного церковника:
Если кто невзрачен телом
Или в разуме незрелом;
Если в скудости рожден
Либо чином не почтен,
Будет взрачен и рассуден,
Знатен чином и не скуден
Для великой бороды:
Таковы ее плоды!
Как считают комментаторы, имеется в виду Гедеон Криновский (1726–1763), безвестный монах, понравившийся Елизавете Петровне и ставший придворным проповедником.
Почему Ломоносова так раздражали именно бороды священников? Напомним, что начиная с Петровской эпохи ношение бороды любым дворянином, служилым разночинцем, солдатом не допускалось. Отсутствие бороды означало соответствие человека государственному и общественному сверхпроекту. Борода была дозволена мужикам и купцам, людям, находящимся ниже общества, вне общества как системы, обязанных ему лишь уплатой податей. Священники носили бороду, что означало их автономность, независимость от государства и его целей. Но в то же время они были частью элиты и влияли на политику. Такого человека, как Ломоносов, это не могло не возмущать.
Члены Синода сразу рассудили, что «оной пашквиль, как из слога признавательно, не от простого, а от какого-нибудь школьного человека… произошел», и почему-то подозрение сразу же пало на Ломоносова. Вызванный в Синод для «свидания и разговора», он «исперва начал оной пашквиль шпынски защищать, а потом сверх всякого чаяния сам себя тому пашквильному сочинению автором оказал, ибо в глаза пред синодальными членами таковые ругательства и укоризны на всех духовных за бороды их произносил, каковых от доброго и сущего христианина надеяться отнюдь не возможно».
Угрозы «церковной клятвы» Ломоносова не испугали. Вскоре он «таковой же другой пашквиль в народ издал». Этот последний «пашквиль» уже прямо был направлен против Синода:
О страх! о ужас! гром! ты дернул за штаны,
Которы подо ртом висят у сатаны.
Ты видишь, он зато свирепствует и злится,
Дырявой красной нос, халдейска печь, дымится,
Огнем и жупелом исполнены усы,
О как бы хорошо коптить в них колбасы!
Козлята малые родятся с бородами:
Коль много почтены они перед попами!
О польза, я одной из сих пустых бород
Недавно удобрял бесплодный огород.
Уже и прочие того ж себе желают
И принести плоды обильны обещают.
Чего не можно ждать от толь мохнатых лиц,
Где в тучной бороде премножество площиц?
Сидят и меж собой, как люди, рассуждают,
Других с площицами бород не признавают
И проклинают всех, кто молвит про козлов:
Возможно ль быть у них толь много волосов?
Духовных пастырей особенно обидело сравнение с козлами. В своей жалобе они ссылались на пункт 149 главы 18 Военного артикула Петра Великого, предписывающий «пасквилей сочинителей наказывать, а пасквильные письма через палача под виселицей жечь». Таким образом просили они поступить и с «Гимном бороде», а Ломоносова «для надлежащего увещевания и исправления в Синод отослать».
Кроме Кулябко и Сеченова донос подписали «смиренный Амвросий, епископ Переяславский» и «смиренный Варлаам, архимандрит Донской».
Никаких последствий донос не имел. Иван Шувалов без труда убедил императрицу, что его ученый друг, который пишет такие звучные оды и делает такие красивые картинки из цветных стеклышек, имел в виду исключительно «раскольников». В конце концов Елизавета, при всем своем благочестии, была в первую очередь женщиной и, скорее всего, ей не нравились бородатые мужчины.