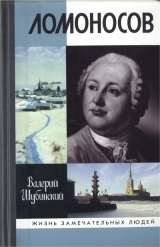
Текст книги "Ломоносов: Всероссийский человек"
Автор книги: Валерий Шубинский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 37 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Гораздо больше, чем эти «мистические теории», Ломоносова занимали физические опыты, которые демонстрировал Вольф. В 1746 году, уже будучи профессором Петербургской академии наук, он перевел на русский язык краткое латинское изложение трехтомной «Экспериментальной физики» своего учителя. В предисловии к этому труду сквозит искреннее восхищение современной наукой, открывшейся сыну холмогорского рыбака в дальней Германии.
«Мы живем в такое время, в которое науки, после своего возобновления в Европе, возрастают и к совершенству приходят… Сие больше от того происходит, что нынешние люди, а особливо испытатели натуральных вещей, мало взирают на родившиеся в одной голове вымыслы и пустые речи, но больше утверждаются на достоверном искусстве. Главнейшая часть натуральной науки физика ныне уже на одном оном свое основание имеет. Мысленные рассуждения произведены бывают из надежных и много раз повторенных опытов…»
Все это открыл для себя уроженец деревни Мишанинской в Марбурге. Этот маленький городок стал для него тем же, чем для юного скифа Анахарсиса, героя платоновского диалога, Афины.
3
Марбург был небольшим городом – в нем и сейчас живет всего 76 тысяч человек. Изменился он мало. Военной промышленности в нем не было, и бомбардировщики в XX веке пролетели мимо. Самые высокие точки остроконечного городка – собор Святой Елизаветы и замок, расположенный на холме. Замок и церковь были построены потомками святой Елизаветой Венгерской (Тюрингенской), правившей этими землями в XIII веке. Именно в этом замке, где некогда спорили Лютер и Цвингли, в 1730-е годы был богословский коллегиум (факультет). Три других коллегиума располагались в бывших католических монастырях, заброшенных в дни Реформации. Юристам отвели монастырь доминиканский, а философам и медикам – францисканский. Русские студенты числились на медицинском факультете, поскольку именно там учили химии, и состояли, таким образом, под тайным покровительством святого Франциска, нищенствующего поэта, визионера, друга и покровителя всех живых тварей.
Ломоносов, высокий, широкоплечий, в недавно купленном камзоле, в коротком пудреном парике с косой, в шелковых чулках, обтягивающих рельефные икры, в сделанных на заказ огромных башмаках, украшенных блестящими стразами (едва ли у него, при огромном росте, были непропорционально маленькие ступни, как у Петра I), должен был забавно смотреться в узком уличном проеме.
Он был настоящим Гулливером среди маленьких людей и маленьких домов. В России в 1730-е годы средний рост мужчин был 156 сантиметров, а человек ростом в два аршина (142 сантиметра) считался годным к военной службе. Вряд ли немцы были намного выше…
Есть лишь одно упоминание о Ломоносове в те годы, принадлежащее юристу Иоганну Пютеру, приехавшему в Марбург в 1738 году тринадцатилетним мальчиком. Он жил напротив Ломоносова. «Я часто наблюдал поутру, как он ел свой завтрак, состоящий из нескольких селедок и доброй порции пива. Я познакомился с ним ближе и сумел оценить как его прилежание, так и силу суждения и образ мысли». Ломоносов жил вместе с другим русским студентом, скорее всего, с Рейзером, а не с Виноградовым.
Но это было позднее. Пока же, по приезде в Марбург, Ломоносов поселился в доме Екатерины Елизаветы Цильх, урожденной Зергель, вдовы пивовара и ратмана Генриха Цильха. Цильх, который вел свой род из городка Зонтра в Гессене, был старостой общины реформатов (кальвинистов) в лютеранском по преимуществу городе; к той же общине принадлежал Дуйзинг, который и мог рекомендовать им своего студента в качестве квартиранта. Разумеется, он не стал бы этого делать, зная, какие скандальные для добропорядочной бюргерской семьи последствия будет иметь появление в доме русского великана. У вдовы Цильх росли сын и две дочери. Елизавета Христина была младшей. В 1736 году ей было всего шестнадцать…
Собственно, это все, что мы можем сказать. Вплоть до начала 1739 года мы (помимо утреннего меню) знаем из документов лишь об учебных успехах нашего героя – с одной стороны, и о его запутанных денежных делах – с другой.
У Ломоносова, как и у его друзей, по приезде в Германию оставалось 200 рублей, то есть 250 рейхсталеров. К концу сентября, когда должны были прийти (но еще не пришли) деньги на следующий год, он, судя по посланному отчету, успел потратить 209 рейхсталеров. Из них на книги ушло 60 талеров, на одежду, парик, белье, башмаки, чулки – 88 талеров, на уроки фехтования, рисования, танцев и французского языка – 39 талеров и на дорогу из Любека – 32.
В этом перечне нет платы за лекции Дуйзинга, за жилье и стол. За квартиру Цильхам Ломоносов платил 20 талеров в год, причем плата, видимо, вносилась задним числом [32]32
Это было довольно дорого для Марбурга тех лет; но Виноградов и Рейзер платили еще больше – вероятно, хозяева пользовались неосведомленностью студентов-иностранцев.
[Закрыть]. Столовался он вместе с товарищами у Вольфа; к июню 1737 года они ничего еще не заплатили за питание, и Вольф счел необходимым деликатно напомнить об этом.
Не надо забывать, что Виноградов и Рейзер были совсем зелеными юнцами – даже для того века, когда люди взрослели быстрее, – а Ломоносов никогда в жизни не держал в руках сколько-нибудь ощутимой денежной суммы. Тратить деньги они не умели, вести отчетность – тоже, а на 375 рейхсталеров в год жить в Марбурге, казалось бы, можно совсем неплохо… Молодые люди быстро почувствовали себя состоятельными кавалерами. В случае Ломоносова социальный скачок был, видимо, слишком резким. Парик, камзол и шпага (без которой студент не имел права выходить на улицу) сами по себе делали недавнего «спасского школьника» «благородным». Шпагу приходилось пускать в ход: дуэли, в России строжайше запрещенные указом Петра I (смертная казнь и дуэлянтам и секундантам за один выход на поле!), здесь были в ходу. Студент, не снявший шляпу при встрече с собратом, должен был оружием отстаивать свою жизнь и честь. Обучение фехтованию было практической необходимостью.
Можно не сомневаться, что на самом деле к сентябрю от привезенных из России денег давно уже не осталось ни гроша. Однако стипендия на следующий год пришла лишь в ноябре, и то не полностью: Ломоносов получил от Вольфа (на чье имя посылались деньги из Петербурга) 282 рейхсталера (что составляет больше посланных 200 рублей – возможно, Вольф менял деньги по особому, выгодному курсу). Из Сената в Академию наук средства на обучение трех студентов поступали исправно и в срок, однако по старой привычке они использовались для затыкания неотложных «дыр», а затем возмещались из других источников. Все же полученная каждым из студентов сумма составляла две трети причитавшегося годового содержания и ее, по идее, должно было хватить надолго. Но, даже судя по официальным отчетам трех марбургских студентов (сильно приукрашивавшим истину), деньги были почти полностью истрачены ими к марту – за три месяца! Лично Ломоносов потратил 237 рейхсталеров, из них на книги – лишь 18 (можно лишь умилиться благостности некоторых биографов советской поры, объясняющих марбургские денежные проблемы Михайлы Васильевича единственно необузданной любовью к чтению). На стол, комнату, дрова, свечи, бумагу и прочие необходимые нужды ушло 113 рейхсталеров. Остальное – на портного, цирюльника, уроки фехтования…
Тем временем учебные занятия шли своей чередой.
Еще в июне Вольф докладывал Корфу, что студенты изучили основы математики и могут приступать к курсу физики [33]33
Летом – осенью они прослушали лекции по механике, гидростатике, аэрометрии, гидравлике и основам маркшейдерского искусства, а зимой приступили к изучению экспериментальной физики.
[Закрыть], с похвалой отзывался об усердии Ломоносова и Виноградова в изучении немецкого и беспокоился о том, «у кого здесь они могли бы поучиться естественной истории». Изучать этот предмет приходится самостоятельно. 15 (26) марта Ломоносов пишет Корфу: «В последней присланной нам инструкции Ваше превосходительство приказать изволили, дабы каждый из нас приобрел себе соответствующие сочинения по естественной истории и металлургии, а также некоторые руды. Но так как книг сих нельзя добыть раньше пасхальной ярмарки, а зимнее время неудобно для посещения рудников, где могли бы мы добыть руды для лучшего познания минерального царства, то мы по совету г. регирунгсрата отложили сие до будущего лета…» Заканчивает Ломоносов просьбой о присылке дополнительных денег «как на вышеозначенные предметы, так и на наше содержание». Деньги (в количестве 300 рублей) были получены лишь в начале августа… В то же время расточительность студентов начала смущать президента Академии наук. Тем более что спустя несколько дней, 30 марта, Вольф в очередном письме деликатно попросил Корфа повлиять на студентов, чтобы «при их отъезде не обнаружилось каких-нибудь долгов, которые могут их задержать». Вероятно, до регирунгсрата дошли какие-то слухи…
Уже 29 мая Академическая канцелярия вынесла решение:
«…К ученикам писать на немецком диалекте, чтоб они репорты в Академию наук присылали порядочно, по обстоятельствам, а именно – о науках, которые в присутствии господина Вольфа чинили и до которой они уже нынче дошли – показать; часы, в которые профессор или учители их обучают; а в экономии – всякой расход: что на платье, в том числе на сукно, на подкладку и другие к тому потребности, и за работу мастерам дано денег; какие именно куплены книги, оным с показанием цены прислать в Академию наук реестр; танцевальным и фехтовальным мастерам отказать; платья же чрезвычайно дорогова и других уборов против препорции не делать, и весьма то отставить… наипаче от излишнего долгу как возможно себя беречь и довольствоваться определенным токмо годовым жалованием, тремя стами рублей в год каждому, из которых и до наук надлежащее купить. А лишних долгов академия за них платить не будет, токмо за неисполнение и их вины штрафовать…» В тот же день инструкция на немецком языке, почти дословно совпадающая с грозным решением канцелярии, ушла в Марбург.
Но было поздно. Письмо Вольфа от 17 августа рисует угрожающую (но, как оказалось, еще не полную) картину происходящего: «Из полученных денег уплатили они за стол и возвратили безделицу, кою я им дал взаймы; остальное же они удержали для своих нужд и на сей раз также не смогли расплатиться с долгами, поелику иначе бы снова остались с пустыми руками…
Вся ошибка происходит с самого начала. Деньги, что привезли они с собой, они промотали, не заплатив ничего, что полагалось, потом же, приобретя себе кредит, наделали долгов… Я не мог уведомиться о количестве сделанных ими долгов, ибо в сем случае у меня не было бы отбоя от кредиторов, а между тем я не знаю, должно ли мне вступаться в это дело. Кажется, в своих последних счетах они показали уплаченным то, что еще не уплачено…»
Вольф с удивлением отмечает, что присланные из Петербурга молодые люди «как будто еще не знают, как обращаться с деньгами и вести порядочное хозяйство». На самом деле гораздо удивительнее другое: пусть Ломоносов не общался с отцом, но у его товарищей ведь были родители… Отец Рейзера непосредственно организовывал отправку студентов в Германию, и у него, образованного немца, несомненно, были знакомые в том же Марбурге. Почему он не попросил их проследить за бытом и денежными делами своего еще, в общем, невзрослого сына?
Если добрый Вольф боялся «вступаться» в дела с кредиторами, то исключительно по деликатности. Он просит Корфа сообщить: «Надлежит ли мне поточнее разузнать об их долгах, пока не поздно еще поразмыслить и изыскать средство, дабы отвратить беду… Может быть, не бесполезно обязать их в будущем рапорте своем сделать счет своим долгам, на меня же возложить надзор за тем, чтоб они ничего не забыли. Однако же я бы желал, чтобы это им было присоветовано с нарочитой мягкостью, дабы не возбудить против меня какого-нибудь неудовольствия и не потерять их ко мне доверенность…».
Судя по последней фразе, у Вольфа уже сложились некие личные отношения с русскими студентами. С кем же именно? Ответ дается в том же письме от 17 августа.
«У господина Ломоносова, по-видимому, самая светлая голова среди них; и, приложив надлежащее старание, он может многому научиться, к чему также показывает большую охоту и страстное желание. Господин же Виноградов, как мне кажется, во всем самый дурной из них…»
Дмитрием Виноградовым Вольф был недоволен: и в части учебных успехов (он «выучил, кажется, только немецкий язык»), и в отношении поведения. Юноша окончательно потерял голову. Одалживал деньги у всех встречных, сделанных долгов не помнил, а на тех, кто напоминал ему о них, «нападал со шпагой»… Учитывая скромные успехи этого студента, Вольф даже советовал отозвать его в Петербург. Но, не любя Виноградова, Вольф и ему «помогал… с помощью тогдашнего проректора выпутываться из разных историй» (из письма к Корфу от 13 января 1739 года).
Однако же из Виноградова впоследствии вышел толк. Впрочем, видимо, неслучайно ему и во время службы на Фарфоровой мануфактуре, его знаниями и усердием созданной, избегали выдавать жалованье на руки.
Пока же все три студента составляют, по указаниям из Петербурга, более подробную опись своих расходов. Интереснее всего, конечно, список купленных книг. Больше всего приобрел Ломоносов – 58 названий (у Виноградова – 40, у Рейзера – 35)! Кроме трудов Вольфа и химических книг Шталя, Бехера, Бургаве и других словарей и учебных пособий, Ломоносов приобретает сочинения Вергилия, Овидия, Марциала, Сенеки, Цицерона. Когда-то он изучал этих писателей в Славяно-греко-латинской академии, но собственных, ему принадлежащих книг у него в те годы не было и быть не могло. Из новоевропейских писателей он покупал книги Эразма Роттердамского, Фенелона («Похождения Телемака» – французский оригинал), современного беллетриста Мариво и сравнительно недавно угасшего в молодом возрасте немецкого поэта Иоганна Христиана Гюнтера. Эта последняя книжка оказалась особенно важна для его дальнейшей судьбы. Круг книг, купленных Рейзером и Виноградовым, примерно таков же: латинские классики и текущая немецкая и французская словесность. Древних каждый покупал для себя, книгами современников, видимо, обменивались.
Между тем деньги продолжали таять. Из 128 рейхсталеров, полученных Ломоносовым в августе, уже к октябрю было израсходовано 98 – и это согласно официальному отчету, который, видимо, был не вполне откровенен. Скорее всего, студенты, увязшие в долгах, частично возвращали их – и тут же занимали снова, под все большие проценты, и в результате сумма долга росла.
С января 1739 года Вольф, получивший очередные деньги для студентов, выдавал им по талеру в неделю, «чтобы уберечь их от новых долгов». К этому времени студенты старые долги свои как-то каталогизировали. Вышли суммы огромные. За Ломоносовым числилось 484 рубля долга; по большей части он был должен неким Рименшнейдеру и Вираху – видимо, ростовщикам. Кроме того, были мелкие долги учителю фехтования, портному, учителю французского и пр. Взяв на себя хлопоты, Вольф сумел договориться с кредиторами и уменьшить сумму долга каждого студента. Так, долг Ломоносова уменьшался до 437 рублей (у Виноградова – 576, у Рейзера – 358). Но и это превышало годовую сумму, отведенную Сенатом на его обучение. 9 марта Академия наук послала Вольфу вексель на 1162 рубля, то есть 1400 рейхсталеров, что чуть-чуть превышало общую сумму долга. Студентам же велено было готовиться к отъезду из Марбурга во Фрейберг к Троицыну дню. С Генкелем удалось договориться: он умерил свои аппетиты до 500 рублей ежегодно в течение двух лет. Академия компенсировала расход тем, что уменьшила стипендию студентам «за показанные их роскоши и невоздержанное житье» до 150 рублей. Вольф настойчиво советовал «поскорее отозвать» студентов из Марбурга, «потому что они не умеют пользоваться академической свободой и потом уже успели окончить то, чему должны были тут выучиться».
Но тут выяснилось, что на самом-то деле долги студентов были еще больше. Ломоносов и его товарищи побоялись сказать всю правду разом и этим усугубили свою вину. При окончательном расчете, сделанном уже после отъезда трех незадачливых студиозусов из Марбурга, долг составлял уже 1926 рейхсталеров [34]34
Из них на долю Ломоносова приходилось 613, Виноградова – 899 и Рейзера – 414 рейхсталеров.
[Закрыть]– вместо 1371! Академия наук предложила Вольфу, «в случае если бы посланные 1400 талеров оказались недостаточны», оплатить остаток из своих средств, «дабы от излишнего пребывания в Марбурге не образовались новые долги». И Вольф заплатил из своих средств 416 рейхсталеров – сумму, превышавшую годовую пенсию, приходившую ему из Петербурга (разумеется, затем, задним числом, эти средства были ему компенсированы). Должно быть, в те дни он с раздражением думал о своей помощи в организации Санкт-Петербургской академии и с радостью – о том, что все же не поехал сам в Россию, где вырастают этакие безалаберные остолопы и где даже Рейзера, мальчика из хорошей немецкой семьи, умудрились испортить. Утешить его могла лишь философия. Все к лучшему в этом лучшем из миров. Происшествие с русскими мотами и растратчиками, вероятно, имело некий недоступный ограниченному сознанию смысл.
Вольфа раздражала, помимо прочего, беспечность студентов, которые «со своей стороны совершенно веселы, как будто вели себя совершенно добропорядочно». Причина, по-видимому, в том, что юноши не понимали разницы между собой и вольными немецкими буршами. Долгами в Марбурге трудно было кого-то удивить. Морозов приводит, скажем, указ гессенского ландграфа от 1746 года, предписывавший, «чтобы никто, будь то христианин или еврей», не выдавал студентам ссуду больше чем на пять талеров без соизволения родителей или опекунов и чтобы владельцы кофеен, бильярдных, аптекари и прочие не отпускали им ничего в кредит. В противном случае власти снимали с себя всякую ответственность. Собственно, по буршевской этике долг перед трактирщиком, ремесленником, а особенно ростовщиком вообще не принимался всерьез. Давать деньги в рост единоверцу считалось зазорным, ссудные кассы держали либо евреи (по отношению к которым никаких моральных запретов, в общем, не существовало), либо плохие, безнравственные христиане, которых тоже сам Бог велит обмануть. Особенность положения Ломоносова и его товарищей заключалась в том, что по их долгам отвечали другие: Вольф и Петербургская академия. Они не могли просто так покинуть Марбург, оставив с носом Рименшнейдера и Вираха.
О беспокойстве, вызванном этой историей в Петербурге, свидетельствует «особое мнение», поданное в Академическую канцелярию академиком Христианом Гольдбахом, который предлагал немедленно доложить о случившемся императрице, «дабы избегнуть могущих быть неприятностей». Но ни Корф, ни Шумахер его не поддержали, так как студенты, судя по документам, еще не превысили лимит отведенных для них средств [35]35
За два с половиной года было переведено 3400 рублей. Сенатом же к этому моменту перечислено академии 3600 рублей.
[Закрыть], и потом на рассмотрение дела в Кабинете Ее Величества уйдет время, а студенты тем временем останутся в Марбурге и наделают новых долгов. Так что лучше поскорее отправить их во Фрейберг. Шумахер не желал привлекать внимания верховной власти к своим собственным делам, в частности, к сомнительной практике «резервирования» средств на будущие путешествия в Англию, Францию и Голландию (с использованием этого резерва на текущие нужды академии). Что касается Корфа, то на него могли подействовать свидетельства все-таки успешного обучения студентов – в первую очередь Ломоносова.
Наконец, 15 октября 1738 года, ушел в Петербург первый «специмен» (контрольное сочинение студента) «Образчик знания физики: о превращении твердого тела в жидкое, зависящем от движения предсуществующей жидкости» [36]36
«Specimen physicum de transmutatione corporis solidi in fluidum a motu fluidi praeexistentis dependente».
[Закрыть]. Автором этой работы был Ломоносов. В марте следующего года он послал на родину второе сочинение по физике. То была «Диссертация физическая о различии смешанных тел, состоящем в сцеплении корпускул, которую упражнения ради написал Михаил Ломоносов, математики и философии студент в 1739 года марте месяце» [37]37
«Dissertatio physica de corporum mixtorum differentia, quae in cohaesione corpusculorum consistit. Quam exercitii gratia conscripsit Michael Lomonossoff Matheseos et Philosophiae Studiosus, Anno 1739 Mense Martio».
[Закрыть].
Эти работы свидетельствуют о хорошем усвоении идей Вольфа и представляют собой попытку самостоятельного, хотя и осторожного развития этих идей. Разумеется, оба «специмена» носят скорее спекулятивно-рационалистический характер, следов самостоятельной экспериментальной работы в них мало, – да и странно было бы пока ожидать иного. Ломоносову импонировала склонность учителя к построению простых, зримых, логичных моделей, и он перенял эту склонность.
В первой работе он объясняет твердое состояние тел «скрепленностью» (связанным состоянием) составляющих их корпускул, а жидкое (что в то время означало также «газообразное») – разобщенностью корпускул. При растворении под механическим воздействием движения свободных корпускул «предсуществующей жидкости» (то есть растворителя) связи между корпускулами разрушаются. (Проблем растворения Ломоносов касается и в своих зрелых работах.) Вторая работа – попытка связного построения собственной «корпускулярной теории». Что заставляет корпускулы, мельчайшие частицы вещества, сцепляться между собой? В то время в мировой науке шел спор между картезианцами, последователями Декарта, считавшими, что «никакое тело не может двигать другое, если само не движется», и ньютонианцами, верившими в существование притяжения. Вольф принадлежал к числу картезианцев. Другими словами, он считал, что движение может быть передано лишь через механическое воздействие. Этому ошибочному догмату, унаследованному от учителя, Ломоносов остался верен до конца жизни, и с учетом этого положения строилась вся его картина мира. Поэтому Ломоносов объяснил скрепление частиц так: между корпускулами находится «жидкая нечувствительная материя», которая выталкивается из мест механического соприкосновения корпускул. В результате образуется избыточная плотность этой «жидкой материи» рядом с этими точками соприкосновения, и вот эта-то материя, согласно закону Бойля – Мариотта, давит на корпускулы и прижимает их друг к другу.
Работы были написаны вольфовским «математическим методом». Вот как это выглядело.
Определение I
§ 1. Корпускулы – сущности сложные, не доступные сами по себе наблюдению, то есть настолько малые, что совершенно ускользают от взора.
Присовокупление I
§ 2. Так как основание того, что свойственно природным телам, нужно искать в качестве корпускул и способе их взаимного расположения (Космология, § 33), то и основание различия, наблюдаемого в их сцеплении, надо искать в них же.
Присовокупление II
§ 3. Корпускулы совершенно недоступны для зрения (§ 1), поэтому свойства их и способ взаимного расположения должно исследовать при помощи рассуждения.
Определение II
§ 4. Корпускулы, имеющие основанием своего сложения элементы, называются первичными.
Определение III
§ 5. Корпускулы, имеющие основание своего сложения в других, меньших, чем они, корпускулах, называются вторичными.
(Физическая диссертация… Перевод Б. Н. Меншуткина)
Этот второй «специмен» в Петербурге был дан на рецензию самому яркому из плеяды молодых немецких ученых, сформировавшихся в России, – Леонарду Эйлеру. Отзыв оказался благоприятен. Так началось заочное общение двух великих людей – заочное, потому что в 1736 году, когда Ломоносов был в Петербурге, молодого профессора Эйлера он вряд ли видел (тот был тяжело болен), а пять лет спустя Эйлер и Ломоносов разминулись лишь на несколько месяцев: первый уехал из России в Германию, второй вернулся из Германии в Россию; в 1766 году пожилой и полуслепой Эйлер принял приглашение Екатерины II и провел остаток жизни на берегах Невы, но Ломоносова уже не было в живых.
Зато посланный одновременно с первым «специменом» перевод оды Фенелона не произвел на петербургских академиков (не знавших, по большей части, русского языка) никакого впечатления. Впрочем, при всей формальной революционности этого произведения (впервые в русской поэзии написанного правильным силлабо-тоническим стихом) и его литературных достоинствах, оно должно было в первую очередь продемонстрировать успехи Ломоносова во французском языке. Сам Вольф оценивал эти успехи скептически: «Во французском языке они, сколько судить могу, не сильно преуспели, ибо учитель не хотел их наставлять, пока они не заплатят по счету, они же, чтобы сберечь деньги, оставили эти занятия». Ломоносов свободно читал по-французски, но, видимо, не писал и не говорил: в то время это было еще не обязательно. Французский стал языком светской жизни лишь в последней трети XVIII века, а для общения с коллегами по Академии наук достаточно было немецкого.
Рейзер тоже послал «специмен», а Виноградов – нет. 4 апреля Вольф пишет: «Студенты Рейзер и Ломоносов ведут себя добропорядочно, также живут в добром между собой согласии, и есть добрая надежда, что на их обучение деньги не зря были употреблены. Господин Ломоносов также обнаруживает более мягкости во нраве, чем прежде. Что же делать с господином Виноградовым, не ведаю. Про доставление обоих первых Specimina я несколько раз договаривался с ним, и он обещал мне принести их, однако же он этого не сделал. И я уж не верю, что он может нечто написать. Он любитель безделья и беспорядочной жизни. Я постоянно в опасении пребываю, чтобы он не попал в переделку какую-нибудь или не подвергся академическому взысканию…»
Ломоносов действительно жил теперь тихо. Но делить кров с Рейзером (покинув дом Цильхов) его заставило обстоятельство, открывшееся уже после отъезда русских студентов из Марбурга. В ночь с 8 на 9 ноября 1739 года девица Елизавета Христина Цильх родила дочку, очень похожую на постояльца ее матушки.
Был ли Вольф осведомлен об этом последствии пребывания своего ученика в Марбурге? Видимо, на тот момент – нет. И хорошо: он бы расстроился. Герр регирунгсрат действительно был очень расположен к самому старшему из своих русских учеников, явно отдавая ему предпочтение не только перед Виноградовым, но и перед довольно бесцветным, по всей видимости, Рейзером. И Ломоносов, в свою очередь, привязался к учителю. Он, давно бросивший отца – единственного близкого ему человека, почувствовал, должно быть, нечто отцовское в заботе аккуратного, благостного, добропорядочного немецкого профессора. К тому же он был старше других и первым понял, что он и его товарищи натворили. По словам Вольфа, Ломоносов «высказывал больше всего раскаяния» в сделанных долгах. Впрочем, в день отъезда и его товарищи, «увидев, сколь много за них уплачивается денег», устыдились и со слезами на глазах просили у Вольфа прощения.
Позднее Ломоносов придумает для себя психологически удобную версию событий. Как сообщается в его «Краткой истории о поведении академической канцелярии…», студенты «пришли в нужду и впали в долги» из-за «неисправной пересылки денег на содержание». Восемнадцатью годами раньше, в 1746 году, в донесении Академии наук, он утверждает, что «определенные триста рублей в год на оное содержание в Германии не были довольны, для того что за позднею пересылкою денег из Академии наук принужден я был по большей части жить в долг и так за вещи, до моего обучения и содержания потребные, платить много больше, нежели когда б я оные покупал за наличные деньги». Но анализ фактов показывает, что это неправда. Задержки с получением денег были невелики, не больше месяца-двух. Сумма, определенная трем студентам, даже за вычетом «зарезервированных» 100 рублей, была более чем достаточна для жизни. Ни Вольф, ни сами студенты в 1739 году не обвиняли в случившемся Академию наук.
На прощание Вольф выдал Ломоносову аттестат: «Молодой человек с прекрасными способностями Михаил Ломоносов со времени своего прибытия в Марбург прилежно посещал мои лекции математики и философии, преимущественно же физики, и с особенною любовью старался приобретать основательные познания, нисколько не сомневаюсь, что если он с таким же прилежанием будет продолжать свои занятия, то со временем, по возвращении в отечество может принести пользу государству, чего от души и желаю». Такой же аттестат, по просьбе Ломоносова, дал ему и Дуйзинг.
Двадцатого июля студенты, получив по 4 рейхсталера на дорогу (Вольф на всякий случай вручил им деньги, только когда они уже сели в карету), отправились, наконец, во Фрейберг. Вольфу пришлось постараться, чтобы задиру Виноградова не задержали старые счеты с обиженными им студентами, «да и Ломоносов также выкинул штуку, каковой лучше бы не делать и каковая тоже могла бы привести к задержке».
По отъезде молодых людей выяснилась причина их расточительности: они «чрезмерно предавались разгульной жизни и были пристрастны к женскому полу. Покуда они были здесь, всяк боялся сказать хотя бы слово, поелику они своими угрозами всех держали в страхе».
В общем, догадаться было нетрудно. Воображение рисует сегодняшнему человеку колоритные картины: кабачок в университетском городке, пивные кружки, свиные головы, дымящиеся сосиски, шнапс рекой, пение «Гаудеамуса» или, скажем, старых вагантских гимнов, или любовной песенки покойного Гюнтера, переходящее в какое-нибудь «Uzh kak pal tuman na more sinee», которому научили буршей их русские товарищи, не дураки выпить, подраться и побегать за девушками… Ну, и девушки, конечно, нестрогие красавицы, которых, несмотря на все протестантское благочестие, здесь должно было хватать… И драчки, где на помощь поповичу-мушкетеру Виноградову приходили огромные поморские кулаки.
4
Во Фрейберг студенты прибыли через пять дней, через Херсфельд, Готу, Наумбург, Вейсенфельс и Лейпциг. Путь лежал в Саксонию, в Восточную Германию, диковатую, крепостную. Курфюрст саксонский Август III был по совместительству польским королем, как и его отец, Август Сильный. Власть саксонских курфюрстов в Польше поддерживала Россия, дважды лишавшая престола их главного соперника, Станислава Лещинского, шведского, а затем французского протеже.
На рассвете 25 июля студенты явились к берграту (горному советнику) Иоганну Фридриху Генкелю, своему новому учителю. Все вопросы, касающиеся их быта, были на сей раз решены заранее в мельчайших подробностях, вплоть до меню (обед из двух блюд – суп, рыба или жаркое; ужин – суп, холодное жаркое или бутерброды). Согласно инструкции Корфа, студенты должны были размещаться в одном доме, но в разных комнатах, «дабы прилежного как можно менее мог совратить ленивый». Генкель поселил студентов у себя, а провизию им приносили из дома его тестя. Расходы были прописаны до мельчайших деталей. На берграта был возложен строгий надзор за молодыми людьми. Он встретил их довольно грозно. Студенты, чье раскаяние еще не успело остыть, выслушали увещевание «со всем смирением» и получили по 10 талеров на руки на первое время.
Во Фрейберге жило девять тысяч человек, из них около пятисот составляли рудокопы. Здесь, в Саксонских горах, добывали серебро. Когда-то из этого серебра чеканилась монета для всей Европы – с 1186 года, когда город возник, до XVI века. Богатые дома, оставшиеся от Средневековья, напоминали о поре расцвета. Потом, к несчастью для обитателей Саксонских гор, открыли Америку – и оттуда потек в Европу золотой и серебряный демпинг. Все же шахты кормили горожан. Прибитые к дверям многих домов молоток и лом ясно обозначали профессию владельца.







