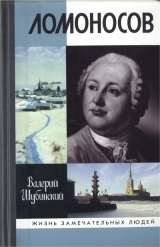
Текст книги "Ломоносов: Всероссийский человек"
Автор книги: Валерий Шубинский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 37 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Что же до академии, то она с самого приезда Лихудов оказалась в их руках. В эти годы грамматика преподавалась на греческом, риторика, логика и физика («естественная философия») частью по-гречески, частью по-латыни. Качество обучения не только древним языкам, но и базовым основам европейской средневековой схоластической образованности было в то время, видимо, высоким. Об этом свидетельствует хотя бы следующий факт: Петр Васильевич Постников, закончивший академию в 1692 году, уже два года спустя первым из русских получил докторскую степень в Падуанском университете. Мы уже упоминали о Магницком, учившемся в академии в эти годы. Но вскоре положение изменилось: в 1694 году в результате интриг Лихуды были изгнаны из академии, а возглавили ее их недоучившиеся ученики. После этого в академии несколько лет учили только греческому языку, грамматике, пиитике и риторике. Преподавать философию и богословие новые учителя не могли, а обучение латыни было прекращено по требованию иерусалимского патриарха. «Протоуниверситет» превратился в обычную монастырскую школу, причем плохо содержавшуюся.
В начале XVIII века Петр I обратил внимание на состояние Спасских школ и выделил средства на их возрождение. При Петре академия стала «кузницей кадров» не только для всех епархий России, но и для государственного чиновничества. Из 236 выпускников 1701–1728 годов лишь 68 пошли по духовной части, остальные определились на государственную службу. Для службы этой (в самых разных областях – от посольств до аптечного ведомства) нужны были люди, хорошо знающие латынь. Поэтому в это время в академии преобладал «латинский» уклон. Уже в 1700 году преподавание велось не по-гречески, а по-латыни, а в следующем году это было закреплено царским указом. В конце концов, преподавание греческого было перенесено в особую школу при церковной типографии, которая лишь в 1738 году была воссоединена с академией. «Спасские школьники» могли посещать ее «своей охотой».
Ректором в 1708 году стал архиепископ Феофилакт (Лопатинский), крупный церковный писатель и мыслитель, выходец с Украины, товарищ Феофана (Прокоповича) по Киево-Могилянской академии – и убежденный оппонент его в богословских и церковно-административных вопросах. Оба, Феофан и Феофилакт, были «западниками», но если первый больше симпатизировал протестантизму, то второй – католицизму.
Естественно, он со своей стороны способствовал «латинской» ориентации школы. В 1722-м Лопатинский оставил ректорский пост, но его традиции сохранялись.
По собственным свидетельствам Ломоносова, он подал заявление в академию и был туда зачислен не то 15 января, не то «в последних числах» января 1731 года. В «Академической биографии» это описывается так: «У караванного приказчика был знакомый монах в Заиконоспасском монастыре, который часто к нему хаживал. Через два дня после приезда его в Москву пришел с ним повидаться. Представя он ему молодого своего земляка, рассказал об его обстоятельствах, о чрезмерной охоте к учению и просил усиленно постараться, чтобы взяли его в Заиконоспасское училище. Монах взял то на себя и исполнил самым делом…» Таким образом, и здесь не обошлось без помощи земляков. В городе жили пять-шесть человек с Курострова (Тихон Шенин, братья Пятухины). Едва ли они искренне сочувствовали стремлению Михайлы к получению образования: оно должно было казаться им «чрезмерным», если не попросту – нелепой придурью. Но, возможно, они считали, что, помогая юноше, оказывают услугу его отцу. Между тем бедный Василий Дорофеевич не имел о сыне никаких известий. «Дома… долго его искали, и не нашед нигде, почитали пропадшим, до возвращения обоза по последнему зимнему пути…» («Академическая биография») – то есть до апреля.
При поступлении в академию Ломоносову пришлось обойти по крайней мере одно препятствие. В примечании к «Академической биографии» сказано: «А как не принимают в сию семинарию положенных в подушный оклад, то назвался Ломоносов дворянином». Это подтверждается и собственными показаниями Ломоносова, сделанными в 1734 году при «разоблачении». Дело в том, что первоначальное правило, допускавшее в академию людей «всех званий», было позднее изменено. В Указе от 7 июня 1728 года было сказано следующее: «Обретающихся в московской Славяно-Греко-Латинской Академии в школах солдатских детей обуча, отослать в полки в службу и впредь для обучения не принимать таковых, о которых тех полков, в которых отцы их служат, от командиров будет прислано письменное уведомление, что они ныне и впредь в полки не надобны; а помещиков людей и крестьянских детей, также непонятных и злонравных от помянутой школы отрешить и впредь таковых не принимать».
Петровская эпоха с ее воинствующим плебейством закончилась, и представители привилегированных сословий – «шляхетства» (образовавшегося в результате объединения боярства с дворянами и «детьми боярскими») и духовенства – стремились максимально отделиться от презренного податного населения. К тому же Синод (что бы там при Петре ни происходило) по-прежнему видел в академии прежде всего школу по подготовке грамотных священников и, конечно, стремился укомплектовать ее священническими сыновьями. Между тем на самом деле в 1728 году лишь 109 учеников (из 362) происходили из «поповых, дьяконовых и церковнических детей». Меньше трети… В последующие годы этот процент практически не менялся. Дворян было очень мало (в 1730 году всего четыре «спасских школьника» происходили из «шляхетства»), по большей же части в академии по-прежнему учились дети солдат, мастеровых, посадских и даже сироты из богадельни. Не крестьяне, конечно, но тоже – «записанные в подушный оклад». У академического начальства просто не было выхода. Между 1725 и 1730 годами общее число «спасских школьников» и так сократилось с 629 до 236 человек (потом, правда, снова стало расти). Ректор академии Герман Копцевич бил тревогу и просил Синод отменить ограничительные правила 1728 года, так как «число учеников во всей Академии зело умалилося и учения распространение пресекается». Ограничения не отменили – но смотрели на них сквозь пальцы. Тяга к образованию в тогдашней России была критически слаба, и сословная спесь боролась с необходимостью хоть как-то набрать необходимое количество учащихся. Попы и дьяконы не хотели отдавать сыновей в школы: для рукоположения в родном медвежьем углу достаточно было славянской грамоты. Когда одного из ломоносовских учителей, Тарасия Посникова, уже в 1740-е годы назначили директором новосозданной семинарии в Вязьме, поповичей пришлось определять туда насильно, и бедняга Посников столкнулся с настоящим террором: его избивали, его дом поджигали… Тем более не было охоты посылать своих чад в Москву – далеко от дома и налаженного хозяйства.
Но Ломоносов почему-то назвался дворянским сыном. Должно быть, юноша по наивности решил причислить себя к высшему сословию империи, надеясь таким образом поднять свой статус. При желании его слова легко можно было проверить. И уж в этом случае, попадись он на лжи в 1731 году, ему было бы несдобровать! Однако Копцевич, по помянутым выше причинам, предпочел принять слова жадного до учебы молодого помора на веру; до проверки дело дошло лишь три года спустя.
Другим препятствием был возраст. Формально Ломоносов укладывался в возрастные ограничители: в академию принимали юношей от 12 до 20 лет. Нашему герою было девятнадцать. Но большинство товарищей были намного моложе его. В знаменитом письме Шувалову от 10 мая 1753 года Ломоносов вспоминает, как «школьники, малые ребята, кричат и перстами указуют: смотри де, какой болван пришел в двадцать лет латине учиться». А ведь Михайло привык к тому, что у себя на Курострове он слыл едва ли не самым грамотным человеком. Болезненно самолюбивый, он с трудом переносил насмешки «малых ребят» – и помнил о них четверть века спустя…
3
«Латине» начинали учить в первом классе – «фаре» (еще было подготовительное заведение – «славяно-русская школа», где учили чтению и письму). Затем следовали «инфима», «грамматика», «синтаксима», «пиитика», «риторика», «философия» и «богословие». Каждый класс назывался по главному предмету, который в нем изучался. При хороших способностях можно было закончить академию за двенадцать-тринадцать лет (половину из них занимало обучение в классах «философии» и «богословия»), но были случаи, когда ученики сидели в Спасских школах лет по двадцать – в буквальном смысле слова до седых волос! Понятно, что в старших классах учеников было гораздо меньше, чем в младших; многие отсеивались и определялись на службу, не доучившись до «философии» и «богословия».
Обучение в «фаре» сводилось к чтению и письму по-латыни. В «инфиме» уже давали некоторые грамматические сведения в церковнославянском и латинском языках. В классе грамматики обучение славянской грамматике заканчивалось, латинской – продолжалось. Вместе с грамматикой давались начальные сведения по географии и истории, а «понеже по регулам грамматическим нуждно есть делать экзерциции, сиесть обучатися в переводах, то можно велеть ученикам переводить географию или историю, отсего два или три учения вдруг одного часа и одним делом подаватися» (так рекомендовал «Духовный регламент»). В этом же классе начинали учить арифметике и катехизису. В «синтаксиме» продолжалось преподавание тех же предметов. В это время Ломоносов начал одновременно с занятиями латынью в академии изучать греческий язык в школе при типографии.
Ломоносов прошел курсы двух классов – «фары» и «инфимы» (преподаватель Модест Ипполитович) – за полгода. Уже 15 июля 1731 года он был переведен в «грамматику», а в декабре – в «синтаксиму». Этот класс он также одолел всего за полгода. Другими словами, холмогорец Михайло проявил изрядные способности и очень быстро нагнал своих сверстников. За полтора года – четыре класса. Позднейшие историки академии упоминали это как своего рода «рекорд». Причем успехи Ломоносова нельзя объяснить хорошей базовой подготовкой. То есть, разумеется, о славянской грамматике и об арифметике у него к моменту поступления в академию уже было представление, но латыни и греческого (да и никаких других иностранных языков) он никогда прежде не изучал. Позднее латынь стала языком его научных работ, и под конец жизни он пользовался (по словам историка Августа Шлёцера) славой «первого латиниста не только в России». Греческий он изучил в достаточной степени, чтобы в оригинале читать классических писателей и критически оценивать славянский перевод Библии.
Историки любят подчеркивать, что важным методом обучения в академии считалась розга. Конечно – как во всех школах тогдашней Европы. Но все же были и другие, более изощренные методы воздействия на учеников. Например, допустивший ошибку носил на шее «калькулюс» – свернутый листок бумаги с латинским текстом, спрятанным в футляр. От этого позорного знака старались избавиться. А сделать это можно было, только поймав на ошибке другого. Выдвинувшихся учеников назначали «сенаторами», а неудачники должны были играть роль «плебса». Из числа «сенаторов» назначались «аудиторы» и «цензоры». Эти, говоря современным языком, «ролевые игры» развлекали юношей и создавали стимул для обучения. Одной розгой от русского человека первой половины XVIII века многого добиться невозможно: к физическому насилию он был привычен. К тому же это облегчало работу преподавателя: «сенаторы» проверяли письменные работы товарищей, следили за порядком в классе.
Одним из учителей Ломоносова в классах грамматики и синтаксиса был помянутый выше Тарасий Посников – единственный из преподавателей, не принадлежавший к духовенству и не желавший принимать монашество. Именно это закрывало ему дорогу к преподаванию в старших классах, несмотря на отличное образование: он семь лет был петровским «пансионером» в Париже. (Одного из его товарищей, «парижских студентов», Ивана Каргопольского, судьба позднее занесла на север, в Холмогоры, где он преподавал в школе при архиерейском дворе. Считается, что Ломоносов мог с ним встречаться и именно от него услышать о «Спасской школе».) Феофилакт (Кветницкий), у которого с июля 1732 года Ломоносов начал учиться в классе пиитики, монашество принял совсем недавно. Тем не менее и им начальство не всегда бывало довольно: преподавателю пиитики случалось являться в классы в «не совсем исправном» (общепринятый эвфемизм), то есть попросту в нетрезвом виде.
Но преподавал он, видимо, неплохо. Как раз в 1732 году Кветницкий сам написал учебник по своему предмету. Поэзию Кветницкий определяет как «искусство о какой бы то ни было материи трактовать мерным слогом с правдоподобным вымыслом для увеселения и пользы слушателей».
Учебник делился на две части – «Общую» и «Частную» («прикладную») пиитику. В первой главе «общей» пиитики Кветницкий защищает право поэта на вымысел и пытается определить природу этого вымысла. «Поэтически вымышлять – значит находить нечто придуманное, то есть остроумное постижение соответствия между вещами несоответствующими». Если это изящное барочное определение и принадлежало самому Феофилакту – структура учебника в любом случае была традиционной. О пиитическом вымысле толкует в первой части своего учебника «Пиитики» (написанного в 1705 году) сам Феофан (Прокопович).
Во второй части Кветницкий касается украшений поэтической речи – тропов (таких, как метафора, метонимия и т. д.) и фигур. В этой части филологическая наука довольно консервативна: современные ученые пользуются теми же терминами, которые были в ходу в России еще триста, а в Европе – и пятьсот лет назад, и в тех же значениях. Третья часть посвящена латинской версификации, системе стоп, размерам античного стиха (ямб, трохей, дактиль, анапест), проблемам поэтического стиля, а также классификации стихов по родам и видам. Без такой классификации схоластическая ученость обойтись не могла. Кветницкий классифицировал стихи по «материи» (героический, эпический, буколический, комический и др.), по именам употреблявших их поэтов (сапфический, пиндаров и др.), по числу слогов в строке, по форме стопы.
Частная, или прикладная, пиитика состояла из отдельных глав, посвященных наиболее распространенным видам поэзии. При этом семь из двадцати глав относились к «куриозным» стихам, столь распространенным в эпоху барокко («фигурным» – в форме чаши или креста, «кабалистическим» стихам – со множеством взаимно противоречащих смыслов, палиндромам и т. д.). Последняя глава посвящена была поэзии на «славянском» языке. Помимо языка, отличие ее от латинской заключалось, как отмечал преподаватель, в отсутствии деления строки на стопы и в наличии рифмы. В остальном же – никакой разницы: «…эпиграммы, элегии, оды, сцены, эклоги, сатиры и прочее не менее увлекательно, как и изящно могут писаться также и славянским стихом».
Такой либеральный взгляд на возможности «простонародного» языка был для средневековой схоластики не очень обычен. Особенно если учесть, что на практике-то особенно выдающихся стихов на «славеноросском» языке все еще не существовало. Но не надо забывать, что в России церковнославянский язык был языком богослужения и утверждение его возможностей было (особенно на Украине и в Белоруссии) важным аргументом в споре с католиками. Но сам Феофилакт наверняка жил в мире классической латинской поэзии. В своем руководстве он упоминает имена Вергилия, Овидия, Ювенала, Горация, Марциала. Без сомнения, стихи этих поэтов звучали на уроках и заучивались наизусть. Много и плодотворно читал их конечно же и Ломоносов. Изучая греческий, он, должно быть, пробовал читать Гомера, Пиндара и, может быть, Анакреона.
Сложнее – с новыми европейскими поэтами: ведь новым языкам в академии не учили. Прокопович в своем учебнике поминает Торквато Тассо и Якопо Саннадзаро – классиков итальянской поэзии эпохи Ренессанса. Но скромный Феофилакт Кветницкий в Италии не бывал… Скорее всего, до него и его учеников могла дойти лишь новолатинская и, возможно, польская поэзия. Последняя уже сделала к тому времени немалые успехи. Творчество таких выдающихся польских лириков ренессансной и барочной эпохи, как Миколай Рей, Ян Кохановский, Себастьян Фабиан Кленович, Миколай Семп Шажинский, Ян Морштын и другие, было конечно же хорошо известно Симеону Полоцкому да и многим его последователям и во многом служило для них образцом. Во всяком случае, русский стихотворный канон XVII века был, как уже сказано выше, целиком скопирован с польского.
Конечно же юный Ломоносов читал все, что мог прочитать в стихах на «славеноросском» языке. Надо сказать, что со времен Симеона Полоцкого изменилось очень немногое. Многочисленные последователи придворного поэта царя Алексея не обладали его скромными, но несомненными достоинствами – даром рассказчика, фантазией, высоким простодушием…
Правда, появились новые жанры. В их числе были, в частности, канты. В современном литературоведении «кантами» называют вообще любые рифмованные, силлабические или (впоследствии) силлабо-тонические стихи XVIII века, предназначенные для вокального исполнения и слагавшиеся вместе с напевом [19]19
Позднее для кантов стали использоваться «обычные» стихи, напечатанные в книгах или журналах, к которым подбирали напев, в том числе и многие стихи самого Ломоносова.
[Закрыть]. Благодаря рукописным песенникам такого рода словесность довольно широко распространилась среди грамотного городского населения. Ломоносов, по всей вероятности, впервые столкнулся с такими «стихами для пения» лишь в Москве. При Петре канты были, однако, и частью официального быта. Без исполнения стихов-песен панегирического содержания не обходилась ни одна официальная церемония. Само собой, и ученики Славяно-греко-латинской академии привлекались к их сочинению и исполнению. Так, при возвращении Петра-победителя в 1709 году из-под Полтавы у триумфальной арки на Никольской улице его встречали «спасские школьники» в белых одеждах и венках, с зелеными ветками в руках, распевавшие:
Преславная Российская земля веселися,
Царска держава скипетром хвалися,
Святым апостолом Петром дана тебе.
Царю Российску, на земле и в небе;
Благолепную царску диадиму
Восприял от руки Божией возложиму
На главу Цареву бессмертныя славы,
Да утверждаются Российския державы
Христовым каменем, названным опока,
Его же Бог посла к Риму с востока…
Наряду с официальными панегириками и произведениями духовного и дидактического содержания в Петровскую эпоху появилась и любовная лирика. В основном это были анонимные силлабические вирши и канты. Вот характерный пример таких стихов:
Радость моя паче меры, утеха драгая,
Неоцененная краля, лапушка милая
И веселая, приятно где теперь гуляешь?
Стосковалось мое сердце, почто так дерзаешь?
Вспомни, радость прелюбезна, как мы веселились
И приятных разговоров с тобой насладились.
Уже по этим трогательным, но неуклюжим строчкам видно, с каким трудом человек петровского времени искал верные слова для выражения своих чувств. То, о чем прежде не полагалось писать, да и говорить «книжными» словами, стало важнейшей частью дворянского общежития. Язык не поспевал за изменениями нравов. Противоречивость эпохи проявлялась и в том, что галантные вирши часто сопровождались непристойными акростихами.
Резко выделялись среди поэтов той поры инициаторы и герои государственного переворота 1730 года – Феофан (Прокопович) и особенно – Антиох Кантемир. Оба они были наделены природой великолепным ритмическим и языковым слухом, позволявшим ощупью находить верную дорогу при отсутствии языкового канона и при сомнительном, не соответствовавшем духу языка каноне версификационном. Грозный архиепископ Новгородский баловался стихами на разные случаи монастырской жизни – сочинял эпитафию скончавшемуся иеродиакону-мизантропу, славил отменное пиво, которое варит отец эконом… Все эти «пустячки» были не лишены своего рода тяжеловесного изящества. Вот, к примеру, стихотворение, явно сошедшее с пера не властного и сладкоречивого князя церкви, не придворного интригана и льстеца, а кабинетного ученого (в Феофане причудливо сочетались эти три лица) – «К сложению лексиков»:
Если в мучителския осужден кто руки,
ждет бедная голова печали и муки.
Не вели томить его делом кузниц трудных,
ни посылать в тяжкия работы мест рудных.
Пусть лексики делает: то одно довлеет,
всех мук роды один сей труд в себе имеет.
Князь Кантемир уже в совсем юном возрасте приобрел известность как сочинитель любовных «виршей» и как переводчик. В числе переведенного им были сатиры Буало. Под их влиянием в 1729 году молодой молдавский князь написал первую собственную сатиру – «На хулящих учения», разошедшуюся в списках и ставшую сенсацией. Прокопович приветствовал молодого друга:
Объемлет тебе Аполлон великий,
Любит всяк, иже таинств его зритель;
О тебе поют парнасские лики,
Всем честным сладка твоя добродетель…
В самом деле, можно понять то необычайное впечатление, которое произвела на современников первая русская сатира, – даже если учесть, что в ее раннем варианте стих Кантемира не так изыскан и гибок, как в окончательном, созданном несколько лет спустя. Сам жанр «высокой сатиры» был нов на русском языке. Образованные люди той поры, конечно, читали Ювенала (наверняка с ним был знаком и «спасский школьник» Ломоносов). Но проекция этого почтенного жанра на русские нравы времен Петра II и Анны Иоанновны выглядела, должно быть, ошеломляюще.
Вслед за ритуальной похвалой «младому монарху» под пером Кантемира возникали узнаваемые образы «хулителей учения». Тут и корыстолюбивый епископ в карете, в «ризе полосатой», считающий, что «ереси и расколы суть ученья дети», и щеголь, который «тужит, что бумаги много исходит на печатание книг, а ему приходит, что не в чем уж завертеть завитые кудри», и «пьяница, раздут с вина, чуть видя глазами, раздран, смраден, по лицу испещрен угрями», и дворянин-консерватор:
«Живали мы – говорит – не зная латине
Преж сего, хотя просты, лучше, нежли ныне.
В невежестве гораздо больше хлеба жали.
Переняв чужой язык, свой хлеб потеряли…
…Землю в четверти делить без Евклида смыслим,
Сколько копеек в рубле, без алгебры счислим…»
Язык этих стихов разительно отличался от языка и Симеона, и даже Феофана. Кантемир бесстрашно изгнал из своих стихов все грамматические и почти все лексические церковнославянизмы, впервые сделав славяно-русский язык – просто русским. Но этот язык не похож и на простодушное наречие массовой любовной лирики петровской поры. Никаких неловкостей, никаких варваризмов. Такого сочетания естественности и сочности оборотов с благородством тона русская муза не знала еще долго – вплоть до Державина.
И конечно, сам пафос его сатиры был близок сердцу немалого числа грамотных людей той поры. Начав с похвал Петру II, сатирик в конце почти прямо проговаривается: «Златой век до нашего не коснулся роду». Это наверняка намек на эпоху Петра Великого, которая для людей, рожденных в 1709 (как Кантемир) или в 1711 году (как Ломоносов), уже была окружена возвышенным ореолом. Казни не вспоминали – вспоминали победы, вспоминали не «всешутейший собор» с его безобразными забавами, а «академика и героя», покровительствовавшего просвещению. А теперь…
Наука ободрана, в лоскутах обшита,
Из всех знатнейших домов с ругательством сбита;
И в самой богадельне места не находит…
Сто лет спустя под пушкинским пером два зачинателя русской поэзии – «сын молдавского господаря» и «сын холмогорского рыбака» – горделиво станут рядом. Но в жизни Кантемир с Ломоносовым, скорее всего, никогда не встречались. Правда, домашним учителем Кантемира был выпускник Славяно-греко-латинской академии Иван Ильинский; сам поэт в отрочестве несколько лет посещал Спасские школы, совершенствуясь в древних языках. А в 1731 году он перевел на русский с латинского «Оду к императрице Анне Иоанновне на день ее рождения», сочиненную по-латыни учениками академии. Но Ломоносов в то время лишь начинал учить язык Горация. Да и слишком велика была социальная пропасть между гвардейским офицером, доблестным авантюристом, решающим судьбы государства, другом Феофана Прокоповича – и нищим школяром-первокурсником, еще толком не освоившимся в чужой ему столице. А уже год спустя молодой князь был – в награду за оказанные государыне услуги – назначен послом в Англии. Еще через шесть лет он получил новое назначение: в той же должности во Франции. Там, на родине Буало, его переводчик и последователь в молодом еще – даже по тем временам! – возрасте окончил свою жизнь.
Не встречался, вероятно, Ломоносов в эти годы и с другим своим предшественником, позднее какое-то время – почти другом, а потом, до конца жизни, злейшим врагом Василием Кирилловичем Тредиаковским (1703–1769), тоже бывшим (в 1722–1726 годах) учеником Спасских школ. Но наверняка переведенный им роман французского писателя Поля Тальмана «Езда в остров Любви» (1730) молодой Ломоносов прочел. Это был первый на русском языке любовный роман, даже не без фривольности, имевший сенсационный успех и вызвавший неодобрение церкви – трудно представить, что юные монастырские школьники не читали его из-под полы. Сам Тредиаковский в письмах советнику Академии наук Шумахеру (в нашей книге это имя будет еще много раз упомянуто) так описывал оказанный ему прием: в то время, как одни наперебой расхваливают его книгу, «повсюду меня разыскивают и просят у меня оную», другие «почитают меня первым совратителем юношества российского, тем паче, что допрежь сего не ведало оно тех прелестей и сладкого тиранства, кое любовь причиняет…». Это была слава! Увы, спустя пятнадцать-двадцать лет Тредиаковский, измученный насмешками, будет скупать и уничтожать этот свой ранний опыт. Так быстро все менялось в русской литературе той поры.
«Езда в остров Любви» была непохожа на роман в привычном для нас понимании. Это было аллегорическое сочинение, жеманное и несколько тяжеловесное, как требовал тогдашний вкус. «Отплытие на остров Цитеру», на остров Любви, – это был любимый сюжет Антуана Ватто и других французских живописцев эпохи рококо. Под пером Тальмана и Тредиаковского любовники перемещаются из одной области «острова Любви» в другую. Долго пребывая в «местечке, которое называется Малые Прислуги», «где другого ничего не видно, как только что везде любовные потехи», однако «все с пристойностью удивительной там чинится», посетив замок Искренности, миновав пустыню Разлуки, они наконец добираются до замка Прямые Роскоши. Олицетворенные Жестокость, Почтение, Предосторожность, Ревнивость, Рок чинят им всяческие препятствия. В конце концов красавица Аминта покидает героя, но он утешается, ухаживая за двумя другими красавицами – Сильвией и Ирисой. Чувства, которые герой испытывает к ним, характеризуются им как Глазолюбие или Честное Блядовство. Звучит довольно забавно, но Василий Кириллович героически пытался найти подходящие для выражения новых чувств русские слова… Конечно, не всегда ему улыбалась удача. Однако если не в самом романе, то в переведенных Тредиаковским стихах из «Езды в остров Любви» есть что-то очень живое и обаятельное, привлекающее по сей день:
В сем месте море не лихо,
Как бы самый малый поток.
А прохладный зефир тихо,
Дыша от воды не высок,
Чинит шум приятный весьма
Во игрании с волнами.
И можно сказать, что сама
Там покоится с вещами
Натура, даря всем покой…
Был в тогдашней Москве по крайней мере еще один талантливый поэт, с которым Ломоносов в молодые годы теоретически мог общаться лично. К сожалению, имя его ныне помнят лишь специалисты. Неизвестны даже годы его жизни и его отчество. Петр Буслаев (так звали этого человека) где-то на рубеже 1730-х закончил Славяно-греко-латинскую академию и принял сан дьякона в Успенском соборе в Москве. Дальше дьякона высокоученый молодой человек не продвинулся, да и тот сан сложил с себя, овдовев. В 1755 году его уже не было в живых [20]20
Все эти сведения известны от Тредиаковского, учившегося в Спасских школах вместе с Буслаевым и высоко ценившего его талант.
[Закрыть]. Единственное известное произведение Буслаева – «Умозрителство душевное описанное стихами о преселении в вечную жизнь… Марии Яковлевны Строгоновой…» – написано, по-видимому, в 1733-м и напечатано в 1734 году. Это была погребальная поэма на смерть покровительницы, вдовы знаменитого купца и фабриканта, первым из Строгановых (Строгоновых) получившего дворянство [21]21
До этого Строгановы носили специально для них придуманный титул «именитых людей».
[Закрыть]и баронский титул. Поэма начинается описанием видения, посещающего умирающую баронессу и «предстоящих»:
…показался красен человеков паче,
Властительно блистая, как бог [22]22
«Бог» у Буслаева везде со строчной.
[Закрыть], не иначе;
В свет очам ненасытный оболчен был красно,
Сладко было нань зрети, с радостью ужасно.
Тело ж все было в крови, как от мук недавно:
Пробиты руки, ноги и бок виден явно.
Однакож славы сие не отымало,
Но любовь божественну казало немало,
Очи являли милость, лице же все радость,
Весь он был желание, весь приятна сладости.
Затем являются «Небесна Царица» («Облачена вся в солнце, луна под ногами, на голове ж корона царская с звездами») и множество святых. И наконец:
Пламенновидны силы крест Христов казали,
Тернов венец и ужи, чем Христа вязали,
Трость, копие и гвозди – страстей инструменты,
От чего трепетали света элементы.
Поэма Буслаева показывает не только его собственный незаурядный талант, но и ту сравнительно высокую поэтическую культуру, которую прививали в Спасских школах. Сохранились образцы стихов, которые в качестве учебных заданий сочиняли ученики – на «славеноросском» языке и по-латыни. Вот, скажем, пример рацеи, стихотворного приветствия, в данном случае к Рождеству:
Кий язык может молчать, как родилося Слово
От Пречистыя Девы? Что есть чудо ново;
Слышно ль, чтоб неорана земля плод носила:
А Дева незамужна Отрока родила,
Чему с родом народа Ангели дивятся,
А паче темные дуси трепещут, боятся.
Божия Слова Христа ныне нам рожденна
О Его ж рождестве вся ликует вселенна,
Паче ж вам, благородие, прошу веселиться,
Жив лета Мафусаила, на небе воцариться.
Эти вполне грамотные и не лишенные выразительности силлабические стихи мог написать и Буслаев, и Ломоносов, и кто-то другой. Сохранилось, однако, одно учебное стихотворение, точно принадлежащее перу Ломоносова. Это – самое раннее известное нам произведение поэта и ученого (датировать его надо, вероятно, 1732 годом) – «Стихи на туесок»:
Услышали мухи
Медовые духи,
Прилетевши сели,
В радости запели;
Едва стали ясти,
Попали в напасти,
Увязли бо ноги.
Ах! плачут убоги,
Меду полизали,
А сами пропали.
«Туесок (туес)», – согласно Словарю Даля, – на северном и сибирском диалектах «берестяная кубышка, с тугой крышкой и скобкой или дужкой в ней». Стихи эти, написанные во искупление какого-то проступка (зная Ломоносова, можно предположить – скорее, дисциплинарного, чем учебного), для снятия калькулюса, были одобрены Кветницким, написавшим на рукописи – «Pulchre» («Прекрасно»), Может быть, в стихотворении содержится намек на сущность проступка «спасского школяра»; может быть, «туесок» здесь – футляр от калькулюса. Точно можно сказать одно: это не единственное стихотворение, написанное Ломоносовым в 1732–1735 годах. По его собственному свидетельству, за успехи в русском и латинском стихотворчестве он был прозван в академии «Вергилием». Подобные гордые прозвища также были формой поощрения учеников.







