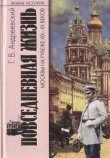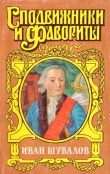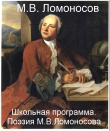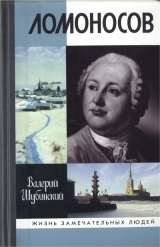
Текст книги "Ломоносов: Всероссийский человек"
Автор книги: Валерий Шубинский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 37 страниц)
В споре Тредиаковского с Сумароковым Ломоносов сперва держал нейтралитет. Но это было чуждо его характеру и долго продолжаться не могло. Уже в начале 1750-х годов он ввязался в спор. В это время из-под его пера вышли стихотворения, в которых он вспоминал свои прежние научные разногласия с Тредиаковским. Первое стихотворение – «На сочетание стихов российских» – посвящено давним спорам о чередовании мужских и женских рифм. Споры эти давно минули, Тредиаковский признал правоту Ломоносова, но тому почему-то необходимо было обозначить свое торжество – ценою унижения противника. Для этого он перелицевал употребленный некогда Василием Кирилловичем образ «европской красавицы», которую венчают со столетним арапом:
Я мужа бодрого из давных лет имела,
Однако же вдовой без оного сидела.
Штивелий уверял, что муж мой худ и слаб,
Бессилен, подл, и стар, и дряхлой был арап;
Сказал, что у меня кривясь трясутся ноги
И нет мне никакой к супружеству дороги.
Я думала сама, что вправду такова,
Не годна никуда, увечная вдова.
Однако ныне вся уверена Россия,
Что я красавица, Российска поэзия,
Что мой законный муж завидный молодец,
Кто сделал моему несчастию конец.
До поры до времени Ломоносов, видимо, оставил этот выпад у себя в столе и не пустил его по рукам. Второе стихотворение, написанное в ноябре 1753 года, посвящено полемике из-за окончаний прилагательных. Это стихотворение Ломоносова и ответное послание Тредиаковского – замечательный пример того, как чисто научная дискуссия между специалистами может переходить в бытовую брань.
Вот Ломоносов:
Искусные певцы всегда в напевах тщатся,
Дабы на букве А всех доле остояться;
На Е, на О притом умеренность иметь;
Чрез У и через И с поспешностью лететь:
Чтоб оным нежному была приятность слуху,
А сими не принесть несносной скуки уху.
Великая Москва в языке толь нежна,
Что А произносить за О велит она.
В музыке что распев, то над словами сила;
Природа нас блюсти закон сей научила.
Без силы береги, но с силой берега,
И снега без нее мы говорим снега.
Довольно кажут нам толь ясные доводы,
Что ищет наш язык везде от И свободы.
Или уж стало иль; коли уж стало коль;
Изволи ныне все везде твердят изволь.
За спиши спишь, и спать мы говорим за спати.
На что же, Трисотин, к нам тянешь И некстати?
Напрасно злобной сей ты предприял совет,
Чтоб, льстя тебе, когда российской принял свет
Свиныи визги вси и дикии и алый
И истинныи ти, и лживы и кривым.
Языка нашего небесна красота
Не будет никогда попранна от скота.
От яду твоего он сам себя избавит
И вред сей выплюнув, поверь, тебя заставит
Скончать твой скверной визг стонанием совы,
Негодным в русской стих и пропастным увы!
Строки про «сову» были особенно обидными: именно так («совой») звали Тредиаковского за его большие круглые глаза, которые хорошо видны на портретах. Над Сумароковым же смеялись из-за его огненно-рыжих волос, которые, впрочем, чаще всего, по моде того времени, скрывал пудреный парик, и из-за картавости.
Ломоносов употребил здесь прозвище «Трисотин» от данного Тредиаковскому Сумароковым «Тресотиниуса». Поэтому Василий Кириллович (все еще не считавший Ломоносова своим врагом) решил, что анонимное стихотворение принадлежит тому же перу, что и пасквильная комедия. В длинном ответном послании он яростно обличает «рыжую тварь»:
Пусть вникнет он в язык славенский наш степенный,
Престанет злобно врать и глупством быть надменный…
…Не лоб там, а чело; не щеки, но ланиты;
Не губы и не рот, уста там багряниты;
Не нынь там и не вал, но ныне и волна,
Священна книга вся сих нежностей полна.
Но где ему то знать? Он только что зевает,
Святых он книг, отнюдь, как видно, не читает.
За образец ему в письме пирожный ряд,
На площади берет прегнусный свой наряд,
Не зная, что писать слывет у нас иное,
А просто говорить по-дружески – другое…
…У немцев то не так, и у французов тож:
Им нравен тот язык, что с общим самым схож,
Но нашей чистоте вся мера есть славенский,
Не щегольков, ниже и грубый деревенский.
Тредиаковский переводит разговор с грамматических частностей на принципиальные вещи, утверждая свою концепцию поэтического языка, чуждую и Ломоносову, и Сумарокову. Однако удержаться на этой высоте он не может и сразу же переходит к выяснению личных отношений и к затейливой брани:
Ты ж, ядовитый змий, или, как любишь, змей,
Когда меня язвить престанешь ты, злодей!..
…Поверь мне, крокодил, поверь, клянусь я Богом!
Что знание твое все в роде есть убогом.
Завершает Тредиаковский свое послание так:
Когда по-твоему сова и скот уж я,
То сам ты нетопырь и подлинно свинья.
Если Ломоносов так полемизировал с Тредиаковским и если последний даже путал его с Сумароковым, значит ли это, что «наших дней Мальгерб» и автор «Эпистолы» по-прежнему были союзниками?
Нет, уже не были. Как раз осенью 1753 года произошли события, навсегда положившие конец дружбе между Ломоносовым и Сумароковым. Но литературная война Ломоносова и Сумарокова – это уже нечто большее, чем словесная дуэль двух поэтов. За каждым из них к середине 1750-х годов уже стояла собственная школа, верная гвардия учеников и приверженцев. Кроме того, оба поэта были к тому времени вхожи в круги, определявшие государственную политику. И их спор был, прямо или косвенно, связан не только с борьбой литературных направлений, но и с социально-политической историей России.
Потому, прежде чем переходить к дальнейшим литературно-батальным зарисовкам, – необходимо описать «диспозицию».
5
Первые подражатели у Ломоносова появились уже в середине 1740-х годов. Одним из них был Иван Голеневский (1723–1786), который в ранней юности стал певчим придворного хора и прослужил в этом качестве больше четверти века. В 1769 году уже немолодому певчему, по его просьбе, был дан первый классный чин (коллежского регистратора) и разрешено было определиться на гражданскую службу; в конце жизни он был судьей по мелким делам в Москве. Голеневский как поэт дебютировал, воспев (параллельно с Ломоносовым и в его стиле) свадьбу Петра Федоровича и Екатерины Алексеевны. Своего голоса у него не было, но стихотворческой культурой он превосходил большинство современников. Однако почему-то он не пользовался успехом: может быть, из-за своего непочетного общественного положения.
Но большинство поэтов ломоносовской школы составили студенты первого выпуска Академического университета, который в 1748 году все же начал работать не только на бумаге. Поскольку гимназия по-прежнему никого пригодного для дальнейшего обучения дать не могла, тридцать абитуриентов были, по уже сложившейся традиции, набраны в Славяно-греко-латинской академии и в двух семинариях (Новгородской и Санкт-Петербургской, существовавшей при Александро-Невской лавре). Ломоносов был одним из инициаторов возобновления университетских занятий, но отбором студентов ведал Тредиаковский, а ректором был назначен другой ломоносовский соперник – Миллер [85]85
Подробнее см. в Главе восьмой.
[Закрыть]. В обязанности Ломоносова в основном входило обучение студентов химии. Но некоторые из них стали его учениками и в стихотворчестве.
Первым следует назвать Николая Никитича Поповского (1730–1760). Сын священника из храма Василия Блаженного, он начал свое образование в Спасских школах и успел добраться до «философии». Прибыв в Петербург, юный Поповский в скором времени зарекомендовал себя лучшим образом, проявив особую склонность к гуманитарным наукам [86]86
В математике и философии он выказал на экзамене весной 1750 года лишь «посредственные успехи».
[Закрыть]и к стихотворчеству. Зимой 1751 года он написал эклогу, которая вызвала восторг Ломоносова. Сохранилось лишь ее начало:
Ярившийся Борей раскрыл свой буйный зев,
И дхнул он хладностию те места прекрасны,
Где Флора, истощив свои труды ужасны,
Пустила по лугам гулять прелестных дев.
Угрюмы облака и тучи вознеслись,
Покрылися поля зеленые снегами
С растущими на них различными цветами,
И белизною все с уныньем облеклись.
Пустился с встока лед по невским быстринам,
Спиралися бугры, вода под ним кипела
И, с треском несшися в морской залив, шумела,
Крутятся все струи крестами по холмам.
Замечательно, как условный пейзаж двух первых строф (эту условность, однако, русская литература лишь начала осваивать) сменяется в третьей строфе пластически точной и выразительной картиной осеннего наводнения на Неве. Разумеется, дальше, как и положено в эклоге, речь шла о страданиях пастушка Тирса, разлученного с прекрасной Клариссой.
В июне 1751 года Поповский вновь держал экзамен. Его знания «в словесных и философских науках» и стихи на русском и латинском языках получили высокую оценку, и ему предложено было продолжать обучение, «чтобы со временем быть стихотворцем или оратором Академии». С этих пор Ломоносов занимался с ним индивидуально. В феврале 1753 года он ходатайствовал о том, чтобы Поповского «отличить от прочих студентов чином и жалованием и отделить квартирою от их общежития, чтобы он, с хорошими людьми общаясь, привык к пристойному обхождению, ибо между студентами, которые пристойного воспитания не имели и для своей давней фамилиарности не без грубостей поступают, учтивых поступков научиться нельзя». Видимо, была и другая причина, чтобы хлопотать об отдельном жилье для Поповского: он, говоря попросту, «стучал» на товарищей по общежитию начальству, и товарищи относились к нему соответственно.
Еще будучи студентом, Поповский изучил непопулярный в то время английский язык и перевел с него знаменитую поэму Александра Попа (что должно было дать повод для каламбуров) «О назначении человека». Постепенно Ломоносов перепоручил Поповскому опостылевшую ему работу вроде перевода стихов к иллюминациям и фейерверкам. По окончании курса Поповского назначили «конректором» Академической гимназии (ректором был Никита Попов). Вскоре, с основанием Московского университета, для него открылись широкие перспективы. Сын священника церкви Василия Блаженного вернулся в Первопрестольную, где сперва возглавлял университетскую гимназию, а в 26-летнем возрасте получил звание профессора элоквенции. Кроме чтения лекций, он писал оды, переводил стихи Горация и педагогические труды Локка… Его помнили и спустя полвека после смерти; но сейчас его имя известно лишь специалистам.
Зато имя другого ломоносовского ученика, Ивана Семеновича Баркова, знакомо всем мало-мальски просвещенным россиянам. Под этим именем два с лишним столетия ходили рукописные сочинения, к которым сам Иван Семенович, по большей части, не имел ни малейшего отношения. Начало биографии Баркова было таким же, как и у Поповского: сын священника, семинарист (в Петербурге), потом студент (шестнадцатилетний Барков был болен, когда экзаменовали учеников лаврской семинарии; поправившись, он лично явился к Ломоносову и попросил испытать его). Но если Поповский в юности был отличником-карьеристом, а позднее стал образцом респектабельного молодого ученого, то его товарищ с самого начала свернул в другую сторону.
Сперва он выделялся среди студентов только вспыльчивым и строптивым нравом. Наказанный вместе с другими студентами за мелкую провинность, он врывался домой к ректору Крашенинникову, кричал на него, требуя справедливости, хлопал дверью. Когда-то и юный Ломоносов вел себя так же… Но уже 1 апреля 1751 года с Барковым произошла первая большая неприятность. В пьяном виде его «взяли под караул», и он не нашел ничего лучше, как крикнуть «слово и дело». Человека, произнесшего эти сакраментальные слова, вели, как известно, не на съезжую, а в Тайную канцелярию. Там студента-гуляку продержали две недели, после чего, выяснив, что никаких государственных тайн он не знает, выпустили. Грозный аттестат предупреждал Баркова, что «ежели впредь он явится в пьянстве или худых каких поступках, тогда жестоко наказан и отослан будет в матросскую службу навечно». Но Барков не исправился и в мае того же года был исключен из числа студентов и назначен наборщиком Академической типографии. Правда, ему, как способному юноше, разрешено было посещать лекции, а в типографии работать только во внеучебные часы.
Затем он был определен в копиисты Академической канцелярии. В этом качестве он состоял при Ломоносове, переписывал его труды, в то же время обучаясь словесным наукам. Лишь в тридцать лет, после того как его ода Петру III имела успех при дворе, Барков был повышен до переводчика. В указе графа Разумовского было отмечено, что он «оказал изрядные опыты своего знания… и при том обещался и в поступках себя совершенно исправить». Барков был в самом деле весьма образованным человеком и плодотворно работал в академии. Он очень качественно (по критериям той эпохи) переводил сатиры Горация и басни Федра, редактировал первое издание стихов Кантемира, восемнадцать лет пролежавших под спудом, когда Тауберт по каким-то своим причинам решил их наконец предать тиснению. Он составлял учебники по истории, готовил к печати летопись Нестора. Но «в поступках» он ничуть не изменился; должно быть, его пьяные выходки досаждали многим, и лишь покровительство Ломоносова заставляло терпеть их. Когда же Ломоносов умер, Барков в 1766 году был изгнан со службы. Можно лишь гадать, чем жил этот «проклятый поэт» XVIII века, кабацкий завсегдатай, в последние два года. В 1768 году он скончался, как утверждают – покончил с собой, оставив записку: «Жил грешно, а умер смешно».
Славу Баркову принесли «срамные» стихи, вошедшие в рукописный сборник «Девичья игрушка». Сам Иван Барков был составителем этой книги, в которую вошли как его собственные стихотворения, так и неудобные к печати произведения поэтов его кружка, например Андрея Нартова-младшего (сына механика и советника Академии наук), и даже шаловливые опусы некоторых важных персон, например статс-секретаря Адама Олсуфьева. Это не «порнография» и уж тем более не «эротика». Большая часть «Девичьей игрушки» – образец чисто филологического юмора. Пародийная перелицовка высоких жанров, которая вполне допускалась классицистской эстетикой, здесь доведена до крайнего предела. В ход идут чуть ли не все формы поэзии XVIII века. Тут и торжественная ода, и трагедия, и басня, и даже рондо. Темой каждого из этих произведений у Баркова чаще всего становится… скажем так – физическая любовь в ее самых простодушных и элементарных формах. Никаких эвфемизмов, все называется собственными именами. Обсценная лексика в этом вывернутом наизнанку мире занимает место торжественных славянизмов и забавно контрастирует с одической патетикой. Трагические герои расиновским александрином и с соответствующим пафосом обсуждают вопросы, которые в наши дни стали темой специальных сексологических пособий. Постепенно этот мир приобретает вполне сюрреалистический характер. Вместо мужчин и женщин в нем действуют ожившие гениталии… Читать Баркова очень смешно, но в его пафосе есть какое-то заражающее и пугающее разрушительное начало. «Тряхнем сыру землю с горами, тряхнем сине море…» В некоторых стихотворениях возникают образы того мира, в котором проходила жизнь люмпен-пролетария умственного труда. Кабаки, где «дружатся, бьются, пьют, поют», «врут про Фому и про Емелю» мелкие подьячие, где дерутся на кулачках «фабричны храбрые бойцы»…
Человек социального дна, изгой, Барков был притом полон достоинства, насмешлив, самоуверен и дерзок. Пушкин сохранил в своем «Table-talk» несколько анекдотцев о его стычках с Сумароковым:
«Никто не умел так сердить Сумарокова, как Барков. Сумароков очень уважал Баркова как ученого и острого критика и всегда требовал его мнения касательно своих сочинений. Барков, который обычно его не баловал, пришел однажды к Сумарокову: „Сумароков великий человек! Сумароков первый русский стихотворец“. Обрадованный Сумароков велел тотчас подать ему водки, а Баркову только того и хотелось. Он напился пьян. Выходя, сказал он ему: „Александр Петрович, я тебе солгал: первый русский стихотворец – я, второй Ломоносов, а ты только что третий“. Сумароков чуть его не зарезал».
«Барков заспорил однажды с Сумароковым о том, кто из них скорее напишет оду. Сумароков заперся в своем кабинете, оставя Баркова в гостиной. Через четверть часа входит Сумароков с готовой одою и не застает уже Баркова. Люди докладывают, что он-де ушел и приказал сказать Александру Петровичу, что-де его дело в шляпе. Сумароков догадывается, что тут какая-то проказа. В самом деле, видит он на полу свою шляпу, и…»
Еще один университетский студент, Адриан Дубровский, автор поэмы «На ослепление страстями», которую некоторые литературоведы приписывали даже самому Ломоносову, и переводчик «Заиры» Вольтера, видимо, закончил свои дни, служа в мелкой должности при русском посольстве в Гааге.
Окружение Сумарокова составляли молодые люди совсем иного рода – выпускники Шляхетного корпуса, участники любительских спектаклей и сочинители песенок. И по общей образованности, и по поэтической культуре всем им было далеко до ломоносовских студентов. Зато это были светские люди, «петиметры», обладатели изящных манер. На это был все больший спрос. Среди этих молодых людей были Иван Шишкин, Павел Свистунов, Иван Елагин, Никита Бекетов. Теплов, вместе с Сумароковым, опекал этих начинающих поэтов-дворян, сочиняя музыку к их песенкам. Позднее, в 1759 году, он издал эти песенки в виде книги с непритязательным названием «Между делом безделье».
Борьба двух формирующихся поэтических школ с самого начала оказалась тесно связана с большой политикой. Дело в том, что еще в конце 1749-го или начале 1750 года профессор Ломоносов познакомился с неким юношей из хорошей семьи. Молодой человек захотел показать маститому мэтру свои стихотворческие опыты и взять у него несколько уроков поэтического искусства. Во всем этом не было бы ничего необычного, если бы этот молодой человек, Иван Иванович Шувалов, несколькими месяцами раньше не стал фаворитом императрицы.
Род Шуваловых был известен с XVI века. В петровское время служили государю два брата-тезки Иваны Максимовичи Шуваловы. Старший Иван Максимович был комендантом Выборга и при заключении Ништадтского мира участвовал в демаркации границы; младший, обычный гвардейский офицер, следа в истории не оставил. Два сына старшего Ивана Максимовича, Александр Иванович (1710–1771) и Петр Иванович (1711–1762), начинали службу при дворе камер-пажами в конце правления Петра I и при Екатерине I. Потом они долгие годы состояли при Елизавете Петровне. По воцарении же Елизаветы, коему Шуваловы активнейшим образом способствовали, на них стали как из рога изобилия сыпаться милости. Оба брата стали поручиками лейб-кампании (что соответствовало чину генерал-майора) и камергерами; пять лет спустя оба они были возведены в графское достоинство и в чин генерал-адъютанта. К этому стоит добавить многочисленные земельные владения в Лифляндии и все высшие ордена России. Петр Иванович, человек с коммерческой жилкой, выпросил себе монопольное право экспорта леса, сала, тюленьего жира, арендовал казенные металлургические заводы (а уральское железо высоко ценилось на мировом рынке), организовывал самые разные частно-казенные компании, от табачных до рыболовных, в которых имел свою долю. Свое положение он укрепил, женившись в 1742 году на фрейлине Мавре Егоровне Шепелевой – многолетней ближайшей подруге Елизаветы, женщине далеко не юной и не слишком привлекательной, но умной, цепкой и по-своему даровитой (в молодые годы она не чуждалась, между прочим, и литературного творчества).
Но Шуваловым хотелось не только денег: они мечтали о власти. Вскоре они ее получили. В 1747 году умер Андрей Ушаков, престарелый начальник зловещей Тайной канцелярии. Александр Шувалов был назначен на его место. В то время как старший брат возглавил «спецслужбы», Петр Иванович в чине конференц-министра и генерал-фельдцейхмейстера курировал армию, экономику и финансы. В его ведении находилась Артиллерийская канцелярия. Талантливый изобретатель, Петр Шувалов предложил два новых типа орудий – так называемые «единороги» и «секретные гаубицы», которыми была перевооружена русская артиллерия. В Семилетней войне, пришедшейся на последние годы правления Елизаветы, они показали себя наилучшим образом. Ломоносов воспел их в послании к «его сиятельству генерал-фельдцейхмейстеру»:
Нам слава, страх врагам в полках твои огни;
Как прежде, так и впредь: пали, рази, гони…
…С Елисаветой Бог и храбрость генералов,
Российски грудь, твои орудия, Шувалов.
Не меньшую пользу России принес принятый по настоянию Шувалова закон об уничтожении внутренних таможен (1753), хотя недруги и утверждали, что конференц-министром, изобретателем и в то же время крупнейшим промышленником двигали в данном случае личные интересы. Чтобы компенсировать потери казны, пришлось чеканить неполновесную монету, что привело, естественно, к росту цен, – но в общем экономика России в шуваловское время скорее процветала, промышленность и торговля росли и, несмотря на огромные затраты двора, государству удавалось не залезать в долги.
Положение Шуваловых вызывало у многих зависть, а разнообразная деятельность Петра Ивановича временами доводила недоброжелателей до бешенства. Необходимо было закрепиться при дворе. И тут кстати оказался юный Иван Шувалов, сын Ивана Максимовича-младшего. Иван Иванович (родившийся в 1727 году) состоял, по милости влиятельных двоюродных братьев, камер-пажом при цесаревне Екатерине Алексеевне. Екатерина впоследствии вспоминала, что «вечно его находила в передней с книгой в руке… этот юноша показался мне умным и с большим желанием учиться… он был очень недурен лицом, очень услужлив, очень вежлив, очень внимателен и казался от природы очень кроткого нрава». Петр Иванович и Мавра Егоровна знали, что сорокалетней Елизавете наскучил ее ровесник, граф Разумовский. Молодая сила, красота и свежесть, которым бывший певчий был обязан браком с императрицей, ушли, а других достоинств у Алексея Разумовского не было. Шуваловы позаботились о том, чтобы их юный родич попался на глаза государыне во время паломничества в Троице-Сергиеву лавру. Видимо, благочестивую, но любострастную Елизавету легко было и в такие минуты привлечь совсем не душеспасительными забавами. 14 сентября 1749 года Иван Шувалов был назначен камер-юнкером императрицы. Это означало «официальный» фавор.
(Кстати, Ломоносову возвышение Шувалова в первый момент принесло одни лишь неприятности. Дело в том, что Михайло Васильевич отвечал за редактирование русских переводов статей для «Санкт-Петербургских ведомостей». В сентябре 1749 года всем, причастным к выходу газеты, был объявлен выговор за то, что, сообщая о производстве в камер-юнкеры Ивана Шувалова, они не указали его отчества. Отчества новоявленного фаворита просто еще никто не знал!)
Шуваловы торжествовали. «Бедный родственник», покорно выполняя волю своих влиятельных кузенов, стал любовником императрицы. Положение Шуваловых упрочилось еще больше. Разумовские, однако, нашли способ помешать счастью своих соперников: зимой 1750/51 года внимание Елизаветы привлек двадцатилетний Никита Афанасьевич Бекетов, недавний выпускник Шляхетного корпуса. Иван Шувалов на некоторое время отошел от двора. Как полагают, «Зима» Поповского представляет собой именно аллегорический отзыв на его опалу; во всяком случае, Ломоносов послал ее Шувалову в мае с письмом, содержащим прозрачную аллегорию: «Дай Боже, чтобы прежестокая минувшей зимы стужа и тяжелой продолжительной весны холод награжден был вам прекрасного лета приятной теплотою…» В самом деле, звезда Бекетова скоро закатилась. Коварный Петр Иванович Шувалов присоветовал юному щеголю крем для сохранения кожи, от которого у того выступили угри. По другим сведениям, Бекетова подвели его занятия поэзией. Никита Афанасьевич и его друг Иван Елагин разучивали свои свежесочиненные песенки с малолетними певчими придворного хора. Мавра Егоровна оговорила Бекетова перед императрицей, «дав дурное толкование» его дружбе с красивыми мальчиками. Иван Шувалов вернулся ко двору и до конца жизни Елизаветы был с ней неразлучен.
Так тихий юноша-книгочей стал всемогущим фаворитом. Больше, чем фаворитом: он был ближайшим помощником Елизаветы, представлял ее в Сенате, участвовал в решении важнейших государственных вопросов, особенно внешнеполитических. Он не занимал никаких официальных постов, демонстративно отказывался от них, утверждая, что «рожден без самолюбия безмерного, без желания честей и знатности», довольствовался чином генерал-поручика и придворным званием обер-камергера; но слово «Камергер» в последние годы жизни Елизаветы стало именем собственным: и высшие чиновники, иностранные послы хорошо понимали, о каком именно камергере идет речь, и для них не было секретом, насколько влиятелен этот мягкий и учтивый человек. Бывало, что больная императрица неделями не желала видеть никого, кроме Ивана Шувалова.
Наконец, он самостоятельно возложил на себя функции «министра просвещения» и за десять лет сделал (при участии и иногда по проектам Ломоносова) для образования и культуры в России больше, чем кто бы то ни был после Петра и до Екатерины. В сущности, он делал то, чем должен был заниматься, но не занимался Кирилл Разумовский. При этом он был (в отличие от своих двоюродных братьев) подчеркнуто бескорыстен. Впрочем, семейные доходы и подарки императрицы и так позволяли ему жить на самую широкую ногу.
Шувалов старательно учился у Ломоносова – собственноручно полностью законспектировал его «Риторику»! – но писать стихи так и не выучился. Он был начисто лишен не только таланта, но даже версификационных способностей. Вот самый известный образец его стихотворных опытов – стихи на собственный день рождения:
О, Боже мой, Господь, создатель всего света,
Сей день Твоею волею я стал быть человек.
Если жизнь моя полезна, продли ты мои лета,
Если ж та идет превратно, сократи скорей мой век…
Вирши нескладные, но чувства достойные и трогательные.
При чтении писем Ломоносова Ивану Шувалову невольно обращаешь внимание на гипертрофированную почтительность, с которой знаменитый ученый и писатель, зрелый человек обращается к «его превосходительству», к своему «патрону» – двадцатилетнему с небольшим человеку, еще без всяких заслуг. «Нет ни единого дня, в который я бы не поминал о вашей ко мне милости и ей бы не радовался». Уже Пушкину приходилось объяснять подобное поведение Ломоносова. Его слова стоит процитировать: «Дело в том, что расстояние от одного сословия до другого в то время еще существовало. Ломоносов, рожденный в низком сословии, не думал возвысить себя наглостию или панибратством с людьми высшего состояния (хотя, впрочем, по чину он мог быть им и равным). Но зато он мог за себя постоять и не дорожил ни покровительством своих меценатов, ни своим благосостоянием, когда речь шла о торжестве его любимых идей». К этому можно добавить, что Вольтер и французский философ-просветитель Гельвеций, лично от Шувалова никак не зависевшие, в своих письмах расточали ему не меньшие любезности, чем Ломоносов.
Пушкин ошибся лишь в том, что касается чина Михайлы Васильевича. Как профессор, он был приравнен к чиновникам всего лишь девятого класса – в котором состоял, кстати, и титулярный советник Пушкин; в 1751 году по ходатайству Шувалова он получил звание коллежского советника. Это был прыжок через два чина: теперь Ломоносов был почти в одном ранге с Шумахером, о чем не забывал последнему напомнить; и, что важнее всего, новый чин давал право на потомственное дворянство [87]87
Разница между коллежским советником Ломоносовым и генерал-поручиком Иваном Шуваловым составляла в это время три чина.
[Закрыть]. Годом раньше Михаила Васильевич был удостоен личной аудиенции у Елизаветы Петровны в Царском Селе – аудиенции, вдохновившей его на одну из лучших его од… Ломоносов дорожил и своим новым статусом, и возможностью бывать при дворе. Получая, как и другие профессора академии, приглашения на приемы, балы, машкерады, он (в отличие от многих своих коллег) не отвечал вежливым отказом, а являлся непременно с супругой. Наконец, 1 марта 1757 года Ломоносов стал советником Академической канцелярии. Отныне ничто в академии не решалось без его участия. Другими словами, за десять лет общественное положение Ломоносова выросло неизмеримо. В немалой степени он был обязан этим своему молодому меценату.
Внимательно вчитавшись в ломоносовские письма Шувалову, замечаешь, однако, что «нижайшие просьбы» ученого частенько звучат как инструкции. При всей своей резкости, Ломоносов, когда хотел, мог великолепно соблюдать внешний ритуал общения – но так, чтобы он оставался только ритуалом. «Предстатель муз» на деле был зачастую (по крайней мере, на первых порах) лишь исполнителем предначертаний своего почтительного и учтивого учителя. Последний же, и общаясь с вельможами, знал себе цену и при случае мог вежливо, но решительно одернуть «патрона». Да Шувалов и сам был слишком умен и благовоспитан, чтобы обходиться с прославленным ученым свысока… Ломоносовым он искренне восхищался и, судя по всему, вполне отдавал себе отчет в том, кем бы он мог стать, если бы не ломоносовские уроки, идеи и прожекты: просто хорошеньким наложником стареющей государыни, игрушкой в руках честолюбивых родственников. Ломоносов был почтителен в письмах – но вот как писал сам Шувалов Ломоносову: «Усердие больше мне молчать не позволило и принудило вас просить, дабы для пользы и славы Отечества в сем похвальном деле [88]88
В составлении «Российской грамматики».
[Закрыть]обще потрудиться соизволили и чтоб по сердечной моей охоте и любви к российскому слову был рассуждениям вашим сопричастен, не столько вспоможением в труде вашем, сколько прилежным вниманием и истинным доброжелательством. Благодарствую за вашу ко мне склонность, что не отреклись для произведения сего дела ко мне собраться…» Это что угодно, но не обращение высокомерного вельможи к покровительствуемому им образованному плебею.
Ломоносов и Шувалов сделали сообща немало. Но нет оснований сомневаться, что двух таких разных людей связывали не только общие дела, но и искренняя взаимная привязанность. Некоторые важные подробности детства и юности Ломоносова известны нам из писем «его превосходительству» Ивану Шувалову. А непринужденные и даже грубоватые шутки, которые Ломоносов временами, вдруг забывая все церемонии, отпускает в этих письмах, могли быть допустимы лишь в общении между друзьями.
У Шуваловых было много недоброжелателей: и Разумовские, и канцлер Бестужев-Рюмин, и генерал-прокурор князь Яков Шаховской, и двор цесаревича Петра Федоровича и цесаревны Екатерины Алексеевны (в это время не любящие друг друга и неверные друг другу супруги еще были политическими единомышленниками)… Союзниками же их были графы Воронцовы: Михаил Ларионович (1714–1767), с 1744-го вице-канцлер, сменивший в 1758 году Бестужева в качестве канцлера, и его старший брат Роман. Граф Михаил Воронцов был вторым, наряду с Шуваловым, «патроном» Ломоносова (хронологически – первым: его общение с ученым началось еще в середине 1740-х годов; ему был посвящен перевод «Вольфианской физики»). Муж Анны Карловны, урожденной Скавронской, двоюродной сестры Елизаветы, участник дворцового переворота 1741 года, он считался весьма влиятельным при дворе человеком.