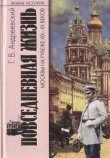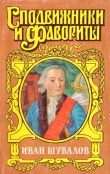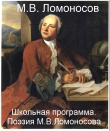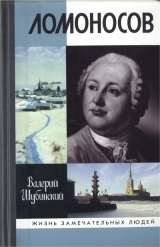
Текст книги "Ломоносов: Всероссийский человек"
Автор книги: Валерий Шубинский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 37 страниц)
За отсутствием других методов члены Синода обратились к литературной полемике.
В начале июля Ломоносов получил письмо, якобы посланное из Холмогор и подписанное именем Христофора Зубницкого. Письмо начиналось так: «Государь мой! Не довольно ли того к чести и награждению ума человеческого, что произведений оного не может остановить никакая дальность стран и никакое может подвергнуть опасности неизвестности, хотя бы кто нарочно скрывать оные старался? Как ни за дальную страну почитается в России отечество ваше, однако и тут сочинение, произошедшее от некоего стихотворца и названное Имн бороде обще от всех читается».
Но, по словам автора письма, «Имн» вызвал в Холмогорах всеобщее осуждение. «Мне не случилось слышать, что бы кто хотя мало в пользу сочинителя сказал; а все обще говорили, что такое беспутное сочинение от доброго человека, а тем паче от христианина произойти не может». Дальше приводится длинный монолог некоего «знакомца» автора письма, почтенного и доброго человека, который, прочитав «пашквиль», узнал автора, «будто бы по ступени Геркулеса». Вот что сказал этот благородный муж: «Лутшего де ничего нельзя ожидать от безбожного сумасброда и пьяницы. Недовольно того, что сей негодный ярыга, ходя по разным домам и компаниям, в разговоры употребляет всякие насмешки и ругательства закону нашему. <…> Что ж просто и собственно до бороды касается, то не думайте, господа, чтоб я толь ревностный оныя защитник был; я и сам держусь старой латинской пословицы, что не борода делает философа. Однако между бородой и бородой надлежит иметь различие. Расколщики наши… носят оную по упрямству, по предуверению и некоторому ложному надеянию в отношении спасения; а напротив того духовный чин наш носит оную по древнему церковному узаконению и обыкновению».
Ломоносова «знакомец» Зубницкого характеризует так: «Он столько подл духом, столько высокомерен мыслями, столько хвастлив на речах, что нет такой низости, которой бы не предпринял ради своего малейшего интереса, например для чарки вина; однако я ошибся, это – его наибольший интерес! <…> Не велик пред ним Картезий, Невтон и Лейбниц со всеми новыми и толь в свете прославленными их изысканиями; он всегда за лучшие и важнейшие свои почитает являемые в мир откровения, которыми не только никакой пользы отечеству не приносит, но еще напротив вред и убыток употребляя на немалые казенные расходы, а напоследок вместо чаемой хвалы и удивления от ученых людей заслуживая хулу и порицание, чему свидетелем могут быть „Лейпцигские комментарии“».
Все же не зря Ломоносов переводил «Вольфианскую физику» и посылал свой перевод знакомым архиереям. «Бородачи» больше не презирали современную науку: наоборот, они с почтением поминали имена Декарта (Картезия), Ньютона и Лейбница, а Ломоносова упрекали за недостаточное почтение к великим европейским ученым. Автор немецкого пасквиля тоже, кстати, обвинял Ломоносова в хуле на Ньютона и Лейбница. Ломоносов в самом деле не принимал лейбницевской монадологии, и у него были сомнения в универсальности ньютоновской механики.
Однако откуда обо всем этом вообще могли узнать члены Синода? И откуда могли они узнать о неодобрительном отзыве на научные работы Ломоносова, появившемся в 1754 году в журнале «Лейпцигские комментарии»? Вероятно, их информировал кто-то из коллег ученого по Академии наук – скорее всего, гуманитарий, который сам толком не понимал сути разногласий между естествоиспытателями.
Лишь в одном отношении «знакомец» Зубницкого готов был отдать Ломоносову справедливость: «Правда, что стихотворством своим, и то на одном русском языке мог бы он получить некотору похвалу, ежели б не помрачил оной пьянством и негодным поведением». Почтенный муж из Холмогор советует «сей же самой Имн переворотить и вместо бороды описать пьяную его голову со всеми ее природными свойствами».
Дальше следовал стихотворный текст под названием «Переодетая борода, или Имн пьяной голове». Как многие полемические произведения того времени, этот текст был построен очень незамысловато – по принципу «сам съешь». Полностью воспроизводится структура «Гимна бороде», повторяются даже многие рифмы.
Не напрасно он дерзает;
Пользу в том свою считает,
Чтоб обманом век прожить,
Общество чтоб обольстить
Либо мозаиком ложным,
Или бисером подложным,
Иль сребро сыскав в дерьме,
Хоть к ущербу всей казне.
Голова… <и т. д.>
Есть ли правда чтоб планеты
Нашему подобны свету,
Конче пьяниц так таких,
Нет и сумасбродов злых,
Веру чтоб свою ругали,
Тайны оных осмевали;
Естьли ж появятся тут,
Дельно в срубе их сожгут!
Голова… <и т. д.>
С хмелю безобразен телом
И всегда в уме незрелом,
Ты, преподло быв рожден,
Хоть чинами и почтен;
Но за пребезмерно пьянства,
Бешенства, обман и чванство
Всех когда лишат чинов,
Будешь пьяный рыболов.
Голова… <и т. д.>
«Переодетая борода…» была послана также в «Ежемесячные сочинения» к Миллеру и его соредактору Никите Попову и, кроме того, Тредиаковскому. Разумеется, автор «пашквиля» не рассчитывал всерьез на его публикацию в академическом журнале. Но он надеялся, что Миллер и Тредиаковский, у которых с Ломоносовым были свои давние счеты, не преминут распространить хулящие его стихи. В отношении Тредиаковского эти надежды вполне оправдались. Резонно предположить, что именно Тредиаковский, которого в молодости обвиняли в вольномыслии и чуть ли не в атеизме и который в 1750-е годы был склонен подчеркивать свое благочестие и сблизился с церковными кругами, как раз и был тем человеком, который информировал Синод об академических делах. Однако «Христофор Зубницкий» – явно какое-то другое лицо. И не только потому, что Василий Кириллович был одним из адресатов писем Зубницкого. Литературный стиль Тредиаковского легко узнаваем; «Переодетая борода…» и приложенные к ней письма написаны совершенно иначе. Едва ли, впрочем, автором был сам Сеченов или сам Кулябко: скорее, какой-нибудь молодой человек из их окружения, хорошо овладевший новым стихосложением. Но Ломоносов, вероятно, решил, что какое-то отношение к «пашквилю» Василий Кириллович иметь должен. И потому ответный удар он нанес именно своему давнему литературному противнику. Таким образом, конфликт с церковным руководством, который в конечном итоге мог повредить ломоносовским ученым начинаниям, изящно переводился в русло профессиональной полемики между двумя литераторами и филологами. Вероятно, именно такую цель преследовало послание Ломоносова «Христофору Зубницкому»:
Безбожник и ханжа, подметных писем враль!
Твой мерзкой склад давно и смех нам и печаль:
Печаль, что ты язык российской развращаешь,
А смех, что ты тем злом затмить достойных чаешь.
Наплюем мы на страм твоих поганых врак:
Уже за тридцать лет ты записной дурак;
Давно изгага всем читать твои синички,
Дорогу некошну, вонючие лисички;
Никто не поминай нам подлости ходуль
И к пьянству твоему потребных красоуль.
Хоть ложной святостью ты Бородой скрывался,
Пробин, на злость твою взирая, улыбался:
Учения его и чести и труда
Не можешь повредить ни ты, ни Борода.
Желая побольнее уколоть Тредиаковского, Ломоносов упомянул его несолидную «шутовскую» роль при дворе Анны Иоанновны и неуклюжие рифмы (синички – лисички, ходуль – красоуль) из его незапамятной давности стихов («Песенка, написанная еще дома перед отбытием в чужие края», откуда взята первая рифма, датируется 1726 годом!). Разумеется, Тредиаковский не мог оставить этот выпад без ответа. На сей раз он попытался продемонстрировать тонкую язвительность;
Цыганосов когда с кастильских вод проспится, —
Он буйно лжет на всех, ему кто ни приснится;
Не мало изблевал клевет и на меня,
Безчестя без причин и всячески браня.
Его не раздражал поныне я ни словом,
Не то чтоб на письме в пристрастии суровом.
Пусть так! Я в месть ему хвалами заплачу,
Я лаять так, как пес, и в правде не хочу.
Цыганосов сперва не груб, но добронравен,
Не горд, не самохвал, и в должностях исправен,
Цыганосов не зол, ни подлости в нем нет,
Непостоянства вдруг не зрится ни примет;
Цыганосов есть трезв, невздорлив и небешен,
Он кроток, он учтив, он в дружестве утешен;
Цыганосов притом разумен и учен,
Незнанием во всем отнюдь не помрачен;
Цыганосов всем вся, как дивный грамматист,
Как ритор, как пиит, историк, машинист,
Как физик, музыкант, художник, совершитель
Как правоты нигде в речах ненарушитель;
Цыганосов не враль, а стилем столь высок,
Что все писцы пред ним, как прах или песок;
Цыганосов своим корысти чужд рассудком,
К чухоночкам ему честь только есть побудкам,
Не хульник мужних жен, пронырством не смутник,
Не роет сверстным рва, а тем не наушник;
Цыганосов не плут, да правосерд и верен,
Чист в совести своей, всегда не лицемерен;
Цыганосов святынь любитель, в том не льстив,
Священства чтитель он и внутрь благочестив;
Цыганосов душой, как не ханжа, не ложен,
Благоговенья полн, и верою набожен;
Цыганосов толь благ, почтить коль не могу;
Цыганосов… цыть, цыть! вить похвалу я лгу.
Как и его оппонент, обиженный Тредиаковский обращается к «преданиям старины глубокой». «Кастильские воды» (вместо «кастальские») – опечатка, допущенная при первой публикации «Оды на взятие Хотина». Эта злосчастная опечатка, впрочем, на все лады обыгрывалась литературными противниками Ломоносова до самой его смерти. Что имеет в виду Тредиаковский, говоря о «чухоночках», неясно: едва ли в самом деле речь идет о любовных похождениях стареющего Михайлы Васильевича; скорее – о каком-то эпизоде тех давних лет, когда Ломоносов и Тредиаковский приятельствовали и были в курсе личной жизни друг друга. «Хульник мужних жен» – тоже намек на понятные только двум-трем людям обстоятельства: вероятно, Ломоносов что-то не то сказал о супруге Василия Кирилловича.
Полемика продолжалась еще некоторое время. То ли сам Ломоносов, то ли кто-то из его учеников и приверженцев (скорее всего, Барков) сочинил еще несколько памфлетов, высмеивающих «Трисотина», который «предерзостью своей ободрил бородачей», и нетерпимых церковников. Таким образом, в этой литературной дуэли последнее слово все же осталось за Ломоносовым.
9
В 1751 году Ломоносов выпустил двухтомное собрание сочинений в стихах и в прозе. В него вошло девять од Елизавете Петровне и одна Анне Иоанновне. За пределами книги, естественно, остались две оды несчастному Иоанну Антоновичу. Итого за двенадцать лет – двенадцать од, и это не считая «Вечернего» и «Утреннего размышления…», «Оды выбранной из Иова» и переложений псалмов. За последующие четырнадцать лет жизни Ломоносов написал всего шесть од. Все они созданы в связи с тем или иным официальным поводом и не содержат ничего принципиально нового в сравнении с ломоносовской высокой лирикой 1740-х годов – ни в содержательном, ни в формальном отношении. Последним подлинным шедевром Ломоносова в этом жанре стала «Ода, в которой ее величеству благодарение от сочинителя приносится за оказанную ему высочайшую милость в Сарском Селе августа 27 дня 1750 года». Речь идет об аудиенции, которой Ломоносов был удостоен благодаря «предстательству» Шувалова.
В начале этой оды Ломоносов описывает только создающуюся (при участии Растрелли, Чевакинского, Квасова и других зодчих) главную загородную императорскую резиденцию. Ломоносов первым открыл русской поэзии мир петербургских пригородных парков. Но напрасно мы стали бы искать в его стихах реалистических, пусть даже идеализированных описаний царскосельского и петергофского парков (как в державинских «Развалинах» или в пушкинских «Воспоминаниях в Царском Селе»). Пейзаж у Ломоносова, как, собственно, и у любого поэта XVIII века, – это совершенно абстрактные «луга, кустарники, приятны высоты», где шумит листва, благоухают цветы, текут ручейки, веют зефиры и т. д. Единственное, что по-настоящему останавливает взгляд Ломоносова, – это технические приспособления, преобразующие «натуру», например петергофские фонтаны:
…хитрость мастерства преодолев природу,
Осенним дням дает весны прекрасный вид
И принуждает верьх скакать высоко воду,
Хотя ей тягость вниз и жидкость течь велит.
Так же абстрактно, но по-своему выразительно описывается Сарское Село в оде 1750 года.
В средине жаждущего лета,
Когда томит протяжный день,
От знойной теплоты и света
Прохладна покрывает тень,
Где ветвьми преклонясь зелены,
В союз взаимный сопряженны,
Отводят влажные лучи.
Но коль великая отрада
И томным чувствам тут прохлада,
Как росу пьют цветы в ночи.
Эта строфа – лучший ответ тем младшим современникам Ломоносова, кто считал, что его перу чужда «нежность», что он не может передавать тонкие оттенки чувств. Во второй части оды Ломоносов, воодушевленный «милостью» императрицы, удостоившей его аудиенции, снова, как в оде 1747 года, прославляет «счастливые науки» и широкой кистью описывает предстоящие титанические труды:
Пройдите землю, и пучину,
И степи, и глубокий лес,
И нутр Рефейский, и вершину,
И саму высоту небес.
Везде исследуйте всечасно
Что есть велико и прекрасно,
Чего еще не видел свет…
Однако главные свершения Ломоносова-поэта в 1750–1760-е годы – это произведения иных жанров: «Письмо о пользе стекла» – образец дидактической поэмы в традициях, допустим, Александра Попа, «Петр Великий» – эпопея; к этому надо добавить дружеские послания (в основном тому же Шувалову) и довольно многочисленные «стихи на случай», очень часто восходящие к иноязычному оригиналу. Написал он даже одну идиллию – «Полидор», в связи с «избранием» его непосредственного начальника, Кирилла Разумовского, гетманом Украины [101]101
Идиллия, кстати, получилась несколько двусмысленной: днепровские нимфы и пастушки с радостью говорят о прибытии в их края прекрасного и добродетельного пастушка Полидора. Все бы хорошо, если бы молодому графу Разумовскому в самом деле не приходилось в отроческие годы пасти скот на Украине…
[Закрыть]. Изменился и стиль: поэт стремился теперь писать более сдержанно, логично, без развернутых метафор, смелых определений, пышных гипербол. Эпоха барокко уходила в прошлое.
Ломоносова, в отличие от Сумарокова и других поэтов-современников, не слишком привлекала роль «исправителя нравов». В его стихах не встретишь многословного изложения просветительских моральных прописей. Его Просвещение – это, прежде всего, развитие науки, изучение и технологическое переустройство мира. «Письмо о пользе стекла» содержит не призывы к добродетели, а увлеченное описание чудесных свойств обыденного, казалось бы, вещества. Описывая природные процессы и их исследования, Ломоносов переживает вдохновение, и его голос начинает звучать в полную силу. Таково, например, описание «рождения» стекла от брака огня и земли:
Внезапно черный дым навел густую тень
И в ночь ужасную преобразился день.
Не баснословного здесь ради Геркулеса
Две ночи сложены в едину от Зевеса:
Но Этна правде сей свидетель вечный нам,
Которая дала путь чудным сим родам.
Из ней разжженная река текла в пучину,
И, свет, отчаясь, мнил, что зрит свою судьбину!
Но ужасу тому последовал конец:
Довольна чадом мать, доволен им отец.
Прогнали долгу ночь и жар свой погасили,
И Солнцу ясному рождение открыли.
Но что ж от недр земных родясь произошло?
Любезное дитя, прекрасное стекло.
В 1756 году Ломоносов начал работу над эпопеей «Петр Великий», которая должна была, по идее, стать его главным поэтическим произведением. Ведь, согласно системе классицизма, именно эпическая поэма, созданная по образцу «Илиады», «Одиссеи» и «Энеиды», является вершинным поэтическим жанром. Но, как правило, чем ближе были эпики той поры к своему образцу, тем реже им улыбалась удача. У поэтов XVIII века гораздо лучше получались пародии на эпос. Никто, кроме специалистов, уже в XIX веке не читал «Генриаду» Вольтера, а его шутливая «Орлеанская девственница» – и ныне живое литературное явление. Так же обстоит дело и в русской поэзии.
Существовали разные мнения и о том, что может быть темой эпоса, и о том, как его писать. Тредиаковский, скажем, считал, что сюжет эпической поэмы должен быть непременно взят из античной мифологии. Он стремился точно воспроизвести античный гекзаметр средствами русского языка (тогда как Ломоносов, Сумароков и другие поэты той поры предпочитали в качестве русского эквивалента гекзаметра александрийский стих). Так написана им «Тилемахида» (1766), завершившая его творческий путь и навлекшая на него новые насмешки. Екатерина II заставляла своих придворных читать отрывки из этой поэмы вслух в наказание за нарушения этикета и другие мелкие проступки. Правда, последующие поколения были к «Тилемахиде» добрее: Радищев взял строку из нее эпиграфом к своей знаменитой книге, Дельвиг, который сам был мастером русского гекзаметра, находил в поэме Тредиаковского удачные места.
Но большинство русских поэтов искали темы для эпоса в отечественной истории. Кантемир начал (но не закончил) поэму «Петрида», а младший современник Ломоносова, Михаил Херасков, в своей пользовавшейся большим успехом «Россияде» воспел взятие Казани Иваном Грозным. В этом ряду находится и поэма Ломоносова.
Две первые части «Петра Великого», посвященные началу Северной войны – посещению Петром Архангельска и Соловецкого монастыря, осаде и взятию Шлиссельбурга, вышли в 1761 году и были встречены довольно холодно. Сумароков, разумеется, написал злобную эпиграмму – «эпитафию»:
Под камнем сим лежит Фирс Фирсович Гомер,
Который пел, не знав галиматии мер;
Великого воспеть он мужа устремился:
Отважился, дерзнул, запел, а осрамился,
Оставив про себе потомству вечный смех.
Он море обещал, а вылилася лужа.
Прохожий! Возгласи к душе им пета мужа:
Великая душа, прости вралю сей грех!
Фирс – это Терсит, отрицательный персонаж «Илиады».
Но и эпопеи Ломоносов не закончил, как не закончил он большей части начатых им трудов… Впрочем, Шувалов рассказывал, что это была лишь «проба», исполненная поэтом по его, Шувалова, просьбе, для представления императрице. Императрица вскоре умерла, Шувалов и Воронцов утратили свое влияние – стимула к продолжению работы над «Петром Великим» больше не было.
Еще одна сторона ломоносовского поэтического творчества в поздний период – анакреонтика.
От реального Анакреона (Анакреонта) Теосского (ок. 570–478 до н. э.), считавшегося мастером легкой лирики, простодушным певцом радости, легкого хмеля и безмятежной любви, сохранилось лишь несколько стихотворений и отрывков. Но спустя полтысячелетия, а то и больше, после смерти поэта был составлен сборник под названием «Анакреонтика», куда вошли анонимные стихотворения, написанные в «анакреонтическом духе». Именно их и переводили поэты XVIII–XIX веков, в том числе Кантемир и Ломоносов, в полной уверенности, что имеют дело с подлинными произведениями «Тииского певца». Первый образец анакреонтической поэзии героя нашей книги относится еще к марбургскому периоду [102]102
См. в Главе четвертой.
[Закрыть]. Очень изящное переложение из «Анакреонтики» содержится в «Кратком руководстве к красноречию»:
Ночною темнотою
Покрылись небеса,
Все люди для покою
Сомкнули уж глаза.
Внезапно постучался
У двери Купидон,
Приятной перервался
В начале самом сон.
«Кто так стучится смело?» —
Со гневом я вскричал.
«Согрей обмерзло тело, —
Сквозь дверь он отвечал. —
Чего ты устрашился?
Я мальчик, чуть дышу,
Я ночью заблудился,
Обмок и весь дрожу».
Неблагодарный Купидон ранил гостеприимного хозяина острой стрелой.
Другой образец ломоносовской анакреонтики относится уже к самому последнему периоду его творчества и может служить отличным примером поэтического переосмысления традиционных мотивов. Это «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф, когда я в 1761 году ехал просить о подписании привилегии для Академии, быв много раз прежде за тем же»:
Кузнечик дорогой, коль много ты блажен,
Коль больше пред людьми ты счастьем одарен!
Препровождаешь жизнь меж мягкою травою
И наслаждаешься медвяною росою.
Хотя у многих ты в глазах презренна тварь,
Но в самой истине ты перед нами царь;
Ты ангел во плоти, иль, лучше, ты бесплотен!
Ты скачешь и поешь, свободен, беззаботен,
Что видишь, всё твое; везде в своем дому,
Не просишь ни о чем, не должен никому.
В последней строке, не имеющей параллелей в греческом стихотворении, мы слышим искреннюю жалобу Ломоносова – утомленного жизнью человека, который взвалил на себя огромные обязательства, чья жизнь проходит в хлопотах. Иногда и этому полному жизни и воли титану хотелось сбросить все желания и заботы и стать «бесплотным», легким, ко всему равнодушным, как кузнечик, сосущий медвяную росу в травах на обочине петергофской дороги.
Между прочим, именно с этой поры кузнечик и другие насекомые прочно поселились в русской поэзии. Здесь можно вспомнить многое – от державинской «Оды комару» до жука, жужжащего на онегинских страницах, от фетовских пчел до апухтинских мух… Но, конечно, больше всего крохотных тварей заползло и залетело в стихи обэриутов. Что же до кузнечика, его образ стал для российской музы сквозным и традиционным. А все началось с анакреонтического стихотворения Михайлы Васильевича, который, оказывается, иногда был внимателен не только к космическим далям, но и к мелким частностям Натуры.
В 1757–1761 годах Ломоносов создает цикл «Разговор с Анакреоном», состоящий из переводов и «ответов» Ломоносова своему воображаемому древнему собеседнику. Певцу радости и счастья отвечает певец разума и державы. Но какая неуверенность в его ответах, какая тайная ностальгия по блаженной безответственности временами сквозит в его голосе – и как вдохновенно передает он игривые анакреоновские строки! В середине стихотворения появляется неожиданный образ.
От зеркала сюда взгляни, Анакреон,
И слушай, что ворчит, нахмурившись, Катон:
«Какую вижу я седую обезьяну?
Не злость ли адская, такой оставя шум,
От ревности на смех склонить мой хочет ум?
Однако я за Рим, за вольность твердо стану,
Мечтаниями я такими не смущусь
И сим от Кесаря кинжалом свобожусь».
Анакреон, ты был роскошен, весел, сладок,
Катон старался ввесть в республику порядок,
Ты век в забавах жил и взял свое с собой,
Его угрюмством в Рим не возвращен покой;
Ты жизнь употреблял как временну утеху,
Он жизнь пренебрегал к республики успеху;
Зерном твой отнял дух приятной виноград,
Ножом он сам себе был смертный супостат;
Беззлобна роскошь в том была тебе причина,
Упрямка славная была ему судьбина;
Несходства чудны вдруг и сходства понял я,
Умнее кто из вас, другой будь в том судья.
История Рима знает двух Катонов. Здесь имеется в виду Катон Младший, Утический, противник Цезаря, покончивший с собой в 46 году до н. э. Монархист Ломоносов ощущает неожиданное родство с этим неколебимым республиканцем, подчинившим свою жизнь «общему делу». Ломоносов и Катон противостоят гедонисту Анакреону. Но поэт не может с уверенностью сказать, какой путь лучше и достойнее человека. «Угрюмством» Катона «не возвращен покой в Рим». Увенчаются ли успехом начинания самого Ломоносова? Он в растерянности, в сомнении. Ему даже видится в судьбах Анакреона и Катона, сквозь все «несходства чудны», некое сходство. Что имеется в виду? Может быть, тщета всех человеческих усилий?
Во всяком случае, эти стихи не случайно остались в рукописи…