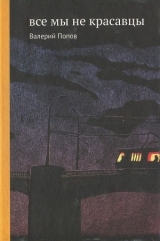
Текст книги "Все мы не красавцы"
Автор книги: Валерий Попов
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 8 страниц)
Картина перед сном
Дальше – помню первое утро, когда мне надо выходить на работу.
Неудобное, раннее вставание, зевота, сонный озноб – всё это было полно уже тревогой.
Слегка умывшись, я вышел на кухню. Кухня была пуста и тиха, только белый репродуктор на подоконнике кричал стариковским дребезжащим голосом: «…пока едешь по Приморскому шоссе, покрытие ещё ничего, но только въезжаешь в город, начинаются эти люки, шишки на асфальте, сколы. Вы скажете: „А куда, собственно, торопиться пенсионеру?“… Как это куда?!»
Он долго ещё кричал, а я стоял неподвижно и слушал.
Я и понятия раньше не имел, что в шесть часов утра уже идут, оказывается, такие напряжённые передачи!
Потом вдруг стал рубить колоссальный джаз: ничего подобного я не слышал в обычное время!
Я быстро попил чаю с булкой и вышел на улицу.
Трамвай, против всех ожиданий, оказался почти пустой. Я сел на холодную длинную скамейку и, повернувшись, смотрел в окно. Вот трамвай миновал знакомые, родные места, и начались места новые, незнакомые.
Дрожащий блеск листьев над тёмным оврагом. Речка с тёмной водой, и над ней почему-то множество белых чаек. Красные кирпичные здания, навалившиеся пузатые заборы. По тёмной воде проплыла моторка, оставляя в воде тёмно-бордовый клубящийся след.
Потом трамвай въехал в узкое длинное пространство между заборами, где были только рельсы.
Наверху шумели деревья, скрипели вороны. Сбоку вдруг промелькнул заросший полынью тупик, солнечный, с остренькими блестящими камешками, какой-то неожиданный, нездешний, из другого города, из другой жизни.
Я думал, что изменился, стал нормальным, спокойным, и вдруг на двадцать четвёртом году вернулись с удвоенной силой пронзительные ощущения одинокого моего детства!
Конструкторское бюро, куда меня направили, занимало огромный зал, тесно заставленный рядами кульманов. Спереди поднималась деревянная стена твоего кульмана, сзади – деревянная стена следующего. Единственным человеком, которого я видел, был стоящий слева Альберт Иваныч. Альберт Иваныч был человек пожилой, седые редкие волосы лежали поперёк красной лысины.
«Неужели, – думал я, – может так случиться, чтобы в пятьдесят лет быть ещё простым конструктором и получать сто десять рублей?»
И несмотря на это – а может быть, как раз поэтому, – Альберт Иваныч был ужасно гордым, вспыльчивым человеком.
Помню, как я был удивлён на второй день моей работы, когда начальник бюро Каблуков что-то тихо говорил Альберту Иванычу, и вдруг Альберт Иваныч повысил голос так, чтобы слышали все вокруг:
– Повторите, что вы сказали? Нет, я прошу вас – повторите!..
Каблуков что-то тихо ему говорил.
– Не-ет! – закричал Альберт Иваныч, уже обращаясь ко всей общественности. – Пусть он повторит, что он сказал! Он прекрасно помнит, что он сказал! Я не мальчишка!
Когда Каблуков отошёл, Альберт Иваныч некоторое время работал молча, а потом вдруг сказал как ни в чём не бывало:
– Кстати, кому нужно сделать ремонт, у меня есть один телефон. Прекрасный мастер!
Дни, недели и месяцы покатились удивительно быстро. Каждый день вроде бы тянулся долго, а, с другой стороны, пытался я вспомнить какое-нибудь недавнее событие, разговор, и вдруг оказывалось, что он был уже месяц назад!
После работы я приезжал домой, до меня доносились какие-то голоса, мелькали какие-то неясные тени, а я ждал только одного: момента, когда можно будет лечь спать!
Перед самым сном, когда мозг почти спит, приходят сигналы из каких-то дальних, заброшенных зон и появляются странные мысли, не свойственные ни твоему возрасту, ни твоей жизни, или появляются пейзажи, которых ты точно никогда не видел.
Конечно, можно было отбросить всё это как чушь, но я не отбрасывал, я уже знал, что многие мысли и чувства, оказавшиеся потом важными, зарождались именно так, на самом краю сознания.
У меня уже чётко определилось несколько таких странных видений.
…Какая-то станция, длинный жёлтый павильон на столбиках – чуть в стороне, внизу, – я гляжу с какой-то высоты. И вокруг утро, что чувствуется вовсе не по свету, свет как раз сумрачный, неясный, а по тому состоянию бодрости, которое в это мгновение меня охватывает.
На какой-то глубине сна ещё возможно вмешательство в него, и я понимаю, что надо пройти дальше, сделать хотя бы шаг в сторону: может быть, там кроется разгадка? Иногда на секунду мелькает тесная улица с резным жёлтым домом, с галереей наверху. И всё.
Что-то очень важное связано у меня с этим, хотя я точно уверен, что никогда в жизни этого не видел.
…И ещё – плоский изогнутый берег дугой уходит вдоль моря, и пальмы стоят вдоль него. И эта картина, появляясь, каждый раз вызывает острый прилив счастья.
Я очень люблю этот момент и иногда часами – а может, миллионными долями секунды? – балансирую на грани сна, пытаясь остановить, разобраться, понять: что это такое, откуда?
И хотя считается, что это невозможно, с одной такой картиной мне удалось разобраться.
Низкие ветки в полутьме висят над самой водой, над пляжем, и какие-то люди под этими ветками лежат на песке, тихо беседуя…
И вдруг я вспомнил, откуда у меня эта картина!
Я проработал после института полгода, была поздняя осень, и я собирался ехать в отпуск на Юг.
И когда я думал о Юге, перед моими глазами почему-то всегда являлась эта картина. Понятна и некоторая сумеречность её: была уже осень, шёл дождь…
И вот, написав заявление, я стою в кабинете главного инженера. За окном льёт дождь, а в кабинете темно, на грани включения света. Нужно, чтобы кто-то громкий, шумный вошёл сюда из освещённого помещения и громко сказал, не уловив нашей тишины:
– Что это вы сидите тут в темноте?
И сразу щёлкнет выключатель, мы сощуримся от яркого света, а за окном станет непроглядно черно, и наши жёлтые силуэты отразятся на чёрном стекле. Но этот шумный всё не приходит, а я уже здесь давно, уже после моего прихода начался дождь и наступила темнота. Но главный инженер не включает свет, понимая, что, если станет вдруг светло, обстановка изменится и весь разговор придётся вести сначала.
И вот мы сидим в полутьме, и он в который раз говорит:
– Вот так… Раньше чем через одиннадцать месяцев отпуск не положен. Что делать – закон!
И передо мной снова появляется картина: низкие ветки в полутьме, почти над самым песком, и там лежат люди, тихо беседуя… Но теперь эта картина проходит передо мной как мечта, как что-то прекрасное, недоступное – и с таким именно чувством и отпечатывается.
В школе я любил черчение, но там время от времени случались и другие уроки!
К концу работы болела спина, дрожали усталые руки. Однажды Каблуков сказал мне, что хочет перевести меня на место Нечаевой, уходящей на пенсию. Место, как объяснил Каблуков, гораздо более важное и ответственное, но так как Нечаева, обладая огромным опытом и стажем, не имела тем, не менее, высшего образования, то оклад её был девяносто рублей, на десять рублей меньше, чем сейчас у меня.

– Что ж, – спросил я, – и я тоже буду получать девяносто?
– Временно, временно! – подняв руки, закричал Каблуков. – Я давно уже кричу на всех углах, чтоб на эту должность дали инженерскую ставку, но разве этих головотяпов пробьёшь! Но теперь, с вашим дипломом, это будет сделать гораздо легче!
Сложным путем Каблуков стал доказывать, что это ни в коей степени не понижение, а, наоборот, большая удача в моей жизни.
«Неплохо! – подумал я. – Так можно и до вахтёра дослужиться!»
А Сенька, оказавшийся на этом же предприятии, но в акустическом отделе, о котором мечтал я, – процветал! С теми он говорил о турпоходе, с этими – об автобусных маршрутах…
– Неплохая подобралась компашка, – небрежно говорил он мне на площадке. – Свои парни в доску. Шеф тоже свой парень. Потрепались с ним вчера в большом порядке!
Я стоял, сгорая от стыда. Я понимал, что общение на таком уровне постыдно, но что и кому я мог сказать: его-то уже знали все, а меня не знал ещё никто.
Потом я увидел Сенькииого шефа. Действительно, вылитый Сенька! И Сенька тоже станет начальником, а я так и останусь со своими мучениями… И тихо, скромно действительно дослужусь до вахтёра.
Самое интересное – почти так оно и случилось.
В капусте
Каждую осень от нашего КБ посылали человека на овощную базу. Каблуков попросил было Альберта Иваныча, но, получив гневную отповедь, послал меня.
Я доехал на трамвае до кольца, под моросящим дождиком, в сапогах и в ватнике, прошёл по шпалам через большие открытые ворота. Я вошёл в длинный одноэтажный дом, в набитую мокрыми людьми тесную комнатку. За столом сидела женщина в куртке, замотанная платком, вела о чём-то спор. Я постоял, подождал. Я вдруг понял, что могу свободно уйти, и никто никогда об этом не узнает, не вспомнит. Но по инерции я продолжал стоять.
– Вам чего? – спросила наконец женщина, несколько смягчая свой голос для нового, неизвестного ещё человека.
Я объяснил.
– А-а-а! – сказала она уже в обычном своём тоне.
– Пойдёшь по путям, там всё увидишь!
Я пошёл вдоль путей, вдоль длинных бурых вагонов. В некоторых были сдвинуты двери, и там белели горы капусты. Капуста лежала и без вагонов, вокруг.
Я полез по одной такой горе, и вдруг она стала подо мной рушиться, кочаны со скрипом вдавливались куда-то вниз, потом я оказался стиснут ими, и они стискивали меня всё сильнее. Я пытался выбраться, хватался за дальние, неподвижные кочаны, но только верхние истрепанные их листья оставались в моих руках.
«Это конец!» – подумал я, оказавшись зажатым в капусте, но тут вдруг началось какое-то движение, и я, в окружении нескольких сотен кочанов, скатился по капустной горе в длинный цементный коридор.
В коридоре на пустых деревянных ящиках, обитых по краям жестью, сидели тихие молчаливые люди.
– А-а-а, – сказал один из них, вставая. – Ну, молодец, что протолкнул!
И, больше не обращая на меня внимания, они стали с получившейся россыпи сгребать кочаны в ящики; поставив ящик на плечо, шли с ним вдоль по коридору.
Дальше был поворот, за поворотом горела лампочка и стоял длинный штабель из ящиков с капустой.
Поодаль на цементном полу валялась груда ящиков пустых.
Все взяли по пустому ящику и вернулись к капустной горе.
Долгое время мы работали молча.
– Зашиваемся! – сказал мне небритый человек в кепке. – Домой и то некогда сходить!
И действительно, когда уже в темноте мы кончили работать, никто не поехал домой. Полтора часа тащиться на трамвае сейчас, потом – полтора часа утром, рано вставать… стоит ли? Все прошли по коридору в какую-то комнату с окном в потолке и легли спать прямо на капусте, прикрывшись общим большим брезентом.
Утром мы встали и снова стали складывать капусту в ящики. Тут же была и столовая, здешний повар умел готовить из капусты множество прекрасных блюд!
Остаток перерыва мы провели в нашей комнате. Сидя на капусте, я с изумлением наблюдал, как наш бригадир, усатый старичок, удивительно играет в шашки. Сидит, сжавшись, спрятав руки в рукава, как в муфту. Потом высунется розовый пальчик, двинет шашку – и назад!
По другую сторону доски, так же недвижно, как я, наблюдал за игрой Володя, небритый мрачный парень в серой кепке.
– Ты чего, Володя, такой небритый? – выйдя из оцепенения, спросил я его.
– Да у меня батя болеет, в Нальчике, – хмуро, неохотно ответил Володя, и мне, как и всем вокруг, почему-то показалось, что он дал на мой вопрос исчерпывающий ответ.
Полной победой бригадир завершил партию, и мы пошли по коридору к нашим ящикам.
Так мы доработали до вечера, и снова никто не захотел ехать домой.
Не помню, сколько дней так продолжалось.
Иногда я забирался на какой-нибудь капустный пригорок. Капустные горы, капустные долины простирались до самого горизонта.
С лёгкой тоской вспоминалось, что существует где-то прекрасный Невский проспект, пахучий ресторан «Кавказский», пряный магазин «Восточные слабости», но всё это уже казалось каким-то нереальным.
И главное, понял я – никого тут насильно не удерживают, выйти отсюда вполне можно, если постараться. Но как-то тут не принято было стараться… Как-то это считалось тут неприличным.
Можно, конечно же можно было съездить в город, на Невский, но только, если вдуматься, – зачем?
И я постепенно тоже начинал так думать: «Зачем?
Что там такого особенного?»
В общем-то, собрались тут неудачники, которые, как и все неудачники в мире, считали, что теперешнее их положение временно, несерьёзно и вскоре, конечно, должны произойти кардинальные перемены в их жизни.
«Но ничто так не постоянно, как временное», – говорил наш институтский мудрец Вова Спивак…
Однажды, когда мы разбирали капустный завал в углу комнаты, я вдруг услышал звонки. Они несомненно доносились из глубины. Я стал разбрасывать кочаны, и вот открылся цементный пол, а на нём стоял чёрный телефон.
«Не может быть, – подумал я, – чтобы здесь была связь с городом!»
Я схватил трубку, быстро поднёс её к уху. Тишина… И вдруг гудок!
Быстро, отрывисто, щёлкая диском, я набрал номер телефона главного инженера.
– Говорите! – удивительно близко произнёс он, наполняя меня всего звуками своего жирного голоса.
Я быстро рассказал ему всё.
– Да, это мне известно, – ответил главный инженер. – Ну и что?
– Как что?! – закричал я.
– Так – что? У вас всё? – сказал он и повесил трубку.
«Конечно, – подумал я, – чем каждый раз искать новых людей, лучше уж держать тут постоянно меня, раз уж я получаюсь такой послушный!»
Что же, до конца дней будет теперь одна капуста?.. Может быть, позвонить в милицию? Но что я, собственно, им скажу? Формально всё нормально! Я от предприятия послан с шефской помощью на овощебазу. А что моя жизнь здесь кажется мне предвестником каких-то будущих моих жизненных неудач, это слишком долго и сложно будет объяснять. И вся трагичность моей теперешней жизни существует лишь в моём восприятии. Как говорила здешняя работница Марья Горячкина: «Можно погибнуть, а можно сапоги потерять».
И конечно, понял я, ничего тут трагичного пока нет. Трагично всё может быть, если моя жизнь и дальше покатится так, сама по себе.
Я выскочил из комнаты в коридор, подбежал к капустной насыпи, по которой когда-то съехал сюда, и полез наверх.
Сначала насыпь поднималась довольно полого, но потом встала почти вертикально, а потом даже нависла. Я с яростью лез, вцепляясь ногтями и зубами, откусывая куски капусты, и так случайно выдернул кочан тёмно-бордового цвета, и вся стена сразу на меня обрушилась…
Когда меня раскопали, бригадир сокрушённо сказал:
– Э-э-э, молодёжь! Я, помню, тоже всё порывался куда-то…
Вечером, сидя со всеми в комнате, я вдруг почувствовал, что мне всегда, в общем, нравились такие складские помещения: кислый запах, тускловатый свет…
В каждой жизни есть свой уют.
Однажды, когда мы с Володей разгребали очередную гору, сквозь неё вдруг подуло холодом, она рухнула, и открылась какая-то узкая речка, и несколько кочанов поплыло по ней вниз по течению.
«Ну, всё! – вдруг понял я, похолодев. – Надо решаться. Или сейчас, или никогда!»
«Неудобно, – сразу подумал я, – и вообще…»
«Что значит „неудобно“, – мысленно закричал я, – если речь идёт о твоей жизни!»
– Ну, – сказал я Володе, – поплыли?
– Да ну, – стал говорить он. – Да стоит ли? Зачем?..
– Володя! – закричал я. – Не надо упрощать и без того простую жизнь!
Мы сделали плот из кочанов, увязав их брезентом, вспрыгнули на него.
Довольно долго мы плыли среди капустных гор, потом горы внезапно оборвались и появился плоский глинистый пустырь. Было холодно. В реке шуршали тонкие застывающие льдинки. Их можно было снимать с воды, и они не ломались. Полетели снежинки – чёрные на фоне белого неба…
Когда я вернулся в институт, никто мне ничего не сказал. Как раз был перерыв, и я пошёл со всеми в столовую. Как всегда, там было полно народа.
Все что-то такое про меня слышали: то ли где-то я был, то ли, наоборот, где-то меня не было… Некоторые знакомые со мной не здоровались – зачем? Другие, наоборот, рассеянно мне кивали…
– Что у вас на второе? – спросил кто-то позади меня.
«Не дай бог голубцы!» – подумал я…
– Сосисы и сардели! – важно сказала подавальщица, маленькая старушка.
Она подняла крышку, из бака поднялся пар.
«Вот бы их съесть всё сразу», – глотая слюну, думал я. Мне действительно этого хотелось, я мог.
– Сто порций! – сказал я, когда моя очередь подошла.
На следующий день все уже знали меня.
– Сто порций, сто порций, – слышал я, пока шёл по коридору.
«Ну и пусть, – весело думал я, – лучше быть „ста порциями“, чем просто так, никем, тёмным силуэтом на фоне окна».
Я открыл дверь к главному инженеру в кабинет.
– А-а-а! – закричал он. – Ну что? Ну, молодец! Я сам был такой!
Теперь-то он сразу меня узнал!
И через неделю я уже работал в группе акустики, по своей любимой специальности. И только немножко было непонятно, почему я не делал этого раньше.
Вспоминая капустный эпизод моей жизни, вроде бы короткий и незначительный, я понимаю всё больше, каким важным был он для меня. Именно там я представил себе один из возможных вариантов жизни – тоскливый, безынициативный, неудачливый. Представил и испугался – нет, не надо! Увидел в воображении, лишь почувствовал лёгкий запах и сразу понял – с ходу назад! Как говорили у нас в институте, просчитал всё заранее в уме. Или, как ещё говорили у нас, провёл испытания на модели.
«А у другого, – подумал вдруг я, – ушла бы на это вся жизнь! А я уложился в неделю!»
Говорят, что людей находят в капусте, а я чуть было в ней не потерялся!
Без лишнего шума
Я был рад работать наконец в акустической группе.
Мне непонятны и неприятны люди, которым достаточно лишь устать, чтобы считать день проведённым с пользой.
«Ну и что, что устал? – думал я. – Это ни о чём ещё не говорит».
А здесь было всё понятно. Мы разрабатывали микрофоны для переговорных устройств. Это было то, о чём я думал давно: «Чтобы люди лучше слышали и лучше понимали друг друга».
Раньше я всё думал о том, как себя вести, а теперь начисто об этом забыл, настолько было некогда и неважно.
Утром я входил в комнату и, повесив в шкаф пальто, поздоровавшись, сразу же выходил. В коридоре я поднимал тяжёлую щеколду на толстой железной двери, отворял её и, закрыв за собой, попадал в маленькое помещение – «предбанник». Потом я поднимал щеколду ещё с одной такой же чугунной двери и, закрыв её за собой, входил в особое помещение, в особый объём – сразу же с лёгкой болью закладывало уши, я с усилием глотал слюну… Это была заглушённая камера – специальное акустическое помещение, стены и потолок которого были покрыты толстым слоем стекловаты, обтянутой сверху белой марлей. Вся комната была белой и мягкой, сюда не проникал ни один внешний звук.
Пружиня, покачиваясь, я шёл по мягкому толстому полу к металлической стойке, отвинчивал уже испытанный микрофон и ставил на его место следующий. Иногда вдруг попадал под влияние этой белизны и тишины, садился в мягкий угол и сидел, поджав ногу. Потом, опомнившись, вставал, выходил в «предбанник», закрыв толстую чугунную дверь на щеколду.
В предбаннике я садился на стул, включал звуковой генератор и, поворачивая чёрные ручки, давал нужную частоту на динамик.
Так, пройдя по всем частотам, от трехсот до десяти тысяч герц, я строил на графике частотную характеристику чувствительности этого микрофона.
Потом, отодвинув стул, я поднимался по ступенькам, отодвигал щеколду, проходил, утопая, по пышному ватному полу, снимал обмеренный микрофон, привинчивал на его место следующий, захватывая его кончики специальными «крокодильчиками», которыми кончались провода, идущие через вату к приборам.
Потом, пружиня на вате, я шёл назад, закрывал, тужась, дверь, опускал в тесный паз тяжёлую щеколду с ручкой…
Иногда, забыв о всём прочем, звукоизолированный от всех, я забывал про обед и даже пропускал конец рабочего дня.
Проверив все микрофоны, я нёс их в комнату к Голынскому, «злодею», как все у нас его называли. Действительно, у него была странная работа: портить, как только сможет, все приборы, которые мы с таким огромным трудом создавали.
Больше того, в его распоряжении была ещё могучая техника!
Во-первых, у него был вибростенд, и, закрепив микрофоны на этом стенде, он задавал им такую тряску, после которой я, например, точно бы отдал богу душу.
После тряски он возвращал микрофоны мне, я снова шёл в заглушённую камеру и снова снимал характеристики.
И снова нёс микрофоны к «злодею» Голынскому. Тот радостно выхватывал их у меня и запихивал на этот раз в герметичную камеру, где долгую печную жару вдруг резко, подло, без предупреждения менял на адский холод!
Промучив их так, он вынимал микрофоны из камеры, я быстро хватал их, ещё хранящих космический холод, и, дрожа от нетерпения, шёл с ними в заглушённую камеру, привинчивал на пульт первый из них, закрывал дверь, выходил и, слыша сквозь железо тихий, меняющийся вой в камере, пробегал весь диапазон частот, разглядывая, где и насколько упала чувствительность, а где, наоборот, вдруг поднялась.
Потом Голынский помещал микрофоны в камеру «тропической влажности», потом в камеру «морского тумана» с испарениями солей, щелочей и кислот, которые, по злобному замыслу Голынского, должны были разъесть аппарату самые нежные, чувствительные места.
Стирая крупную росу от «морского тумана», я снова привинчивал микрофон на стойку, торопясь немедленно, сегодня же снова промерить всю серию.
Однажды, забыв про время, я задержался до глубокого вечера, и вахтёр, обходящий здание, закрыл коридорную железную дверь на щеколду, проклиная, наверно, растяпу, который забыл это сделать. Я как раз стоял в этот момент абсолютно тихо, затаив дыхание, ловил «крокодильчиком» истрёпанный кончик микрофонного вывода. Услышав лязг щеколды, я ещё несколько мгновений стоял неподвижно, а потом бросился на железную толстую дверь: кричал, стучал, но это было совершенно бесполезно!
И главное: и завтра утром все могут решить, не увидя меня, что просто я ушёл уже в свою камеру, и это будет отчасти правдой.
Так я смогу тут сидеть до посинения, никто про меня и не вспомнит, разве что добрым словом: «Надо же, как увлёкся работой!» Или, увидев дверь камеры закрытой на щеколду, помянут словом недобрым: «Надо же, на работу не вышел».
Но мне оба эти варианта не нравились.
Часов у меня не было, и я представить себе не мог, сколько же прошло времени. Пружиня, я бегал из угла в угол, отталкивался от сходящихся ватных стен, падал на спину, катался, но, что характерно, совершенно молча: тишина заглушённой комнаты как-то подействовала и на меня. Сначала я чувствовал себя полностью отрезанным, вернее, изолированным от мира, но потом понял, что одна связь всё же есть: электрические провода.
«Ну и что толку-то? – подумал я. – Подстанция спокойно посылает свой ток, и ей безразлично и неизвестно, что одна из её лампочек освещает в данный момент столь завальную ситуацию!»
Если выйдет из строя подстанция, я сразу узнаю об этом, потому что лампочка моя погаснет, но никто не узнает о том, если вдруг погаснет одна моя лампочка!
Я вдруг понял, что есть один-единственный способ дать о себе знать: активно выйти в систему, так, чтобы все почувствовали твое присутствие. КЗ! Короткое замыкание – вот единственное, что я могу сейчас сделать, единственное, чем я могу дать знать о своём горемычном существовании.
Но что-то удерживало меня: боязнь резких движении, новых, неожиданных, непривычных поступков…
И всё-таки, поняв, что другого выхода нет, я решился!
Я оборвал хвостик у одного микрофона, зубами и ногтями заголил концы побольше.
Потом я вывинтил лампочку… и сразу же погрузился во тьму. Да-а-а. Об этом я как-то не подумал! Надо хоть вспомнить, посмотреть, как устроен патрон, куда надо совать провод, чтобы устроить простейшее КЗ. В темноте ничего не увидишь, пришлось завинчивать лампочку назад, и, только когда лампочка лучисто засветилась, я понял, что теперь хоть и светло, но внутренности патрона не увидишь и проволоку туда не сунешь. Непонятно, как я мог надеяться на всё сразу: и на то, что будет светло, и на то, что патрон будет при этом открыт. Наверно, от пребывания среди этих сплошных подушек я начинал сходить с ума.
Я вывинтил лампочку и сунул провод в патрон. Удар, сноп искр! Попал! Я и забыл, что это так сильно и так страшно.
Теперь только не дай бог, если дежурного электрика не окажется в этот момент на месте и он не услышит, как хлопнула пробка на одном из многочисленных щитов, окружающих его. Если он этого не слышал, то всё – последний мой контакт с миром потерян. Так сказать, никто не увидел единственной моей сигнальной ракеты.

Я подождал с бьющимся сердцем минуты две, в темноте почему-то особенно было слышно, как бьётся сердце, и быстро, торопливо стал ввинчивать лампочку.
Лампочка загорелась тихим, лучистым светом. Теперь вроде бы электрик мог понять: если короткое замыкание то есть, то его нет, очевидно, оно устроено какой-то разумной силой, значит, где-то в здании присутствует человек.
Я ждал скрипа отодвигаемой щеколды, но его всё не было. Понятно. Просто заменил пробку – и всё.
«А если, – мелькнула испуганная мысль, – он вместо пробки поставил вдруг медный жучок? Я же не знаю – сую свою проволоку. Пожар!»
Долгое время, испугавшись, я сидел по-турецки под тихо горевшей лампочкой, говоря себе: «Ну вот же… Всё тихо… Спокойно… Светло!»
Но потом снова вскочил, снова вывинтил лампочку, снова сунул туда проводок…
Не помню, после какого раза ввинченная обратно лампочка не загорелась.
То ли дежурный вообще решил не ввинчивать больше пробку, то ли решил всё же посмотреть, что ж такое на этих контактах – то коротит, а то нет! – непонятно.
Я не знал этого электрика, не видел его ни разу и не знал – для него «непонятно» является стимулом к действию или нет?
Если он человек активный, любопытный, то сейчас, я представлял, в своей каморке под лестницей он вынимает из стола папку, разворачивает на столе розовую схему энергоснабжения нашего предприятия, долго ищет на ней этот щит, потом на щите восемьдесят вторую позицию, потом долго ведёт по линиям тупым карандашом, смотрит, куда же ведут провода с этой восемьдесят второй…
Не знаю, сколько я просидел в темноте, прежде чем услышал скрип туго отодвигаемой, заклиненной щеколды…
Много я потом занимался техникой, электричеством, но это уж точно был самый электрический день в моей жизни!
После этого я долго боялся входить в заглушённую камеру. К счастью, замеры микрофонов были уже закончены и началась следующая фаза испытаний.
Приехал приёмщик.
Вместе с электронщиками из другой группы был собран весь тракт переговорного устройства: микрофон – усилитель – репродуктор, и начались испытания на разборчивость.
Проходили они так.
Кто-нибудь говорил в микрофон, а кто-нибудь слушал репродуктор.
В микрофон при этом полагалось говорить не что попало: были специальные таблицы, которые следовало читать. С другой стороны, эти таблицы были лишены всякого смысла, всякой связи между словами, потому что в логической фразе нерасслышанное слово можно угадать и один, более догадливый, оценит этот микрофон нише, чем недогадливый… А требовалась объективная оценка.
В репродукторе слышался Сенькин голос, с лёгким звоном:
Артикуляционная таблица номер тринадцать
лодочка
японец
теплота
генерал
черника
брошенный
змея
засушила
век
вы
волк
забыть
навзничь
арбуз
лёд
коллектив
кастрюля
изгиб
куриный
шмель
выплывающий
фляга
матросский
солома
неизбежный
тюль
сомнение
полька
бить
краснобай
Полагалось читать строку за строкой сверху вниз в микрофон, а на другом конце системы у репродуктора слушать и записывать. Таблиц таких было сорок, их читали в произвольном порядке, выучить их было невозможно, и каждое слово приходилось действительно слышать.
Но так было до меня.
На мне эта стройная (а вернее, как раз нестройная) система пошатнулась.
В каком-то, не знаю уж, порядке я прослушал все эти таблицы по разу, а когда их, в другой, разумеется, разбивке, стали читать во второй раз, я вдруг понял, что знаю их все наизусть.
Причём не просто знаю – с каждой строкой у меня была уже связана картина, в которую входили все необходимые слова.
Казалось бы, какая связь: лодочка, японец, теплота, генерал, черника… А у меня сразу же появлялась картина. Я не только её видел, я её чувствовал, ощущал: какая-то тёмная река, на ней лодочка, и японец-генерал поплыл в теплоте за черникой.
Я не только это представлял, я в этом участвовал: чёрная тёплая ночь, светлая лодочка, тёмная вода, пружинящий болотистый мох, на котором растёт мягкая черника.
Брошенный змея засушила век вы.
Тут тоже была у меня картина, хотя и не столь ощутимая физически, как с теплотой и черникой. Зато почему-то она накрепко была связана с каким-то чувством обиды. Я брошенный, потому что какая-то змея своим дыханием засушила наш век, и теперь все друг с другом на вы!
Волк забыть навзничь арбуз лёд.
Эта картина, наоборот, была связана с ощущением какого-то счастья, какой-то сочной, удачливой, лихой жизни: застрелить волка и забыть его – мало ли в жизни мы охотились на волков! Пусть он лежит себе навзничь, а мы пойдём к себе, в двухэтажный деревянный дом, где лежит на льду арбуз, разрежем его и с каким наслаждением съедим!
Коллектив кастрюля изгиб куриный шмель.
И тут была картина, в которой я вроде бы когда-то участвовал: какие-то люди, коллектив, связанные неясными для меня узами, приплыли на какой-то пикник, вот вынимают из рюкзака кастрюлю, разжигают костер возле изгиба реки, варят куриный суп из синеватой в пупырышках курицы. Потом в пустой, но жирной кастрюле долго бубнит своё жадный шмель. Ощущение тишины, молчания, большого неуютного простора, сложных непонятных для меня отношений между этими тихими, молчаливыми людьми.
Выплывающий фляга матросский солома неизбежный.
Только для этой строчки, мне кажется, ассоциация была искусственной: что-то такое я читал или слышал такую песню. Выплывающий матрос, промокший. Фляга – единственный способ согреться, и скорее забиться в солому, чтобы спрятаться и чтобы согреться. Что делать, такой ход событий был единственным, неизбежным!
Тюль сомнение полька бить краснобай.
Всё это представлялось мне какой-то неясной картиной из будущего, почему-то связанной с любовью, причём с любовью неудачливой, грустной, хотя слов «любовь», «девушка» в этой строчке и не было. Но уже при слове «тюль» я чувствовал какое-то страдание, я видел себя в какой-то тёмной комнате охваченным сомнением, и белый тюль вдруг вдувался в тёмное пространство комнаты, пугая меня, ещё больше увеличивая волнение, потому что вторая часть строчки была мне чужой, враждебной. Полька, бить, краснобай… Я чувствовал, что никогда не смогу танцевать польку, не буду никого бить, ни буду никогда краснобаем. И многое в жизни потеряю на этом – особенно в любви.







