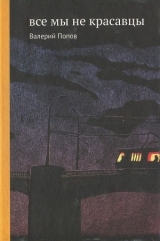
Текст книги "Все мы не красавцы"
Автор книги: Валерий Попов
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 8 страниц)
Буду грустным
Я вдруг засмотрелся, как градины скачут на подоконнике – ударится и летит вверх, всё медленнее, медленнее, повисит – и вниз.
А некоторые долетят до стекла, прилипнут, и сползают, и тают.
Тут снова Лёха, мой племянник, ложкой бьёт по столу и кричит:
– Похо-лоданье! Похо-лоданье!
Да, уж осень. Скоро уезжать с дачи. Холодно, пальцы в носках замёрзли, скрипят друг о друга.
– Похо-лоданье! Похо-лоданье!
– Лёха! Прекрати, слышишь? А то брошу всё, сам пришивай свои пуговицы!
Сразу замолк.
Я тяну иголку, и вдруг комок такой из ниток получился, я дёрнул со злости и вообще порвал.
– А-а-а, проклятье! Вот мать твоя придёт, пусть и пришивает!
– Похо-лоданье! Похо-лоданье! Похо-лоданье! Потом вдруг вскочил – и на улицу. Я тоже вышел.
И верно, град кончился. Холодно, чисто. С крыши капает. На цветах капельки. Вдохнул весь запах, какой там был, и пошёл.
«Нет, – думаю, – так нельзя, надо развеселиться немножко».
Вдруг наискосок Лёха пронёсся. Подбежал к гаражу железному, чёрному, выхватил мел и написал: «Мне нравится мороженое за 9, 11, 13, 19, 22 и 28 копеек».
Повернулся и помчался на толпу своих друзей, сразу трёх свалил. Это у них называется – казаки-разбойники. Вот тоже, жизнерадостный рахит.
Ему всё нравится.
Я прошёл Красный пруд, вышел на обрыв, а внизу – парк. Весь мокрый, зелёный. Пустой. Вот передо мной квадрат, а по бокам аллеи, а по аллеям в два ряда, как шахматные фигурки, белые статуи стоят. Я вдруг представил партию, – как они двигаются среди зелени, делают свои ходы.
– Нет, – говорю, – хватит, надо сбросить задумчивость, взбодриться.
Спустился и пошёл по аллее. Повсюду жёлуди, жёлтые, как полированные, рассыпаны. И нигде – ни души. Долго я ходил по аллеям. Хорошо. И вдруг – ба! – навстречу прётся Борька Долгов.
Вот уж некстати! Я знал, что он по списку весь класс наш объезжает – навещает. Вот и ко мне пожаловал. Ну что ж. Идём, беседуем. В основном, конечно, он трендит, я молчу.
Вдруг он усмехается:
– Да, интересно.
– Что интересно?
– Как ты сказал зло: «Молодец, что меня нашёл!» Смысл один, а тон – совсем другой.
Это верно. Он вообще умный человек, здорово всё понимает.
Но как-то не всегда в этом признаётся. Любимое его выражение: «Как человек – я тебя понимаю, но как староста – нет, не понимаю». Что за раздвоение? Ну зачем он так?
– Э, – говорит, – ты что там задумался, а? Ты, – говорит, – что-то невесел. Надо весёлым быть, бодрым. Бодрым!
Стал трясти меня, трясти. Потом вдруг отпустил, вынул из кармана список нашего класса и против моей фамилии птичку поставил, но крыльями вниз.
Потом тоже замолчал. Аллеи пустые. Лист отцепится с дерева и падает так, ныряет: влево-вправо, влево-вправо и по песку – шарк…
Долгов покашлял – сыро – и говорит мне:
– Да! Очень был удивлён, не застав тебя на весах. Это верно. Был у меня всё лето такой бзик – взвешиваться. Решил за лето вес накачать – в полтора раза, за счёт мышц. Внушили мне, что это вполне возможно. Гантели, резина по восемь часов. Всё лето убил. Прибавил десять граммов.
Я, честно говоря, подозревал.
Это легенда такая почему-то: выступает чемпион, скажем, по борьбе, и обязательно: в детстве я был хилым, болезненным, руку не мог поднять, но упорные тренировки…
Зачем это нужно – внушать, что самые сильные – из слабых? Руки тонкие, ноги тонкие – значит, борец? Зачем выдумывать? Ведь, если честно, – уж как родился не гигантом, то таким и будешь в основном, а уж если родился как бык, так и говори.
Шёл я, думал об этом и молчал.
«Нет, – думаю, – нет, надо развеселиться».
И вот вышли мы к заливу. Широкая вода, туман. Волны, такие слабые пирамидки, подходят к берегу – чмок! Чайки летают бесшумно, тени под крыльями. Стояли молча, смотрели. Хорошо.
И вдруг мне мысль:
«А почему это я всегда должен быть непременно весёлым? Буду сегодня грустным».
Сочинение
Учился я всегда обычно, как все, и вдруг в этой четверти открылся у меня внезапный талант сочинения писать. То есть потрясающе стало выходить! Только гляну на тему, сразу понимаю – значит, тут так, а тут этак, а тут цитата, а в заключении о том-то и том-то. Всё ясно с начала до конца. Только написать остаётся.
Как сказал Иван Давыдович:
«Крайне всё верно, даже удивительно!»
Так и писал, то есть сначала соображал, что тут надо, а потом это до крайности доводил, до предела, чтобы оценка наивысшая была. Если, скажем, про лишних людей писал, то уж они у меня такие выходили лишние, что дальше некуда. Просто идеальные сочинения получались. Уж обязательно они к директору попадали, а он в роно отдавал, а те в гороно, потом дальше, уже не знаю куда, месяца через два они обычно возвращались с какими-то печатями, подписями, и сразу же на голубой ленточке на специальной доске вывешивались.
Поэтому, когда Иван Давыдович входил после проверки с кипой тетрадей, я и не волновался ничуть. И действительно:
– Горохов, как всегда, пять.
Но как-то без радости говорил, я это чувствовал. Да и я что-то не очень, слишком уж спокоен, даже противно. Вроде бы всё в порядке, а вот счастья особенного что-то не наблюдалось.
И вот однажды Иван Давыдович пишет на доске вольную тему: «Лучший день моей жизни».
Я как глянул, сразу понял, что про сбор металлолома буду писать, когда мы первое место заняли. Верные пять баллов. И вдруг вспомнил другое, совсем другой день. То есть сначала вдруг мне жарко стало. Потом вдруг землю перед глазами увидел – засохшую, серую, комками. Что это, думаю, откуда? А потом и остальное всё явилось: жёлтые ломкие стебли вверх уходят, и на маленькой скамеечке, переносной, женщина в белой панаме карандаш серпом точит, говорит что-то, смеётся. Это в Пушкине, летом. А это моя мама раньше, молодая. А это её работа – жёлтые стебли вверх, и на некоторых наверху мешочки из пергамента, чтобы колосья не опылялись, как не нужно, – это я только сейчас понял. Это мама моя такой сорт выводила, чтобы не падала рожь, стояла, чтоб убирать её было легче.
Потом из этого леса жёлтого высокие люди выходят, садятся на корточки, газету стелют и кладут огурцы, хлеб чёрный, мягкий, помидоры, соль. А главное, что мы ели – до сих пор не могу забыть – ели мы что-то в таких маленьких баночках стеклянных с железной крышкой, жёлтое, вроде масла. И так это было вкусно, такое счастье! И сколько я потом ни спрашивал у всех – никто не помнит, что же это такое было, даже форму баночки в воздухе рисовал – никто не помнит, смеются, не было, говорят, ничего такого, выдумываешь. Ничего себе выдумываешь – до сих пор я этот вкус чувствую!
А потом я по полю пошёл, пошёл, до канавы дошёл, и так я помню её, каждый одуванчик, каждый пыльный подорожник. Сколько же лет мне тогда было? Пять? Или шесть? Потом перелез я канаву и в лес вошёл. И долго там сидел возле большой такой воронки с тёмной водой. Камыш рос, и жучки плавали, чёрненькие, видно, как он под водой идёт. Криво вынырнет на поверхность и опять по дуге идёт под водой – маленький, чёрненький, плотный. Когда нам по геометрии про точку объясняли, я сразу всё усвоил, потому что всегда теперь точку в виде этих жучков представляю.
Прошёл я лес и к длинному белому дому вышел, с окошками у земли. Конюшня. Дверь отломана, на земле валяется, внутри темно, и лошади там вздыхают. Очень хорошо в конюшне. Как я тогда хотел конюхом стать! И сейчас ещё хочу. Говорят – мало платят. Ну и пусть мало, главное, что мне нравится. Нравится, как сбруя с крючков свисает – старая, жухлая, перекрученная. А в стойлах между стенками из досок лошади стоят, переминаются, стукают по дереву. И главное – стоят скромно, хоть целый день работали, нет чтобы развалиться как-нибудь. Так ведь стоят, только хвостом помахивают. Зашёл я к своей любимой Букве. Белая, седая. Сзади в темноте она на большую головку чеснока походит. Пролез я к ней вперёд, за голову взял. Она посмотрела на меня, потом реснички белые на свой блестящий глаз натянула. А в ушах у неё белые волосы растут ровно, а уши всё время вздрагивают. И ноздри мокрые, розовые, вроде как лопнувшие пельмени. Снял я с гвоздя уздечку, на её большую голову надел. Стал шенкель в рот вдевать, железку отполированную. Сначала губы раздвинул бледно-розовые, потом зубы длинные, жёлтые – и щёлк, вдел в рот железку, застегнул. Буква сразу сосать её стала. Закинул поводья ей на спину, похлопал. Потом вдел палец в уздечку, в железное кольцо, на двор повёл. И там только на секунду её оставил, гляжу, на ней уже парень сидит заросший, а у меня под носом его нога босая. А Буква хоть бы что, словно ей всё равно. Так я обиделся. И пошёл. И идёт тут конюх и ведёт за уздечку гнедого жеребца, коротенького, с мышцами, с чёрной гривой, и говорит кому-то:
«А что, на Буяне опять никто не поедет? Снова, значит, он лягаться будет, весь табун перекусает? Ну ладно, ладно».
И тут я гляжу – уже сижу на Буяне, хребет жёсткий, костяной, отъехал немножко и – уже по воздуху лечу вверх ногами, и не заметил как. И вдруг чувствую – дальше не падаю, повис, и кто-то меня за ногу вверх тянет, крутит. Пока я падал, ногой в уздечку попал, и она закрутилась, теперь я руками на земле стою, а Буян изгибается и – раз, раз – всё хочет копытами в меня попасть, а я только гляжу через плечо и в сторону прыгаю, и так мы с ним через весь скотный двор проскакали, и так страшно было, и ярость, и восторг.
Тут он меня об липу крутанул, я сразу же схватился за неё и полез, полез на одних руках, изо всех сил. И вдруг чувствую, легко стало лезть, уздечка лопнула, видно, сопревшая была. И так было прекрасно сидеть на ветке, вниз смотреть, как этот дурак красным глазом косится, кору кусает. А народу набежало, народу! И все смотрят на меня, и кто смеётся от радости, кто плачет. Директор подъехал в газике брезентовом, заляпанном, снял меня и повёз на речку мыться.
Потом я ещё долго сидел один на скамейке. Возле Египетских ворот. Железные, и на них строем люди идут на прямых ногах, а рука одна согнута углом, и другая вытянута. А за воротами пространство ровное, желтоватое, и дома странные. То есть я тогда думал, что это уже Египет и есть. И до сих пор Египет так представляю. Потом я на насыпь залез, пошёл по шпалам деревянным, мазутом закапанным. Тут ко мне тихо сзади дрезина подъехала – площадка деревянная, а на краю будочка, и сидел я на этой площадке, ноги поджал, и ехал высоко, а внизу всё солнцем освещено. С заката. И так доехал я до поля, спрыгнул и по песку вниз съехал.

А там стоит моя мама, и вокруг неё, конечно, уже толпа.
– Да, – говорят, – Алевтина Васильевна, сын-то ваш совсем беспризорник растёт.
А такая Екатерина Ивановна, которая тоже всё до крайности доводила, говорит:
– Бандит!
Тут мама вышла из толпы, песенку запела, весело, неестественно, а левая бровь её поднята и подёргивается. Теперь я знаю, что это значит. Самое большое волнение. А тогда словно впервые я её увидел, раньше я просто чувствовал её за спиной, надёжно, и вдруг, оказывается, и её обидеть могут, и расстроиться она может, и чуть не плачет вот, и тут же понял, почувствовал, как я люблю её, вот.
А потом разошлись все, и я опять один остался, солнце село, и с той воронки комары полетели, прямо виден в темноте серый их столб. А стебли мокрые стали. А вдали чьи-то голоса разговаривают. И сидел я так в темноте, и вдруг почувствовал, что – как бы это сказать? – что всё со всем связано, понимаете, всё со всем: и воронка, и комары, и голоса, и я. Как бы это вам объяснить? Но в общем точно, что это лучший день в моей жизни был, самый важный. И так я прямо об этом и написал.
Хоть и не знал, где тут какой пункт, где вступление, где заключение – ничего не знал, да и не думал об этом вовсе. Положил на стол и только тут заметил, сколько помарок всяких. Ну и пусть. Вышел из класса и всё успокоиться не мог, минут двадцать по коридору ходил.
А через три дня приходит Иван Давыдович и прямо сияет:
– Ну, Горохов, ты сочинение написал! Вот спасибо. На, возьми.
Даёт сочинение, а там тройка.
– Да, – говорит, – ничего нельзя было сделать, много ошибок. Да ведь неважно это, ты же понимаешь. Главное, что ты правду написал, что действительно на душе носил.
Конечно, я понял. Так и надо было уж давно. Уж давно хорошо так не было, как теперь.
Эталон
Кувырок у меня всегда выходил вбок. Потому что голова у меня не круглая. Ну и что? Мне это даже нравится. Да и ребята попривыкли. И наш учитель физкультуры только посмеивался, бывало, когда я постою на голове, постою и набок валюсь.
Он вообще толстый такой был, добродушный. Задумчивый. Всё ладонью по груди шлёпал, искал, где у него свисток болтается. А свисток маленький был, и вообще не свисток, а манок на уток – свись-свись, – ничего не слышно. Однажды проходили соревнования – бег на сто метров. Мы согнулись на низком старте в напряжении. Стоим, ждём. А свистка всё нет. Оборачиваемся – а он сидит, на солнышке дремлет. Увидел нас:
– А! Что же вы? Пошли, пошли…
А секундомер давно уже – тик-тик-тик.
Вот такой он был. И однажды – исчез. Вернее, пришёл на урок другой. Совсем. По фамилии Ционский. Сначала он мне понравился: молодой, подтянутый. И свисток – три дудки. Громкий, резкий.
Ционский нам сразу же такую дал разминку, что ночью потом никто заснуть не мог – кости гудели.
– Я, – говорит, – сделаю из вас людей!
А после разминки устроил всем нам испытание.
– Присесть на одной ноге! Только шестеро смогли. И я.
– Теперь встать на одной ноге!
И вдруг – встаю один я. Остальные валятся.
– Фамилия?
– Горохов.
– Я, – говорит, – беру тебя к себе в спортшколу… Потом ещё на велотрек записал и в бассейн. И пошло!
Раньше после уроков я с друзьями во дворе сидел. Ефремов со своими рыжими кудрями. Соминич в зелёном свитере. Хохмили. Смеялись. А теперь я занятой стал. Только прохожу мимо:
– Привет, ребята!
– К Ционскому пошёл? Ну, вали, вали.
А Ционский всё человека из меня делал – раз-два, раз-два! И действительно, я здорово изменился. Раньше, скажем, походка у меня была необычная: я так правой рукой двигал внизу. Меня все издалека узнавали:
– А вон Горох наш гребёт! А теперь не узнают.
Потом постричься велел коротко. Мне вообще шла причёска, но раз надо.
И вот примерно к весне я уже быстрей всех бегал. Ционский смотрит, глаза щурит:
– Я, – говорит, – узнавал, ты к тому же отличник и вообще…
– Да, – говорю, – так уж вышло.
– Пожалуй, – говорит, – я за тебя возьмусь. Сделаю хоть из тебя человека.
И вот в воскресенье заезжает за мной на своей машине. Сигналит под окном. Я выхожу. Едем.
– Что это, – спрашивает, – на тебе за хламида?
А на мне вельветка была, ещё бабушка сшила. Пообтрепалась, конечно, но я её любил.
– Завтра снимешь. Спортобщество тебе куртку выдаст, стального цвета. Форменную.
Едем.
– А чего заспанный такой?
– Да спал.
– Ты, я вижу, любишь поспать.
– Ага. Люблю.
– Придётся бросить.
– Да я после обеда.
– Да… И ешь ты много, парень. Придётся об этом забыть.
– Понимаете, очень уж вкусный был обед. Холодец. Давно так ножек в продаже не было. И вдруг входит моя тётка в мясной и видит на прилавке четыре коровьих ноги. Она, конечно, схватила их сразу. Обрадовалась. Так прямо домой и вбежала – на четырёх коровьих ногах…
Ционский слушает и внимательно так на меня смотрит.
– Знаешь, – говорит, – я давно за тобой замечаю. Что-то ты часто фантазируешь. Брось. А то ничего у нас не выйдет.
И тут вдруг такое зло меня взяло!
Причёску состригли, походку изменили, разговоры свои оставь, от этого откажись, то брось, это забудь, – что такое?! Скоро вообще ничего от меня не останется. Уж и не я буду, а так, приложение к шиповкам.
– Понимаешь, – говорит Ционский, – задумали мы одно дело. Создать летний показательный лагерь. Из образцовых ребят, эталонных. Для кино будем снимать, в журналы.
«Да, – подумал я, – представляю, какая там будет тоска!»
Что-то не захотелось мне быть эталоном.
– Сейчас, – говорит, – тебе только испытание пройти – и всё.
«Ну ладно!» – думаю.
И вот вхожу в зал. За столом – комиссия. Сбоку шкаф.
– Ну, расскажите о себе. Какими видами спорта занимаетесь?
– Я? Да никакими. В футбол иногда гоняем. Помню, однажды дотемна гоняли. Мяча уж не было видно. Тогда мы натёрли его чесноком и по запаху играли.
– Та-а-к, – озадачены.
– Ну, а какую вообще работу ведёте?
– Где? Во дворе?
– Ну, хотя бы.
– Недавно кошачью почту наладили.
– Та-а-к, – зашептались.
– Ну, а вообще как? С девочками дружите?
– Была одна. Зимой. Очень любила по морозу гулять. Через весь город. Я побелею весь, дрожу, а она – хоть бы что – румяная, смеётся.
– Ну, а дальше?
– А дальше весна пришла.
– Ну и что?
– Ну, понятно, и растаяла она.
Тут Ционский вспылил, вскочил и в шкаф ушёл. И дверью хлопнул.
– Как же это, – говорю, – он в шкаф-то ушёл?
– Это не шкаф. Там у нас ещё одна комната.
– А-а. Понятно. Шепчутся.
– Подождите пока в коридоре, мы вас вызовем. Вышел в коридор. Тут взбешённый Ционский подбегает.
– Эх ты! Не мог уж удержаться! И эти выдумки твои…
– А если мне нравится выдумывать?
– Мало ли что тебе нравится! Иногда приходится отказываться от своих слабостей. Да и не только от слабостей! Вообще иногда ради успеха приходится от себя отказываться!
– А я, – говорю, – не хочу. Понимаете? И ушёл. Домой уже пешком шёл.
Во дворе друзья мои сидят. Сначала они вообще не хотели принимать меня в беседу.
– Иди, – говорят, – к своим эталонам! Но потом ничего, разговорились.
А вечером собрал я портфель и в бассейн пошёл. Я вообще люблю поплавать. Но не для рекордов, а так, для удовольствия.
Плыву это я, и вдруг рядом Ционский плюхается.
– Послушай, – говорит, – дело есть…
Ничего я ему не сказал. Только молча отплыл по-собачьи.
Все мы не красавцы
Жил я с бабушкой на даче. Днём купанье, езда на велосипеде. Вечером – сон. Расписание. Режим.
И вдруг в субботу глубокой ночью является мой друг Слава. Застучал, загремел. Открываю – вбегает:
– Ну как?!
– Что как?
– Всё в порядке?
– Вообще да. А у тебя?
– У меня тоже. Ну хорошо. А то я что-то волновался, – говорит.
Прошли мы с ним на кухню, сели.
– О, – говорит, – капуста! Прекрасно.
Захрустел той капустой, наверно, весь посёлок разбудил.
– Представляешь, – говорит, – совершенно сейчас не сплю.
– Да, – говорю, – интересно.
А сам чуть с табуретки не валюсь, так спать хочется. Вдруг бабушка появляется в халате. Спрашивает:
– Это кто?
– Как же, – говорю, – бабушка, это же мой друг, Слава, неужели не помнишь?
Слава повернулся к ней и говорит:
– А! Привет!
Так прямо и говорит, – привет! Он такой.
– Нет, не помню, – отвечает бабушка. И ушла.
– О, – говорит Слава, – котлеты! Прекрасно!
– Ты что, – спрашиваю, – так поздно? Твои-то где?
– Да за грибами. Ещё с пятницы.
– Ты, что ли, есть хочешь?
– Ага. Они вообще оставили мне рубль, да я его отдал.
– Отдал? Кому?
– Да одному старику. Подъезжает ко мне на улице старик на велосипеде. Сейчас, говорит, покажу тебе фокус. Разжимает ладонь, там лежит двухкопеечная монета позеленевшая. Решкой. Зажал он кулак и спрашивает: «Ну а сейчас, думаешь, как лежит?» Да решкой, говорю, как и лежала. Тут он захохотал и разжал. А монета, действительно, лежит решкой. Он как увидел это – оцепенел. А потом так расстроился, заплакал. Что-то мне жалко его стало. Догнал я его и рубль свой в карман сунул. Не расстраивайтесь, говорю, вот вам рубль на всякий случай.
– Да, здорово, – говорю я Славе, – на вот, ешь сметану.
– Нет, – говорит Слава, – сметану ни за что!
– Да ешь, чего там!
– Нет! Я же сказал. За кого ты меня принимаешь? Странная такая гордость – только на сметану.
– Ну ладно, – говорю. А Слава излагает:
– Ну вот. И остался я без денег. Расстроился сначала. А потом думаю – а, не пропаду! И действительно. Не пропал. Хожу я по улице, хожу. Хожу. И вдруг проезжает мимо меня брезентовый газик, – знаешь, ГАЗ шестьдесят девять, на секунду поднимается брезент, и оттуда цепочкой вываливается несколько картофелин. Отнёс я их домой, взвесил – ровно килограмм. Представляешь? А потом, уже вечером, какие-то шутники забросили мне в окно селёдку. Ещё в бумагу завёрнута промасленную, а на ней на уголке написано карандашом: восемьдесят копеек. Ну что ж. Для них, может быть, это и шутка, а для меня очень кстати! Отварил я картошку, с селёдочкой поел – прекрасно!
– Тише, – говорю, – не кричи.
И тут действительно бабушкин голос:
– Ну всё, я закрылась, буду спать. Теперь пусть забираются воры, бандиты – пожалуйста!
И раздалось такое хихиканье из-под двери.
– Ну вот, – продолжал Слава, – и вдруг вызывают меня в милицию. Сидят там трое ребят наших лет. Вот, говорит милиционер, задержана группа хулиганов. Забрасывали в окна селёдки. Да это, говорю, не хулиганство! Надо различать. Мне так очень понравилось. Сельдь атлантическая, верно? Да, – хмуро говорит один. И тут появляется участковый, Селивёрстов. Задумчивый.
– Да, – говорит, – надо им руки понюхать. У кого селёдкой пахнут – тот и кидал.
Оказалось, только у меня пахнут. Селивёрстов тогда и говорит:
– Ну ладно, если пострадавший претензий не имеет и руки у вас селёдкой не пахнут, тогда с вас только штраф – восемь копеек.
– А кому платить? – спрашивают.
– Вот ему, – и показывают на меня.
Вот так. Пошёл домой. А те шутники благодарные под окном моим ходят с гитарами, поют. И вдруг – Селивёрстов!
– Ты, – говорит, – не обращай на меня внимания. Я просто так. Очень ты мне понравился. Уж очень ты благородный. Я посижу тут и уйду. Сам знаешь: всё больше с преступниками дела, а с тобой и посидеть приятно. Посижу тут, отдохну и пойду.
Потом жаловаться стал:
– Все, – говорит, – видят во мне лишь милиционера, боятся, а иной раз так хочется поговорить просто, по-человечески. И с тобой вот – поговорить бы на неслужебные темы. Не веришь? Я даже без револьвера – вот.
– Знаете что, – говорю я ему, – как раз перед вашим вызовом шёл я звонить по важному делу.
– Ну что? – говорит. – Иди звони. На вот тебе две копейки.
Даёт двухкопеечную монетку позеленевшую. Взял я её, выбежал на улицу и вдруг остолбенел! Такая мысль: картошки кило – десять копеек, селёдка – восемьдесят. В милиции дали – восемь, да сейчас – две. А в сумме – рубль! А отдал-то я как раз рубль! Представляешь?
Слава замолчал. Я тоже молчал, потрясённый. Мы так посидели, неподвижно. Потом Слава вдруг взял белый бидон, заглянул и говорит оттуда гулко:
– Что это там бултыхается в темноте?
– Квас.
– Можно?
А сам уже пьёт.
– Ну, всё, – говорит, – а теперь спать.
Пошли мы в комнату. Легли валетом. Слава сразу заснул, а я лежал думал. Луна вышла, светло стало. И вдруг Слава, не открывая глаз, встаёт так странно, вытянув руки, и медленно идёт! Я испугался – и за ним.
Вышел он из комнаты, прошёл по коридору и на кухню! Так же медленно, с закрытыми глазами, берёт сковороду, масло, ставит на газ, берёт кошёлку с яйцами, начинает их бить и на сковороду выпускать. Одно, другое, третье… Десять яиц зажарил и съел. Потом вернулся так же, лёг и захрапел.
Смотрю я на него и думаю: вот так! Всегда с ним удивительные истории происходят. Это со мной – никогда. Потому что человек я такой – слишком спокойный, размеренный. А Слава – человек необычный, потому и происходит с ним необычное. Хотя, может быть, конкретной этой истории с рублём вовсе и не было. Или, может, было, но давно. Или, может, ещё будет. Наверно.
Но, вероятнее всего, он рубль свой кому-нибудь просто одолжил. Попросили – он и дал, не раздумывая. Он такой. А историю эту он рассказывал, чтоб под неё непрерывно есть. Видно, очень проголодался. Будто б я и так его не накормил! Ведь он же мой друг, и я его люблю. Мне все говорят: тоже, нашёл друга, вон у него сколько недостатков. Это верно. Что есть, то есть. Вот ещё и лунатиком оказался. Ну и пусть! А если ждать всё какого-то идеального, вообще останешься без друзей!
Все мы не красавцы.
Как-то я разволновался. Сна – ни в одном глазу. Вышел на улицу, сел на велик и поехал. Луна светит, светло. И гляжу я – на шоссе полно народу! Вот так да! Мне всё – спи, спи, а сами – ходят! И ещё: подъезжаю обратно, вдруг какая-то тень метнулась, я свернул резко и в канаву загремел. Ногу содрал и локоть. Вылезаю и вижу – бабушка!
– Бабушка, – говорю, – ну куда годится: в семьдесят лет, в два часа ночи – на улице!
– Ночь, – говорит, – нынче очень тёплая. Не хочется упускать. Не так уж много мне остало

сь.
Вошли мы в дом, и вдруг вижу – опять по коридору Слава бредёт – руки вытянуты, глаза закрыты. Я даже испугался: сколько же можно есть?
А он – на кухню, посуду всю перемыл, на полку составил и обратно пошёл и лёг.







