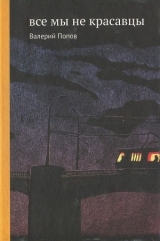
Текст книги "Все мы не красавцы"
Автор книги: Валерий Попов
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 8 страниц)
Валерий Попов
Все мы не красавцы

Моя бабушка
1

Когда мне было три года, я умер от дизентерии. Было шесть часов вечера. Заплаканная мама сидела на стуле. Медсестра собирала блестящие инструменты. А я лежал на кровати, накрытый простыней. И тут вошла моя бабушка.
– Что нового? – спросила она.
– Саша умер, – ответила мама.
– Не может быть, – закричала бабушка, – он ещё такой молодой!
Она вырвала у медсестры банку со спиртом, сбросила на пол простыню. И стала меня растирать. Она тёрла меня долго. И вот я из синего стал красным. Потом я открыл глаза, на которые ещё не успели положить мелочь.
2
Сам я этого случая не помню. Бабушка рассказала мне его, когда мне было пять лет. Мы шли из магазина. В конце улицы садилось солнце. Бабушка шла рядом, и из её сумки торчали головы каких-то маленьких рыб.
Я шёл и думал о том, как бабушка меня спасла. Потом мои мысли перескочили.
– Бабушка, – спросил я, – ты когда-нибудь лису видела?
– Нет, лису не видела, – ответила бабушка, – однажды видела петуха, которого несла лиса. Гляжу – петух по воздуху вверх ногами плывёт…
3
Почему-то считается, что мальчишки должны быть сорванцами. А я был другим. Я не лазал через заборы. Не бил стёкол на переменах. Я был потенциальным ябедой.
Каждый четверг по дороге домой меня окружали мои одноклассники. Они били меня портфелями, в которых лежали пеналы. Я приходил домой и шёл к бабушке. Она рассказывала мне свои странные истории. В них не было богатырей, без разбору отрубающих головы. В них действовали какие-то чудаки, во всём находившие смешное…
В очередной четверг я стоял в тупике, а у выхода из него собрались кружком мои мучители. И вдруг я заметил, как смешно у них торчат вешалки. Почти у всех. И я засмеялся. Этим я нарушил все правила. Смеющегося человека бить очень трудно.
Озадаченные одноклассники разошлись. Так моя бабушка выручила меня второй раз. Теперь, когда я встречаюсь на улице с врагом, я в первую очередь смотрю, не торчит ли у него вешалка…
После того случая я подружился с ребятами. Но драчуном я так и не стал. Не стал. Я остался таким же тихим.
4
Сейчас мне двадцать два года, и я живу на Сапёрном переулке. Нашему дому делают ремонт. Он весь покрыт лесами. Сначала было непривычно. Сидишь за столом и вдруг видишь – во всё окно стоит человек и смотрит на тебя. Но потом всем даже понравилось. Особенно бабушке. Вот она входит в комнату и залезает на стол. За окном, между рамами, у неё лежит мясо в целлофане. Бабушка тянется через форточку, но достать мясо не может. Тут по лесам проходит рабочий.
– Эй, парень, достань мясо! – кричит ему бабушка. Рабочий нагибается и достает целлофановый сверток. Бабушка кладёт его на стол. Потом высовывается из форточки по пояс и что-то начинает говорить.
Здоровый, небритый детина стоит на лесах и улыбается. Вот нахмурился, а вот опять улыбается.
Интересно, что она ему говорит?
Это именно я
1
«Болезненно застенчивый» – так про меня говорили учителя. Когда я услышал это в первый раз, на перемене я ушёл во двор. Я полез за дрова, а сверху накрылся толем. Было темно и уютно, и я подумал: вот просидеть бы так всю жизнь.
Но тут я услышал, что ко мне залетел комар, и я подумал: откуда зимой комар, – и вдруг понял: это не комар, это звонок, и мне нужно идти в класс. Я шёл через ровный двор с ржавым турником и сараями на горизонте.
Пока я шёл, я помнил про швабру, но потом забыл и открыл дверь в класс, и швабра вместе с тряпкой упала на меня. В проходе я наступил на пластилиновую бомбу с чернилами. Ручка моя была воткнута в парту и сломана.
«Ручка-то в чём виновата?» – подумал я и почувствовал, как по щеке течёт слеза.
Я понюхал парту, – так и есть, они натёрли её чесноком. Я обернулся, чтобы закричать на них, но у них были такие радостные лица, они так были довольны!
2
После уроков мы стояли в раздевалке, у железной сетки, и один из братьев Соминичей спросил Славу Самсонова:
– А что, Гороха сегодня бить будем?
– Гороха? – задумчиво сказал Самсонов. – Да надо бы. Что, Горох, бить тебя сегодня или нет? Молчание – знак согласия!
Он толкнул меня на вешалку, и мы вместе с ней упали. Я лежал на полу, а рядом валялись номерки – номер семь, номер девять, номер двенадцать. Они сверкали под лампочкой, и от них во все стороны расходились жёлтые усики.
– Да ну его, – сказал Самсонов, – опять он молчит. Ты когда-нибудь слышал его голос? И я нет. О чём он там всё время думает? А?
3
Когда я пришёл домой, отец пил чай. Он дул на него, и на чае получалась ямка, и отец гонял её, гонял, словно хотел загнать куда-то далеко-далеко.
Мама сделала лицо. Это значило – не приставай к отцу! Но тут отец поднял голову и сказал:
– Слушай, сынок. Ты уже не маленький. Ты всё должен знать.
И он рассказал мне, что хотел с получки пойти в баню. У банной кассы он вынул из кармана десять рублей, взял их в зубы, а сам стал искать в кармане мелочь. А в этот момент мимо пробежал человек. Он на ходу вырвал у папы из зубов десятку и убежал. Отец постоял, выплюнул уголок бумаги, который остался, и пошёл домой. И теперь сидел и пил чай.
– Ну, а как твои дела? – спросила меня мама.
Я почувствовал, что всё сейчас расскажу, и заткнул рот батоном. Я жевал и глотал батон, а родители смотрели на меня.
– Я же тебе говорила, Пётр, – сказала мать отцу, – а ты всё своё: ребёнок привыкнет, у него появятся друзья, – а где они, эти твои друзья, где он привыкнет? Ты видишь, каким он возвращается каждый раз?
Отец обнял меня и молчал.
– Ты бы, сынок, постарался, – сказал он наконец, – поговорил бы с ребятами. Они, знаешь, весёлых любят, громких.
– Сам ты что-то не очень громкий, – сказала мама.
– Почему же, – обиделся папа, – ты бы на работе меня видела. Там я бойкий, весёлый. Шучу. Все смеются.
Мать махнула рукой и ушла на кухню. Но сразу же вернулась.
– Вот уже пятый десяток тебе. А где твои друзья? Хоть раз помнишь, чтобы у нас весело было, песни там или что?
– Ну как же, а Морозовы? Морозовы друзья нам или как?
– Друзья? – фыркнула мать. – Три года уже не были. И тогда, помню, всё зевали, на часы поглядывали. А может, действительно на Первое мая пригласить их?
– Хм, – сказал отец, – можно бы. Можно пригласить. А потом, глядишь, так и пойдёт – мы к ним, они к нам. Я с Алексеем в шахматы…
– А я с Татьяной на кухне там чего! Ну так пригласишь?
Отец молчал.
– Да нет, – сказал он наконец, – не стоит. Да и не придут они.
Мама ушла на кухню.
4
На следующий день из школы домой я бежал и прибежал весь красный. Дома я снял шапку, и с головы пошёл пар.
– Ты чего, сынок, такой весёлый? – спросил отец. Я залез в шкаф, зарылся в чистое бельё и оттуда стал кричать, что сегодня братья Соминичи пригласили меня в баню.
– Ну, – обрадовался отец, – это как же?
– А вот так, – гулко кричал я из шкафа, – подходят они ко мне на перемене и говорят: «Горох, мы сегодня в баню идём. Пошли с нами!»
Тут всё из шкафа свалилось на меня, я запутался в полотенцах, майках, пододеяльниках. Отец помогал мне вылезти, и мы оба смеялись.
Кое-как мы запихали всё обратно в шкаф.
– Мать, – закричал папа, – собери-ка Александру бельё! Он в баню идёт.
Папа надел пальто и куда-то вышел. Вернулся он скоро и достал из кармана длинный батон. Я взял его в руки и увидел, что это не батон, что это такая красивая мочалка. Она пахла, как целый стог сена.
– Вот, – сказал отец, – чтобы уж всё было, как следует.
Тут меня всего так и пронзило, даже слёзы брызнули, так и захотелось забросить эту мочалку куда подальше!
Через десять минут я шёл по улице с набитой сеткой и вдруг увидел впереди Соминичей, – один чемодан на двоих. Я догнал их. Они молчат. И я молчу. Они остановятся, – и я, словно мне шнурок нужно завязать.
Вдруг один из них меня заметил и толкает другого.
– А ты что? – говорит ему другой. – Забыл? Мы же его в баню пригласили. Ну что, Горох, собрался? Трусы не забыл? А полотенце? А мочалку?
Как он про мочалку сказал, так я чуть не свалился прямо тут, у бани!
– Ну вот, – удивился Соминич, – а чего я такого сказал?
В бане было тепло, хорошо, тазы звенели. На трубе, под самым потолком, сидел голубь. Он вспотел, был совсем мокрый и, видно, сам был не рад, что сюда попал. Все столпились внизу и обсуждали, что делать с голубем.
– Да выпустить его надо на волю, – говорил краснолицый священник с крестом.
– Да, выпустить, – говорил длинный парень в запотевших очках, – он же сразу обледенеет.
Но тут один, коренастый и весь разрисованный чернилами, вдруг выругался, растолкал всех и полез по трубе, покрытой капельками. Он долез и снял голубя. Голубь затрепыхался и когтями порезал ему руку. Но он только засмеялся и прямо спрыгнул на скользкий кафельный пол, проскользил по нему и остановился в глубокой мыльной луже. Он погладил голубя, – голубь был взъерошенный, даже видна была его кожа. Разрисованный погладил голубя и посадил его пока под перевёрнутый таз.
– Пойду жене звонить, – сказал он, – чтобы шаль принесла. Автомат тут есть?
– Есть, есть, – сказал священник, – иди, хороший человек.
– Ну, – сказал Соминич, – берём тазы!

Мы взяли тазы. У меня был таз светло-серый, у одного Соминича рябой, а у другого совсем почти чёрный. Мы налили их горячей водой и осторожно поставили на скамейки.
– Ну у тебя и мочалка, – сказал Соминич, – представляю, как ей можно помылиться!
– А вот так, – сказал я и стал тереть об неё мыло, потом стал тереть себя, пена росла всё больше, на ней крутились пузыри, и в пузырях отражались окна и лампочки, и там они были кривыми и разноцветными. Я замылил себе лицо, потом пена попала в уши, и я стал слышать глухо.
– Ну, хватит, – словно издалека услышал я голос Соминича, – теперь смывай!
Я протянул руки, – но таза с водой не было. Я ощупал всю скамейку, – но таза не было. Я вытянул руки и пошёл вперёд. Тут я услышал тихий смех, и кто-то из братьев меня ущипнул. Мыло попало мне в глаза, в рот, и я чуть не задохнулся. Тут на меня нашла такая ярость! Не глядя, в темноте, я размахнулся изо всех сил и ударил. И радостно засмеялся, потому что попал прямо в зубы. Я стоял и смеялся, но тут вдруг почувствовал такой удар! Я упал и легко, как обмылок, проскользил под скамейками до стены. Тут я через мыло открыл глаза и увидел, что надо мной, тяжело дыша, стоит разрисованный чернилами и заносит кулак для нового удара.
– Ты что же, – кричал разрисованный, – за что же ты меня в зубы ударил?
Пока он говорил, рука его опустилась, он только взглянул на меня ещё раз, взял из-под таза голубя и вышел. Когда я пришёл из бани, я слышал, что родители не спят. Я молча разделся и лёг.
5
На следующее утро я проснулся и очень удивился тому, что я ещё есть. Тикали часы. Светила лампа. Отец сидел спиной ко мне и ел.
– А, сынок, проснулся, – сказал отец, – садись-ка за уху!
Я подошёл к столу. Действительно уха. Странно. Уха меня развеселила, я словно забыл про вчерашнее. Я быстро поел, оделся и пошёл. У ворот в тулупе стоял наш дворник Кирилл. Проходя мимо него, я очень старался не встретиться с ним глазами. Я всегда стараюсь входить и выходить, когда его нет. Потому что я не знаю, здороваться мне с ним или нет? Я и не здороваюсь. А это так неприятно – молча мимо него проходить. Вокруг нас с ним словно какая-то область получается, в которой даже двигаться труднее, чем просто в воздухе. Наверное, он думает, что я не здороваюсь потому, что за человека его не считаю. Это ужас, если он так думает! Дело вовсе не в том, что он дворник, просто нас с ним не представили. Вот и сейчас. Очень трудно идти. И вдруг я заметил, что голова его медленно вниз ползёт. И тут я понял: это он поздороваться хочет, но так, если я не отвечу, – будто бы это он просто почесался.
– Здрасте, Кирилл, – сказал я.
– Здрасте, Саша, – сказал он и так улыбнулся, что я засмеялся.
Я побежал по улице. Впереди шёл длинный-длинный старик в полосатых брюках.
«А что, если у него время спросить? А? – подумал я. – Что тут такого?»
Я догнал его и спросил каким-то патефонным голосом:
– Не скажете, который час?
Старик остановился, полез в жилет и достал часы с серебряной крышкой.
– Сейчас, – сказал он, – стрелка до минуты дойдёт. Всё. Восемь часов сорок пять минут. А вы видели гденибудь такие часы? То-то!
После него я спрашивал время у милиционера, у молочницы, которая достала часы со дна бидона, у молодой красивой женщины с часами в браслете.
– Сколько времени? – спросил я весело у гуталинщика. – Спасибо, – сказал я, – пять минут десятого? Это что же выходит?
Тут я припустил по бульвару и в школу прибежал ровно в девять.
6
Я сидел и думал. Почему? Почему, когда на меня смотрят, я отвожу глаза? Почему даже первоклассницы рисуют на мне мелом? Почему, когда на меня машут рукой, я краснею и отхожу в сторону?
Я думал, думал и всё сильнее волновался и вдруг решил попробовать. Хоть капельку. Конечно, никогда меня не будут так любить и бояться, как Самсонова. Но, может, всё же попробовать?
Как раз была перемена, и ребята стояли у печки и говорили.
– Ну, – сказал я себе, – пора! А может, рано? Куда спешить? Почему же сегодня?
Но тут я так на себя разозлился! Я вскочил с парты, пробежал по проходу, раскидал толпу, обнял Самсонова за шею, стукнулся с ним лбами. Все оцепенели и смотрели на меня. А я молчал. Я не знал, что сказать.
– Ты что это? – медленно спросил Самсонов. Я молчал и только обнимал его.
– Наш Горохов что-то совсем запарился, – сказал Соминич.
Все засмеялись. Раздался звонок.
7
После уроков я бегал по улице и никого не находил. Ведь здесь, на этой самой улице, были люди, которые говорили со мной, улыбались, их было много, куда же они все подевались? Тут я вспомнил про гуталинщика, – он-то, наверное, на своём месте?
Он был на месте. Но он был совсем не тот, что утром. Он был усталый и молчаливый. Он посмотрел на меня и не узнал. Я прошёл мимо. Дворник в тулупе всё так же стоял возле парадной. Он посмотрел на меня и зевнул. Словно ничего у нас утром и не было. А что, собственно, было? Ничего и не было.
8
Вечером, сделав уроки, я сидел на стуле. Тикали часы. Горела лампа. Вдруг я представил себе, как пройдёт пятьдесят лет и я буду так же сидеть на этом стуле, и так же будет гореть лампа и тикать часы. Мне стало так страшно, – я вскочил и выбежал на улицу. На улице шёл дождь. Нигде не было ни души. Я бежал мимо забора и вдруг увидел объявление:
«Открыт набор…»
Я сделал вид, что не заметил. Эти объявления давно уже меня мучили. А я бежал быстро – свободно мог и не заметить.
– Ты хоть себе-то не ври! – крикнул я и заставил себя вернуться.
Открыт набор в детскую спортивную школу. В секцию баскетбола. Занятия по вторникам и пятницам во Дворце пионеров.
9
Нас выстроили в большом холодном зале вдоль шведской стенки. В майке и трусах было холодно. Вдали стояли брусья, а под ними один на другом лежали чёрные маты. Тренер заставил нас бегать по кругу. Потом мы на бегу подпрыгивали, стараясь достать до щита. Потом тренер бросал навстречу каждому мяч и нужно было провести его и попасть в кольцо. Я стоял и видел, как один за другим исчезают передо мной ребята, и вот я стою один, передо мной ровный паркетный пол, и на меня сбоку летит огромный чёрный мяч!
Я схватил его, стал бить, бить и бежать, и я бил и бежал и вдруг увидел перед собой брусья, нагнулся, пролетел под ними, а дальше была стена, я пытался вести по стене, но мяч свалился и укатился.
«Ну, всё», – подумал я и сел на скамейку. За спиной была тёплая батарея. Я видел, что ребята разбились на команды и играют, и каждый старался блеснуть – кто дальними бросками, кто проходами, кто обманными движениями. Тренер очень смущался из-за этого и делал вид, что не смотрит. А я сидел. Вдруг я услышал, что кто-то сел рядом. Потом я услышал вздох. Это был тренер. Он посмотрел на меня, положил мне руку на плечо.
– Прыжок у тебя хороший, – сказал он и опять вздохнул.
10
Мы занимались уже третий месяц. Пятеро из нас вошли в команду. Капитан был Леня Градус. А я был запасной. После тренировки мы строились в шеренгу. Тренер обходил нас и каждому говорил что-нибудь приятное. Возле меня он всегда как-то мялся.
– Прыжок у тебя хороший, – говорил он наконец, делая ударение на слове «прыжок». Он говорил мне это каждый раз. И наконец я понял, что это значит, – уходи-ка ты, братец, из секции. И я ушёл. Потом я жалел об этом. Может, из меня вышел бы хороший баскетболист. Ведь говорил же мне тренер, что у меня хороший прыжок.
11
Я думал, что после баскетбольной истории мне будет хуже. Но мне было лучше. Я чувствовал, – что-то началось. Но тут случилось лето и произошли каникулы. Каникулам полагалось радоваться, но я не радовался. Я спал, спал целые дни и весь был в пуху, и в голове моей звенело. Но вдруг однажды я проснулся рано-рано, ещё в темноте. Я думал, что все ещё спят, но тут вдруг заметил, как в темноте что-то постукивает и поблескивает. Я понял, что это папа завтракает, не зажигая света. Я оделся и вышел вместе с ним на улицу. Я никогда ещё не был на улице в такое время. Там было очень хорошо.
12
Сначала отец возражал, но потом всё же устроил меня к себе на балалаечную фабрику. Двадцать седьмого июня я вышел на работу. Сначала я прошёл настроечный цех. В высоком, сумрачном зале сидело много-много людей, и каждый мрачно играл на балалайке. Пройдя настроечный цех, я попал в сушилку. Там было очень жарко. По стенам стояли пятиметровые штабеля вырезки (вырезка – это такие деревянные бруски).
В начальники мне дали Лёву – маленького, веснушчатого человека в большой пыльной кепке. Лёва залезал на штабель, а потом как-то втискивался внутрь. Резко выпрямляя руки и ноги, он взрывал штабель изнутри. И падал с пятиметровой высоты. Не успевал я прийти в себя, как уже из тучи пыли появлялся Лёва и начинал кричать, – почему я не гружу вырезку.
Я начинал грузить её в ящик. По бокам к ящику были приделаны ручки. Как к носилкам. Мы с натугой поднимали ящик и медленно шли через двор. В середине двора была клумба, на которой росли красные цветы. В цветах легко ходила кошка с голубыми глазами. В углу двора из-под кирпичного дома торчала тонкая железная труба. Из трубы шёл пар, и иногда она плевалась горячей водой метров на шесть.
Пройдя через двор, мы приходили на склад. И тут я каждый раз допускал ошибку. Я переворачивал ящик раньше времени – и ставил Лёву на голову. Лёва вскакивал и бежал ко мне, размахивая сушёным поленом. Но я всякий раз успевал извиниться. Ворча, Лёва отходил.
13
Потом нас перевели работать на шестой этаж. Там мы грузили занозистые доски на платформу, которая раз в минуту с грохотом проваливалась куда-то вниз. В воздухе летала деревянная пыль. Лёва натягивал кепку, брал в рот свитер, так что лица его вовсе не было видно. Когда платформа появлялась, он хватал ровно десять досок и одним и тем же движением бросал их на платформу. Но скоро по этому движению – Лёва берёт десять досок и бросает их на платформу – я научился чувствовать, когда Лёва весел, когда расстроен, когда доволен собой, но не хочет этого показать, и когда ему на всё наплевать, и когда он с волнением думает обо мне, – всё это я научился понимать, хотя лицо его всегда было закрыто. Вокруг нас было ещё много людей. Сначала я никак не мог их запомнить. Но потом так запомнил, что теперь уже никогда не забуду. Я стал понимать каждое их выражение глаз, каждое их вроде бы случайное и простое слово. Первый раз в жизни я так чувствовал людей, и это было так интересно и так трудно, что я уставал от этого больше, чем от досок.
По утрам мы все вместе поднимались в лифте. Лифт был большой, жёлтый изнутри, и в нём горела лампочка. Лифт поскрипывал, шёл вверх, и все в нём молчали. Все понимали, что нельзя так стоять, что надо что-то сказать, быстрее что-то сказать, чтобы разрядить это молчание. Но говорить о работе было ещё рано, а о чём ещё говорить, – никто не знал. И такая в этом лифте стояла тишина, хоть выпрыгивай на ходу. Честное слово, легче было пешком идти. Но я снова и снова ехал в этом проклятом лифте. Однажды я даже взял с собой детскую дудочку, чтобы заиграть на ней, только лифт в этот день сломался. Но во мне уже поднималось какое-то упрямство и веселье. В этот день после работы я сидел в раздевалке, стряхивая с пиджака опилки. Тут вошли Лёва и ещё один, Шепмековский. Лёва громко рассказывал про лунатиков, про их огромную силу. Тут я кончил завязывать шнурок и спокойно сказал:
– Это верно. Вот я, например, лунатик. Сегодня ночью луна была, так я свою железную кровать узлом завязал.
Все засмеялись. И я тоже.
После этого я стал замечать, что очень изменился. Раньше, когда я сидел один в раздевалке перед своим шкафчиком и кто-нибудь входил, – я тут же выходил. А теперь я оставался. Совершенно спокойно. И даже с удовольствием.
14
Я кончил работать, и лето уже кончилось. Я лежал на горячем песке и чувствовал запах сосен и пытался сосчитать их по запаху. Потом я вставал и шёл по пляжу, и снова падал на песок, и лежал. Я был не один. По пляжу бродило много людей, жующих длинные сосновые иголки, снимающих с лица тёплую осеннюю паутину, улыбающихся счастливо и сонно.
15
Первого сентября мы собрались в непривычном классе. Каждый чувствовал, что как-то изменился за лето и все другие как-то изменились, и никто ещё вроде не знал, что делать и как себя вести: все немножко позабыли прежних себя и прежних других, и уже не было ясно, как прежде, кто хороший и кто плохой, кто главный и кто не главный.
Соминич ходил по классу и всем говорил:
– А я вот форму порвал. И не жалею. Потом он стал настойчивей и говорил:
– А я вот форму порвал. И тебе советую.
Но никто его не слушал. Мы стояли у окна и осторожно говорили про лето. И из этого разговора я почувствовал, каким важным это лето было для каждого из нас. Я стоял и говорил вместе со всеми и даже не вспоминал, как мне раньше это было нелегко. После уроков нам не хотелось расходиться. Мы пошли все вместе по улице. Нам хотелось что-нибудь сделать вместе, но мы ещё не знали что. Вдруг Соминич достал пачку папирос и сказал: «Закурим?» Все закурили. Мы шли по Невскому и курили. Вдруг запахло палёным.
– Ребята, – сказал Слава, – кто-то из нас горит. Никто не признавался. Мы шли дальше.
У меня из рукавов повалил дым, но я всё говорил, что это ерунда, неважно, не стоит обращать внимания.
– Ну, смотри, – сказал Слава.
Из-за пазухи у меня показалось пламя.
– Ладно, хватит, – сказал Слава, сорвал с меня пальто, бросил в лужу и стал топтать.
А я стоял в стороне и плакал. Мне не так было жалко пальто, хотя я сшил его на заработанные деньги, главное, я боялся, что ребята по этому случаю вспомнят, каким я был раньше, и всё начнётся сначала.
Пальто уже горело большим и ярким пламенем. Дым поднимался до второго этажа…
И вот ко мне подошёл Слава и молча протянул пуговицы…
Мы сели в автобус и поехали. Я смотрел на ребят и всё боялся, что сейчас начнутся насмешки, как раньше. Но нет, они смотрели на меня хорошо. А Слава всё говорил, что весь класс весь год будет собирать весь утиль, и все деньги пойдут мне на пальто. Он даже пошёл со мной, чтобы сказать это моим родителям.
– Привет, – сказал я, входя в кухню, – а у меня пальто сгорело.
– Хорошо, – сказала мама.
– Это как же хорошо? – спросил я.
– А? То есть плохо, конечно, плохо, – сказала мама, рассеянно улыбаясь.
– Да ты что? – сказал я. – Не понимаешь?
– Тише, – сказала мама, – подумаешь, пальто!
Мы заглянули в комнату. Отец сидел за столом, а перед ним был мужчина с бородой. Они тихо говорили и осторожно касались друг друга, словно оба они были хрустальные.







