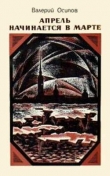Текст книги "Река рождается ручьями. Повесть об Александре Ульянове"
Автор книги: Валерий Осипов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Глава шестая
1
Симбирский холм – посредине России. Скачи от него в любую сторону – одной и той же длины будет дорога до края русской земли... Крестами и куполами своих соборов высоко вознесен холм над Волгой – похож на шишкастый шлем на голове былинного богатыря, врос в местность лобасто, плечисто, осанисто, кряжисто. С вершины его, как с дозорной вышки, гляди не наглядишься. Особенно в начале весны, когда новой синью распахнуты далекие горизонты и, предшествуя разливу вод, переполнена половодьем света бездонная чаша неба над головой.
Весна идет с юга, из-под Астрахани, след в след за солнцем, рождая новые краски, звуки, пробуждая соки земли, настраивая голоса и сердца на юный, светлый мажор. Ушли на север, в Казань и Нижний, кривые дороги: теперь там не в санях, в корытах ездить. Последние метели-пощелейницы еще стеклят лужи, но зиме все равно конец: громче песня большой синицы, осыпаются семенами сосновые шишки, серебристым теплым инеем опушила верба свои первые почки.
Снега лежат еще синие, спокойные, хотя и знают, что лежать им осталось совсем недолго: сквозь них уже проступают будущие голубые прожилки ручьев, нетерпеливое мартовское солнце уже высвечивает под ними дерзкую зелень будущих трав.
Огромной, теплой, щедрой волной идет по земле начало весны. Солнце, готовясь перешагнуть из южного полушария в северное, проводит смотр птичьим караванам перед Дальними путешествиями и, расчищая птицам дорогу от зимних туманов и февральской хмари, открывает ледоход сначала на небе, пуская первыми в путь лебединые стаи кучевых облаков. На их белом фоне картечью рассыпается воронье; скрипя обмороженными голосами и крыльями, кружат они друг над другом высоко в поднебесье, сшибаются и разлетаются в разные стороны, гортанно и хрипло покрикивая друг на друга, роняя вниз черные перья на прыгающих между сутулыми сугробами уставших от январских драк растрепанных воробьев...
Володя отвернулся от реки. Смолисто желтели стены домов в Подгорье, веселыми пятнами вспыхивали на солнце новые крыши. Хозяева чинили покосившиеся заборы – на снег летели кудрявые стружки. Цвели красными женскими платками лестницы и спуски, горбатились рыжие дороги. Четко печатались следы саней на поворотах. Деревья делили небо розовыми ветками, облака цеплялись за сучья, теплой влагой веяло от земли и от неба, все было наполнено ожиданием близких перемен, жаждой обновления, и казалось, что пройдет еще несколько мгновений, и все вокруг изменит свой вид – растают снега, вскроются реки, пробьется наверх трава и небо заполнится клекотом и журканьем перелетных птиц.
– Во-во оборвется, – неожиданно сказал кто-то сзади.
Володя обернулся. Позади него, мечтательно щурясь на Волгу, стоял молодой синеглазый крестьянин в рыжем, высоко под мышками подпоясанном армяке и новых желтых лаптях.
– Что оборвется? – не поняв, переспросил Володя. Синеглазый крестьянин провел варежкой по верхней губе, улыбнулся, бойко затараторил на манер приказчиков из магазина Юдина.
– Позимье, говорю, баринок, должно враз окончиться. Перестоялась ноне зимушка-то. Тимофей-весновей уж прошел, а мы – в город собираться – боимся сани запрягать: не придется ли бросить где, а коня в поводу домой вести... Одно слово, враз все оборвется.
– Может быть, – неопределенно сказал Володя.
– Оно, видишь ли, другой раз как получается, – придет весна ранняя, да ничего не стоит. Затает рано, а не растает долго. Как говорится, обнадейчивая, да обманчивая... А поздняя веснушка – она не обманет.
– Еще морозы могут ударить...
– Мартовский морозец с дуплом, – прищурился синеглазый, – не настоящий. Зима-то теперь и спереди и сзади.
– А как вы думаете – теплая в этом году будет весна? – спросил Володя, искоса поглядывая на молодого крестьянина. – Волга широко разольется?
Мужичонка сдвинул на лоб суконную колпачного вида шапку, поскреб в затылке.
– Про это дело, барин, старики хорошо знают, которые много годов землю топчут и примечают, что и как получается... Все же скажу тебе так: у нас по крестьянству перелетные птахи всем загадкам ответчицы. Садится, скажем, грач сразу на гнездо – весна будет общая, дружная. А ежели гусь низко летит – воды талой совсем не прибудет...
– А если высоко?
– Тогда жди большой воды. А вода и хлебу родительница, и всякой зелени. Вода на лугу – сено в стогу... Теперь возьмем утицу дикую. Прилетела она, матушка, сытая да ленивая – жди отзимка. А там и лето с градом – ни пахать, ни сеять нет резону. Все овсы побьет.
– Что же, совсем не пахать и не сеять?
– Совсем – нельзя, голодень удавку набросит. Но и на большой приварок не надейся.
– Так какая в этом году весна ожидается?
– Видишь ли, барин...
– Вы меня, пожалуйста, барином не называйте. Я не барин.
– А кто же будешь? Из дьяконов?
– Учащийся.
– Ну, да... оно, конечно... Так вот, милый ты человек, ничего нам про нонешние погоды еще не известно... Вот пройдет Прокоп-перезимний, последние сани на гвоздь повесит, тогда на Евдокею-плющиху старцы и скажут, когда пахать, чего сеять...
– А что это такое – Евдокия-плющиха?
– Это, парень, заглавный день всей весне. С ее весь новый год, вся новолетия начинается... Будет, к примеру, Евдокея красна – придет и лето доброе и теплая весна... А не снарядит Авдотья на пироги – протягивай, хрестьянская душа, ноги.
Володя улыбнулся.
– А вы образно выражаетесь.
– Кого?
– Хорошо, говорю, рассказываете о весне. Складно и красиво.
– Это я от баушки от своей научился. Она у меня чистый соловей – на каждый день своя сказка. Как начнет кружева плесть – заслушаешься... Мы, бывалоча, весной лежим на печи, лучина горит, а баушка и сказывает нам... «И-и, говорит, детушки, придет скоро солнышко-вёдрышко, обогреет у землицы студену грудь – стосковалась землица-то под ледяным замком... Разгонит светло солнышко смурую силу, отомкнет ключи журчалые, отворит воды ясные да напоит широко поле и раздолен луг...» А около избы вьюга: у-у-у!.. А баушка и говорит: «Вы, говорит, чадунюшки, сильно-то не бойтесь, понапрасну злой метели не пужайтесь: как зима не злится, все равно весне покорится... Перезимний месяц март-протальник меньшой брат февралю-бокогрею, а Евдокее-плющихе – родной крестный. Вот ужо налютуется зима-прибериха, сойдут снега, подымут хлеба озимые головушки, испеку я вам, ребятки, по калачу да по сдобному жаворонку с конопляным семечком...»
«Какой доверчивый человек, – думал Володя, глядя на расплывшегося в широкой и доброй улыбке синеглазого молодого крестьянина. – Первый раз видит меня, а разговаривает, как со старым знакомым...»
– Вы из каких мест будете? – спросил Володя.
– Мы с-под Ардатова...
– А зовут как вас?
– Зовут Парамоша...
Володя с трудом сдержал улыбку.
– А по отчеству?
– По отечеству буду Лукич.
– Спасибо вам, Парамон Лукич, за хороший разговор. И бабушка ваша мне очень понравилась. Жива она еще?
– Конечно, жива, – чего ей исделается. Всего-то девяносто первый годок с Покрова пошел...
– А вы шутник, Парамоша!
– Это как водится...
– Ну, прощайте.
Володя протянул крестьянину руку. Парамон Лукич взял ее осторожно, с непривычки неловко – одними пальцами.
– Смелее, смелее! – засмеялся Володя и крепко пожал широкую, заскорузлую руку.
Парамон заулыбался, затеплился синими глазами, ответил на пожатие руки.
– Спасибо и тебе, барин, за доброе слово, за обхождение...
– Я же просил вас не называть меня барином! – вспыхнул Володя.
– Извиняйте, конечно, ежели по глупости чего не так сказал...
Крестьянин неожиданно снял шапку и поклонился Володе.
– Сейчас же наденьте шапку!
Парамон нахлобучил колпак, растерянно заморгал.
– Почему вы так плохо думаете о себе? Вы же умный, наблюдательный человек!.. И зачем вам понадобилось кланяться? Что я – исправник, пристав, губернатор? А потом – вы же свободный человек и вообще никому кланяться не обязаны! Ведь теперь воля!
Синеглазый крестьянин внимательно посмотрел на Володю, вздохнул.
– Воля-то она, милый человек, воля, да с непривычки не всегда знаешь, как и ступить...
– Прощайте!
И, резко повернувшись, Володя быстро зашагал от реки.
2
– Александр Ильич, это третья наша с вами встреча, не так ли?
– Совершенно справедливо, господин ротмистр.
– У нас с вами друг от друга секретов нет, а?
– Какие уж там секреты.
– Поэтому о своем участии в деле нужно рассказывать обстоятельно и подробно...
– Я уже рассказал решительно все. Мне совершенно нечего добавить.
– Я перебью, ротмистр... Мы располагаем сведениями, Ульянов, что вы были одним из наиболее активных организаторов замысла на жизнь государя. Вы подтверждаете это?
– Нет, господин прокурор, не подтверждаю. Я вообще не был организатором замысла на жизнь государя императора.
– Ну не организатором – как бы это найти нужное слово... Инициатором, да?
– Инициатором тоже.
– Не хотите ли вы сказать, что ваша роль в деле сводилась только к интеллектуальному участию?
– Приблизительно так и было.
– Но вы же организовали вступление в заговор нескольких лиц, которые обвиняются сейчас по одному с вами делу.
– Я всего лишь несколько раз беседовал с некоторыми из обвиняемых.
– О чем?
– О многом... О ненормальностях существующего строя, например.
– Еще о чем?
– О тех путях, которыми этот строй должен быть исправлен.
– Какие же это пути?
– Пропаганда. Просветительская деятельность. Культурная работа.
– Пропаганда чего?
– Экономических идеалов.
– Господин прокурор, теперь я вас перебью... Александр Ильич, вот вы говорите: экономические идеалы, просветительская деятельность, культурная работа... А бомбы? Отравленные пули?
– Террор необходим, чтобы вынудить правительство к уступкам.
– К уступкам? В чью же пользу?
– В пользу наиболее ясно выраженных требований общества.
– Общество может требовать все, что угодно, стремиться к любым идеалам, но зачем же царя убивать? У него ведь семья, дети...
– Экономические идеалы, господин ротмистр, доступны только зрелому обществу. А эта зрелость достигается политическими свободами. В России же эти свободы отсутствуют полностью.
– Позвольте, но...
– Только при известном минимуме политических свобод целесообразна и продуктивна пропаганда экономических идеалов. Пока их нет – одни лишь бомбы и пули могут заставить правительство дать обществу эти свободы.
– Это программа вашей партии?
– Нет, это мои личные убеждения.
– И эти убеждения вы неоднократно пересказывали своим товарищам по университету?
– Некоторым из них, господин прокурор.
– Склоняя их тем самым к участию в покушении на государя?
– Все участники покушения, насколько мне известно, пришли к убеждению о необходимости террора самостоятельно. Путем зрелого и продолжительного размышления.
– Но вы же не станете отрицать, Ульянов, что, разговаривая о терроре с вашими однокурсниками, вы оказывали на них определенное влияние?
– Влияние это было ничтожно.
– Но оно же могло ускорить намерения этих лиц вступить в террористическую фракцию?
– Очень незначительно. Я повторяю: все участники покушения действовали вполне сознательно и убежденно.
– Александр Ильич, мне хотелось бы немного поговорить с вами насчет Андреюшкина. Не возражаете?
– Отчего же? Пожалуйста.
– Скажите, динамит вы изготовляли только из азотной кислоты?
– Да, только из азотной.
– А сама кислота? Где она была приготовлена?
– В каком смысле – где?
– Ну, скажем, в черте города или в дачной местности?
– Вся кислота была приготовлена в городе. А какое это имеет значение?
– Александр Ильич, мы же условились с вами, что вопросы задаю только я.
– Условились.
– Ну вот и прекрасно... Значит, вся кислота была сделана в городе...
– Да, в городе.
– А не скажете ли точнее, где именно в городе? По какому адресу?
– Мне бы не хотелось...
– ...говорить, что кислота производилась на квартире у Андреюшкина, так, что ли, Александр Ильич?
– Ну, не совсем так...
– И под вашим руководством и по вашим рецептам, а?
– Вся партия азотной кислоты, изготовленная на квартире Андреюшкина, оказалась слабой. Нитроглицерин из нее приготовлять было нельзя, и ее пришлось уничтожить.
– Каким способом?
– Мы вылили ее в Неву.
– Александр Ильич, а ведь вы нас путаете. Нехоро-шо-с... В Неву была вылита та часть кислоты, которую приготовляли у вас на квартире, а не у Андреюшкина. Та самая часть, которую привез из Вильно Канчер. Припоминаете?
– Вполне вероятно. Сейчас я уже не могу точно утверждать, какую именно часть кислоты пришлось уничтожить.
– Теперь относительно динамита, Ульянов... У кого на квартире вы делали его?
– Вы же знаете об этом, господин прокурор, со слов Канчера.
– А сейчас хотелось бы узнать с ваших слов.
– Извольте. Белый динамит приготовлялся мною.
– В Парголове?
– Да, в Парголове.
– Когда?
– В феврале.
– А точнее?
– В первой половине февраля.
– Так, дальше.
– ……………..
– Смелее, смелее.
– ……………..
– Почему же замолчали, Ульянов? Вы, наверное, хотите сказать, что динамит вы готовили в доме акушерки Ананьиной?
– Я давал уроки сыну госпожи Ананьиной.
– И одновременно?..
– В первых числах февраля я попросил Михаила Новорусского найти мне урок.
– Новорусский был вашим другом?
– Нет, просто знакомый.
– Он учился в университете?
– Нет, Новорусский был кандидат Духовной академии. Вы это прекрасно знаете сами.
– Продолжайте, Ульянов.
– Ананьина знала о ваших занятиях с динамитом?
– Новорусский договорился со своей тещей Ананьиной...
– Ульянов, отвечайте прямо на поставленный вопрос: Ананьина знала о том, что в ее доме делается динамит?
– Конечно, нет.
– А Новорусский?
– Тоже нет.
– Но ведь это он предложил вам поехать на дачу своей тещи?
– Нет, давать уроки в Парголове я вызвался сам.
– Между прочим, вина Новорусского от этого нисколько не уменьшится.
– И тем не менее я повторяю: идея поездки в Парголово принадлежит только мне.
– Александр Ильич, я понимаю: вы человек благородный, хотите полностью выгородить Новорусского и Ананьину...
– Они решительно ни в чем не виноваты.
– Но ведь вашу химическую лабораторию в Парголово доставил Новорусский, а?
– Он не мог знать, для чего она предназначается.
– А для чего она предназначалась?
– Мне необходимо было изготовить недостающую часть динамита. Очень незначительное количество.
– А почему вы решили изготовить динамит именно на даче? Почему вы не сделали это на одной из городских квартир вашей фракции?
– Вследствие неудобства городских квартир для изготовления динамита, господин ротмистр.
– Сколько дней вы пробыли в Парголове?
– Около пяти.
– Точнее?
– Точнее сказать не могу.
– Когда вы прибыли туда?
– Между десятым и двенадцатым февраля.
– Убыли?
– Числа четырнадцатого, пятнадцатого.
– Что же явилось причиной ваших столь непродолжительных занятий с сыном Ананьиной?
– Ананьина сделала мне выговор за мои химические занятия.
– Значит, она догадалась, что вы приготовляете динамит?
– Нет, она высказалась в том смысле, что я больше времени уделяю химии, чем ее сыну.
– Она подозревала, что ваши опыты незаконны?
– Да, она говорила мне об этом.
– И что же?
– После первого же разговора с Ананьиной я уехал.
– А ваши опыты?
– Цель моих опытов была достигнута. Динамит был уже готов.
– У вас не сложилось такого впечатления, Александр Ильич, что Ананьина или кто-нибудь из ее родственников принадлежат к революционной партии, о существовании которой вам, предположим, ничего не известно?
– Нет, у меня такого впечатления не сложилось.
– Ананьина вела когда-нибудь с вами разговоры о старой «Народной воле»? О Желябове? О Перовской, например?
– Нет, никогда.
– А Новорусский?
– Тоже не вел.
– А вы были знакомы с женой Новорусского?
– Я виделся с ней несколько раз.
– Где?
– В Петербурге.
– Как ее зовут?
– Лидия.
– Она родная дочь Ананьиной?
– Кажется, да.
– Скажите, Ульянов, до вашего приезда в Парголово Ананьина жила на своей даче?
– Этого я не знаю.
– Но ваша лаборатория была отправлена на дачу вместе с вещами Ананьиной?
– Да, вместе.
– Странное получается совпадение, не правда ли?
– Что вы имеете в виду?
– Кое-что любопытное...
– А именно?
– Слушайте меня внимательно, Ульянов. До того дня, пока вам не понадобилось сделать недостающую часть динамита, Ананьина на даче не жила. Потом она перевозит в Парголово свои вещи вместе с вашей лабораторией...
– Это случайное совпадение.
– Дальше. Ананьина заявляет вам, что вы не устраиваете ее как репетитор ее сына только после того, когда изготовление динамита закончено, но никак не раньше этого.
– Это тоже случайно, господин прокурор.
– Александр Ильич, а если честно, а?.. Через Ананьину и Новорусского вы держали связь с Исполнительным комитетом... Ведь правильно?
– Господин ротмистр, ваш вопрос не только не серьезный, но и просто смешной.
– Ах, Александр Ильич, нам с прокурором вовсе не до смеха!
– Ульянов, как звали сына Ананьиной?
– Николай.
– Сколько раз вы занимались с ним?
– Один или два.
– И Ананьина только на пятый день высказала вам свое неудовольствие как педагогу?
– Да, только на пятый.
– А вы не находите это странным?
– Нет, не нахожу.
– Значит, пять дней в доме Ананьиной живет чужой человек, с сыном ее, как было договорено, не занимается, сутками напролет возится с химической аппаратурой. И хозяйка все пять дней никак не реагирует на это, считая, что все идет нормально?
– Да, Александр Ильич, тут концы с концами не сходятся...
– Ульянов, что вы брали с собой в Парголово? Из личных вещей?
– Кажется, одну рубашку..,
– И все?
– Да, все.
– А постель? Одеяло, подушка?
– Все это давала Ананьина.
– А вознаграждение?
– В каком смысле?
– Сколько вы должны были получать за свои уроки? Был разговор об этом?
– Нет, не было...
– Где вы обедали, когда жили в Парголове?
– Я обедал вместе с хозяйкой и ее сыном.
– Смотрите, Ульянов, какая забавная получается картина: пять дней вы живете в доме совершенно чужого человека, с сыном хозяйки не занимаетесь, а вас поят, кормят, дают вам белье... Спрашивается: за что? За какие заслуги? Вывод напрашивается сам: за то, что вы с утра до ночи ковыряетесь в своих пробирках. То есть за то, что вы изготовляете динамит. Хозяйка Дома знает об этом, она в одном заговоре с вами... Больше того, она связана с другими участниками заговора, имена которых вы пока назвать отказываетесь, ухудшая тем самым и свое положение и положение вашей семьи, особенно ваших братьев в Симбирске...
– Кроме арестованных участников заговора, списки которых вы мне вчера показывали, никакие другие имена мне не известны.
– А ну-ка, посмотрите мне в глаза, Ульянов... А для кого вы тайно оставили в доме Ананьиной еще одну партию нитроглицерина?
– Нитроглицерина?
– Да, да, между оконными рамами? В комнате, которая находилась напротив вашей лаборатории?
– Я сейчас уже не припоминаю... Впрочем, да, я, кажется, действительно оставил часть нитроглицерина в банке со слабым раствором соды. Для безопасности.
– Не оставили, а спрятали! И не в своей лаборатории, а в другой комнате... Этот нитроглицерин предназначался для тех участников заговора, которые еще находятся на свободе. Они должны повторить покушение на государя!
– Никакого повторения мы не собирались делать...
– Вы лжете, Ульянов! Нагло лжете... Вы запутываете следствие. Вы отказываетесь назвать имена еще не выявленных участников заговора. Учтите: это найдет отражение в вашем приговоре.
– Я никого не запутываю, господин прокурор.
– Значит, за спрятанным вами нитроглицерином никто не должен был прийти?
– Никто.
– В таком случае, кому же предназначалась оставленная вами в доме Ананьиной – с разрешения хозяйки, разумеется, – столь тщательно и квалифицированно подобранная химическая лаборатория? Господин ротмистр, соблаговолите прочитать протокол обыска в доме Ананьиной в Парголове.
– С удовольствием. Так, так... Гм, гм... Ага, вот!., «...а также обнаружены и приобщены к делу следующие химические приборы и реактивы: четыре банки из-под азотной кислоты, два стеклянных градуированных цилиндра, два термометра, три фарфоровые вытяжные чашки, четыре стеклянных колпака, полторы бутылки серной кислоты, пакет магнезии, один ареометр, две лампочки, хлористый кальций, несколько железных треножников, три десятка тонких стеклянных трубок, пробирки, колбы, щипцы, пинцеты, медицинские весы, резиновые перчатки...» Одним словом, целый арсенал. Вполне хватило бы еще на добрую дюжину покушений.
– Ну, что вы теперь скажете, Ульянов? Кому в наследство оставляли вы этот динамитный завод?
3
Химическая лаборатория... Динамитный завод... Вытяжные чашки, ареометр, хлористый кальций, колбы, пинцеты, медицинские весы, резиновые перчатки...
Саша сделал несколько шагов по камере. С каким злым наслаждением читал ротмистр протокол обыска... Они обязательно, непременно хотят увеличить степень виновности Ананьиной и Новорусского. Целый день они расспрашивали его только о Парголове... Но так ничего и не добились. Значит, следующий допрос опять будет о Парголове, снова начнут прокурор и ротмистр задавать вопросы о серной кислоте, нитроглицерине, о химических опытах на даче Ананьиной...
Химия. Могучая, всепроникающая наука. Энциклопедия естествознания. Весь окружающий человека материальный мир пронизан химическими закономерностями. Путеводная нить химии связывает воедино, в одну общую систему, все естественные знания.
В памяти возникла голова Менделеева. Огромная, поражающая своими размерами. Высокий бледный выпуклый лоб. Циклопическая лобная кость гения. И копна золотистых волос до плеч... Волосы сверкают, переливаются (это когда в седьмой, любимой менделеевской аудитории в университете падают из окна лучи солнца), и кажется, что это вспыхивают и сверкают ряды и периоды периодической системы, чтобы, в который уже раз, возникнув здесь, перед студенческой аудиторией из страстных, порывистых слов лектора, лечь в квадраты и ячейки таблицы элементов на грифельную доску, расчерченную мелом рукой самого Дмитрия Ивановича.
Да, Менделеев всегда читал страстно, порывисто, самозабвенно. От него исходил к слушателям некий гипнотический заряд. Он как бы приобщал каждого студента к возникшему некогда в его, менделеевском, сознании открытию. Восстанавливая каждый раз заново перед аудиторией свои рассуждения, Дмитрий Иванович как бы открывал перед слушателями закономерности рождения гениальной мысли.
В такие минуты напряженная тишина повисала в седьмой аудитории. Никто не писал, не конспектировал лекцию, все бросали перья и с жадным, безмолвным восторженным обожанием следили, как возле грифельной доски, неторопливо стуча мелом, встряхивая то и дело огромной копной золотистых волос, резко и угловато, пронзительно и необычно распахивал настежь свой могучий интеллект один из величайших людей мировой науки. Гениальный ум возвышенно и бескорыстно открывал тайны своего движения, щедро раздаривал слушателям свои сокровища. Лучи солнца, косо падающие из окна, рождали над головой стоящего около грифельной доски человека золотистый нимб... И для всех них, его студентов и слушателей, он был в такие мгновения действительно богом – могущественным творцом нового знания, нового мира, новых законов, по которым существует и развивается жизнь.
Почти всегда лекции Менделеева оканчивались взрывом аплодисментов. Дмитрий Иванович в знак протеста поднимал руки, требовал тишины, но восторженные студенты, не слушая его, бешено аплодировали, и профессор Менделеев, поклонившись аудитории, смущенный и растерянный, выходил из зала.
Следующую лекцию он обычно начинал с того, что в очень строгих и резких выражениях просил не устраивать больше подобных оваций, которые превращали, по его словам, учебный процесс в эстрадное концертирование; студенты давали любимому профессору обещание, но в конце занятий, захваченные гениальными менделеевскими выводами, снова начинали громко аплодировать...
И действительно, удержаться было трудно. Курс неорганической химии превращался в устах Менделеева в стремительное и великолепное путешествие по окружающей жизни. Казалось, не было ни одной отрасли знания, из которой не приводил бы Дмитрий Иванович примеров. На его занятиях, пожалуй, впервые по-настоящему глубоко понял он, Саша, ту единую систему взаимообусловленных связей в природе, которая придавала неопровержимо реальную материалистическую основу всеобщей картине мира. Рисуя на доске сложные химические конструкции и построения, Менделеев непрерывно делал экскурсы в область физики, астрономии, астрофизики, космогонии, метеорологии, геологии, физиологии животных и растений, агрономии, а также в различные отрасли техники – от артиллерии до воздухоплавания. И все эти примеры и отвлечения были уместны, логичны, корректны, давали необычайно живой и энергичный толчок для собственных раздумий и размышлений.
И как это ни было странно, именно лекции Менделеева по неорганической химии, необычайно быстро расширявшие кругозор, возбуждавшие в слушателях сильнейшую тягу к самостоятельному анализу, к самостоятельной оценке явлений и предметов, именно эти лекции подспудно, исподволь накапливали в его, Саши Ульянова, сознании некие качественные изменения и в один прекрасный день распространили его внимание не только на естественные, но и на общественные науки, перенесли ход его рассуждений с абстрактных, отвлеченных, чисто научных категорий на живую окружающую жизнь, заставляя открывать в ней конфликты и противоречия, искать и разрешать которые в неорганической химии учил на своих лекциях Дмитрий Иванович.
Так возник – привычка докапываться до корня явлений – устойчивый интерес к курсу истории русского крестьянства, который читал один из самых радикально настроенных преподавателей Петербургского университета Семевский.
Лекции приват-доцента Семевского собирали весь цвет университета. Сюда приходили математики, физики, юристы, медики, студенты других институтов – лесного, технологического. Василий Иванович Семевский – эрудит, полемист, блестяще одаренный и образованный человек – рисовал перед аудиторией широкую панораму жизни русского крестьянства, начиная еще с восемнадцатого века. Анализируя вопросы хозяйственной жизни крестьян, Семевский незаметно перебирался из прошлого в настоящее. Сторонний наблюдатель, попавший на лекцию случайно, не слышал в словах лектора ничего предосудительного и нежелательного. Но те, кто ходил на курс постоянно, научились улавливать между слов намеки на современность, чувствовали и понимали, что Василий Иванович подвергает беспощадной, уничтожающей критике сегодняшнее положение русских крестьян и печально знаменитую крестьянскую реформу 1861 года. (Здесь, на лекциях Семевского, и пришло к нему, Саше, новое понимание реформы шестьдесят первого года – сколько споров и дискуссий о реформе возникало после каждой лекции! Сколько высказывалось различных точек зрения!)
Когда курс Семевского, обвиненного в левизне своего направления, был изъят из университетской программы, Василий Иванович продолжал читать лекции по крестьянскому вопросу для избранных студентов у себя на квартире. Саша был в их числе. И здесь-то, уже дома, вдалеке от полицейских ушей, Семевский заговорил открыто и свободно. Он откровенно заявил, что по своим политическим убеждениям является сторонником социалистов-народников... Здесь же был вынесен и окончательный приговор реформе шестьдесят первого года. С самого своего начала и до конца реформа была крепостнической, ее проводили в жизнь в своих же собственных экономических интересах крепостники-помещики во главе с царем – самым богатым помещиком России. Русские крестьяне реформой 1861 года были ограблены. Передовое русское общество, после поражения России в Крымской войне связывавшее с освобождением крестьян столько надежд на изменение гражданской атмосферы в стране, было жестоко обмануто. И как реакция на этот обман, на это всеобщее разочарование, возникла социалистическая проповедь Чернышевского, поднял свой голос из-за границы Герцен, родилась идея хождения в народ, была создана партия «Земля и воля»... После убийства царя началось наступление правительства на все демократические завоевания шестидесятых годов. Александр III, пришедший на смену своему отцу, казненному революционерами, начал брать назад одну за другой все уступки, сделанные когда-то царем-«освободителем». Наступила полоса реакции, мракобесы заняли ключевые позиции в общественной жизни, время активных действий кончилось. Надо заниматься нравственным самоусовершенствованием, не гнушаться никакими, даже самыми малыми, делами, ехать в глухие углы продолжать депо обучения и просвещения крестьян. К этому призывает и лучший знаток жизни русских крестьян Лев Толстой...
Этот неожиданно пессимистический вывод, которым закончил Семевский свой курс, разочаровал Сашу. Ему, прикоснувшемуся теперь к глубокому пониманию закономерностей общественной жизни, была чужда теория малых дел с ее полуправдой, пассивностью, неопределенностью. Не принимал он и евангелистического учения Льва Толстого, в котором, по его, Сашиному, мнению, великий писатель губил свой талант, уйдя от активной общественной позиции литератора.
Нужно было что-то иное, более действенное и современное. Он пробовал войти в кружок по изучению современного экономического положения крестьян, но состав членов кружка оказался на редкость неровным, занятия проходили неинтересно, оторванно от жизни, от случая к случаю, и кружок вскоре захирел...
Потом было увлечение научно-литературным студенческим обществом, знакомство с его председателем профессором Орестом Федоровичем Миллером – историком литературы и фольклористом, либералом, славянофилом, добрейшей души человеком, бессребреником, тончайшим знатоком эпохи Возрождения. От Миллера пришел повышенный интерес к великим литературным памятникам Ренессанса, в которых с особой силой звучали атеистические мотивы (сам Орест Федорович был блестяще эрудированным атеистом), и то отрицательное отношение к религии, которое возникло еще в детстве, теперь приобрело у Саши черты некоей почти артистической свободы и раскованности: он мог вести споры и дискуссии о вздорности всех божественных атрибутов и религиозных выдумок на любом уровне, активно используя все богатства мировой литературы.
Когда он получил золотую медаль за сочинение по зоологии, его выбрали секретарем научно-литературного общества. Он вступил еще в один студенческий кружок – биологический. Его окончательный отход от химии огорчил Менделеева.
– Вы понимаете, Саша, – говорил Дмитрий Иванович, – в химии очень важно возникновение школы. Вот, например, бутлеровская школа, бутлеровское направление... У Бутлерова все открытия рождались и направлялись одною общею идеей. Она-то и сделала его школу, она-то и позволяет утверждать, что его имя навсегда останется в науке. Это так называемая идея химического строения... Вы тоже человек одной идеи. И вы смогли бы создать в химии какую-нибудь свою, ульяновскую школу. Я верю в вас...