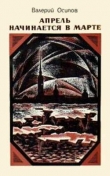Текст книги "Река рождается ручьями. Повесть об Александре Ульянове"
Автор книги: Валерий Осипов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Глава пятая
1
Мама уехала в Петербург вчера вечером. Сегодня утром приходила Вера Васильевна – готовить обед и вообще помочь по хозяйству (как некстати уехала в деревню няня Варвара Григорьевна!). Сейчас Маняша дома одна, если не пришли уже Оля или Митя. Надо торопиться.
Как быстро и неожиданно все изменилось в жизни. Еще два дня назад он, Володя, был сын известного педагога, уважаемого человека. А теперь он родной брат цареубийцы. Теперь ему кажется, что все городовые смотрят на него как на особо опасного преступника.
Задумавшись, Володя вошел было в дом, как обычно, с парадного хода, но потом, вспомнив про квартирантов, вышел обратно на улицу и, вздохнув, двинулся в обход, через вторую террасу, где у няни хранились всякие банки, склянки, корзины, кувшины и прочие хозяйственные мелочи.
Квартирантов пустили в прошлом году, сразу же после похорон Ильи Николаевича. Им сдали гостиную, папин кабинет, Сашину комнату и его, Володину, проходную боковушку на антресолях – уголок второго этажа с лестницей снизу, из прихожей, по которой нужно было подняться, чтобы попасть к Саше.
Дом, еще недавно общий, единый, шумный, полный восторженных детских голосов, топота, крика и смеха, разделился после смерти Ильи Николаевича как бы пополам, на две тихие и молчаливые половины – чужую и свою. Володя и Митя жили теперь внизу, около кухни, в бывшей маминой комнате (вообще-то, это была даже не комната, а просто отгороженная часть общего коридора). Мама переехала наверх, в комнату Ани. Маняша и Оля остались в старой детской.
Квартиранты, по фамилии Багряновские, были люди скромные, интеллигентные, понимавшие, что в доме, где недавно умер глава семьи, надо вести себя сдержанно и умеренно. У них почти всегда было тихо. Только иногда по субботам или воскресеньям приходили знакомые, пили чай, спорили, негромко пели под гитару. С понедельника же – снова тишина на всю неделю. А на ульяновской половине и подавно тихо – траур по отцу и мужу.
Так было зимой, в первые месяцы после смерти Ильи Николаевича. Весной же Багряновские стали чаще выходить во двор, число гостей и посетителей у них увеличилось, и Володя, прислушиваясь иногда к чужим голосам в саду, чувствовал, как растет у него где-то внутри, под сердцем, тоска и подавленность.
Да, преждевременная смерть отца резко изменила весь уклад жизни в семье Ульяновых. Мама совершенно перестала играть на рояле. Его перекатили из гостиной в столовую, и он стоял теперь в углу – молчаливый, черный и огромный, словно образ той большой беды, которая так неожиданно и так скорбно вошла в этот осиротевший дом.
Большую часть времени мама проводила теперь за швейной машинкой, перешивая младшим костюмы и платья старших. Что поделаешь – не хватало денег. Шестеро детей на руках, двоим старшим еще надо высылать в Петербург.
Володя стоял на террасе, глядя на освещенный ярким мартовским солнцем сугроб. Первые весенние краски были щедро разбросаны за окном. Во всем чувствовалась сдержанная готовность к весне – к обновлению, к желанным переменам, к чему-то новому, более светлому и радостному.
Сверху, из детской, донеслись голоса Веры Васильевны и Маняши. Милая, славная Вера Васильевна... Она отменила сегодня свои уроки в училище, чтобы побыть первую половину дня с Манящей, пока старшие не придут из гимназии. А он, Володя, совсем забыл об этом. Он привык к тому, что в доме всегда кто-нибудь есть. Он никогда не беспокоился об этом. Но теперь, кажется, надо отвыкать от старых привычек. На дом, на семью, еще не успевшую выправиться после смерти отца, надвигались новые изменения, тягостные и опасные. Володя пока еще только чувствовал это, не имея возможности даже представить себе истинные масштабы и последствия этих будущих перемен.
Он вошел в коридор, разделся, аккуратно повесил шинель, еще раз прислушался к доносившимся сверху голосам Веры Васильевны и Маняши и прошел в столовую. Всего лишь сутки назад узнали в их доме об аресте Саши и Ани, а сколько произошло за это время. Уехала мама. Осталась без присмотра Маняша. Недоуменное и испуганное выражение появилось в глазах Оли и Мити. А самое главное – что-то случилось с ним самим. В его мысли и чувства вошло какое-то новое состояние, будто рядом с прежним Володей поселился другой человек, для которого уже не подходят те законы и правила, по которым жил прежний Володя.
За стеной, в папином кабинете, послышались голоса квартирантов. Багряновские что-то оживленно обсуждали, но смысл слов не доходил до Володи. Ему слышался только общий гул, только однородный, бесконечно раздражавший его чужой шум в родном доме. Он сел, поставил локти на стол, положил голову на ладони, закрыл глаза, стараясь вспомнить что-нибудь такое, что помогло бы не слышать эти голоса, перенесло куда-нибудь в другое место, в другое время, в иное измерение.
Голоса росли, усиливались, жужжали, гремели, грохотали. Заломило в висках. Тесен стал воротничок мундира. Еще мгновение – и он, может быть, даже позволил бы себе что-то, чего потом никогда не простил бы (постучал бы, например, в стену), но в это время в хаотичную сумятицу чужих голосов медленно вплыл новый звук – глубокий, плавный, размеренный, умиротворенный.
Не открывая глаз, Володя прислушался – звонили к обедне в Богоявленской церкви.
И сразу исчезли голоса за стеной, стало тихо, печально, скорбно. В неожиданно павшей тишине Володя вдруг услышал далекое протяжное пение – церковный хор пел отходную. Высокие детские дисканты холодили душу, звали куда-то за собой, в вышину, подальше от мирской суеты и забот.
И он увидел маму. В черной наколке, в черном платье она склонилась над гробом отца. Вокруг в оранжевых ореолах потрескивающих свечей – друзья, сослуживцы, знакомые. Тускло отсвечивают пуговицы на мундирах, кресты духовенства. У всех заплаканные глаза, скорбные лица.
А мамина худая спина дрожит под черной наколкой, прыгают острые лопатки. Мама плачет – горько, неутешно. С двух сторон ее держат под руки Вера Васильевна и Екатерина Алексеевна Яковлева.
А отец лежит спокойный, ясный, уже отрешенный от всего земного. Тронутые сединой длинные волосы аккуратно и благообразно расчесаны на две стороны. На скуластом меловом лице нет следов страданий: умер Илья Николаевич без мучений, как говорится – в одночасье.
Мама выпрямилась. Прикладывает к лицу платок, вытирая последние слезы. Лицо ее каменеет, делается неподвижным, непроницаемым. Володя ловит мамин взгляд: он устремлен на руку отца, на матово поблескивающее обручальное кольцо. Двадцать три года они прожили вместе. Шестеро детей было у них. Что испытывает сейчас мама? Володю душат рыдания, и только огромным напряжением удерживает он внутри себя накатывающую волну слез.
К гробу придвигается духовенство. Ректор духовной семинарии вершит литию – при доме усопшего. Кто-то невидимый рыдающим голосом говорит речь: «...честным, самоотверженным, тружеником... редчайший человек... благородное сердце... горение, служение людям...»
Хор запевает к выносу. Сослуживцы и близкие принимают останки Ильи Николаевича на руки. Володя среди них. Медленно разворачиваясь в тесной прихожей, гроб выплывает во двор. И здесь Володя с удивлением видит, что во дворе их дома, дожидаясь выноса, стоит несколько сот человек.
Обнажаются головы, в руках появляются платки. Слышны всхлипы, глухие рыдания.
Гроб несут за ворота, на улицу. Вся Московская от Большой Саратовской до Богоявленского спуска запружена народом. Здесь в основном учащиеся и педагоги: обе гимназии, все училища, кадеты, семинаристы, слушатели учительских курсов...
Володя неожиданно вспомнил Кокушкино... Лето, жара, зелень деревьев увяла, листья пожухли. За рекой желтеют поля, небо высокое и голубое. Они вместе с Сашей идут по берегу, папа с Аней и младшими – впереди... Возле моста стоят несколько мужиков в соломенных шляпах. Увидев Илью Николаевича, мужики снимают шляпы, кланяются. Илья Николаевич останавливается около них, что-то спрашивает, внимательно слушает ответы, чуть наклонив вправо голову... Мужики говорят быстро, громко, вразнобой. Маняша и Оля жмутся к отцу, Аня стоит в стороне, нахмурившись, и так же, как Илья Николаевич, наклонив голову, слушает мужиков... Саша ускоряет шаг, Володя спешит за ним, и вот до них уже начинают долетать обрывки фраз и отдельные слова, а потом уже и весь разговор слышен отчетливо и ясно.
– ...вот ведь какая беда, батюшка Илья Николаевич. Народ-то у нас неученый, грамоты не знаем, какую бумагу и куда направить – не разбираемся. А земские с акцизными подряд все в очках, – разве ж с ними нам по силам тягаться? Отсюда и обида вся идет. Другой раз чуем, что обман, а сказать не можем, не приучены. Тут бы, как говорится, к становому да в суд, а мировой без бумаги и слушать тебя не будет. Вот и получается, что воля-то она волей, а неволя – неволей. Хлебушка мы теперь против прежнего поболе сеем, а вот продать кровное пока не можем, робеем. Кто уж тут виноват – не поймешь. Жизнь крестьянская вся кругом на дыбки встала, скособочилась. Каждый свой интерес соблюдает, особливо князья да бары. О мужике подумать некому...
– Зайдите ко мне завтра утром, – голос Ильи Николаевича звучит напряженно, взволнованно и вроде бы даже виновато, – и мы продолжим этот разговор. Было бы желательно, чтобы он принес какую-то практическую пользу. Для этого необходимо переписать две-три жалобы, которые вы считаете решенными наиболее несправедливо...
– Батюшка Илья Николаевич! – выдохнули мужики все разом чуть ли не со стоном. – Да кто же перепишет? К попу идти кланяться, так ведь он погонит еще...
– Ну, хорошо, приносите все жалобы ко мне, вместе выберем самые несправедливые, а переписать помогут дети, – и, бросив быстрый взгляд на Аню, Илья Николаевич обернулся к подошедшим сыновьям, и губы его тронула мягкая улыбка...
– А скажи-ка нам, барин, еще вот про что, – дребезжащим голосом заговорил лохматый, сгорбленный старик, опиравшийся на толстую суковатую палку, но Илья Николаевич неожиданно резко оборвал его.
– Я не барин, – сказал он строго, – и барином меня никогда больше не называйте.
Потом кивнул остальным мужикам и добавил:
– Так я жду вас завтра...
И мужики снова сняли шапки, поклонились, заговорили все вместе, благодаря их превосходительство батюшку Илью Николаевича за то, что не побрезговал говорить с ними, что понимает их крестьянскую нужду, заступается за них...
«А скольким людям он еще помог в жизни? – думал Володя, неся гроб. – Сколько добрых семян посеял в душах отчаявшихся, утративших силы?.. И как все-таки странно и несправедливо устроена жизнь. Крестьянам наконец дали волю, уничтожили рабскую зависимость от помещиков. Но оказывается, дело не только в личной свободе... Мужику нужна земля, нужна грамота, чтобы чувствовать себя человеком, чтобы преодолеть страх перед городом, перед чиновниками, перед акцизными... И вся жизнь отца была направлена на то, чтобы просветить головы если уж не этим, родившимся в ярме рабства людям, то хотя бы их детям, которые родились уже свободными, чтобы уменьшить их страх перед неизвестными им силами, которые делали их жизнь безрадостной и невыносимой, и только грамота, только великий свет знания мог освободить их от этого страха и дать им сознание своего человеческого достоинства...»
«Отец жил так, как жили все те, кто желал своей родине лучшей судьбы, – думал Володя. – Такой жизнью жили Писарев, Чернышевский, Добролюбов... Этим благородным делом – пробуждением людей от вековой зимней спячки рабства и покорности – были всегда озабочены все лучшие русские люди. Спасибо тебе, папа, за то, что ты помог всем нам – мне, Оле, Саше, Ане – прикоснуться к этому светлому роднику справедливости и добра, помог нам всем понять счастье приобщения к этим высоким и светлым гражданским чувствам и мыслям... Спасибо тебе».
Гроб несли на руках вниз по Московской. Володя шел за Ишерским – предполагаемым преемником Ильи Николаевича.
Зрелище траурного шествия было внушительное. Сразу же вслед за вдовой, детьми и родственниками шли вице-губернатор, викарий епархии, помощник попечителя Казанского учебного округа (специально прибывший на похороны из Казани), губернский и уездные предводители, городской голова, члены управы, гласные, начальник жандармского управления, надзиратель акцизного округа, почтмейстер, исправники, приставы, мировые, присяжные и еще великое множество всякого иного разнокалиберного чиновного симбирского люда.
Накануне по городу прошел слух, что на литургии и отпевании будет начальник губернии их высокопревосходительство генерал-майор Долгово-Сабуров. Ни один государственный служащий не мог позволить себе отсутствовать на похоронах, на которых присутствует сам губернатор. У стоявших вдоль всей Московской чинов полиции в глазах рябило от небывалого скопления начальства. Глядя на форменные шинели и бобровые воротники, чины полиции с трудом сдерживали простой народ, напиравший из ворот и калиток «проститься с батюшкой Ильей Николаевичем, царствие ему небесное, золотой был человек, чистый ангел...».
Городские педагоги и приехавшие из уездов инспекторы народных училищ (из Сызрани, Карсуна, Алатыря, Ардатова, Пензы) шли отдельно, позади чиновничьих групп. Федор Михайлович Керенский, директор мужской гимназии, шел перед своими гимназистами и, тревожно поглядывая туда, где плыл над головами в свой последний путь Илья Николаевич Ульянов, беспокоился: не устал ли Володя? Ведь рядом с ним сгибались под тяжестью ноши взрослые мужчины, а Володе, одному из любимых учеников Керенского, было без трех месяцев всего лишь шестнадцать лет.
Гроб внесли в Богоявленскую церковь – приходский храм усопшего. Соборный иерей, преподаватель духовной семинарии Сергей Медведков, близкий друг и сосед ульяновской семьи, смахнув слезу, начал литургию в сослужении с двумя другими священниками. Едва пропели первые слова литургии, как густая толпа народу, заполнившая холодную нетопленную церковь, расступилась, и к алтарю, почтительно склонив седую голову, блестя золотом генеральских эполет, прошел губернатор.
...Последние слова торжественной литии. Последние звуки хора. Последние взмахи палочки регента – лучшего в городе учителя пения Лариона Маторина. Приходский священник отец Афанасий произносит слово на вынос из храма: «...упокой, господи, безгрешную душу грешного раба твоего Ильи. Аминь».
И снова плывет гроб на руках по заснеженным улицам. Впереди несут венки, ордена. Морозный ветер приносит с веток деревьев редкие снежинки. Они падают в открытый гроб и не тают на холодном белом лице Ильи Николаевича.
Ворота Покровского монастыря распахнуты настежь. Вытоптанная в снегу узкая дорожка ведет в дальний левый угол монастырской ограды. Последняя остановка перед иконой на притворе. Священники перестраиваются впереди процессии, кто-то взмахнул кадилом. Дружно и высоко рассыпает хор на морозе дробные слова прощальной. С монастырских деревьев с испуганным криком взлетают птицы – словно чья-то неведомая душа незримо отлетела в далекие и лучшие миры.
Вот и могила. Вокруг выстраиваются кафедральный протоиерей, ректор духовной семинарии, городской благочинный, священники всех симбирских церквей и храмов, законоучители городских училищ. Покойный являл собой пример образцового христианина. Верность идеалам религии он пронес через всю жизнь, что и помогло ему быть увенчанным по службе своим высоким званием. Поэтому и погребение сего достойного сына церкви совершается высшим собором всего губернского духовенства.
Стук молотка по крышке гроба. Бьются в рыданиях Оля и Аня. Плачут Стржалковский, Ишерский, Яковлев. Плачут сотни людей, заполнивших монастырское кладбище. И только одна мама – маленькая, прямая, непроницаемая – неподвижно застыла у края могилы. Она стоит молча, не шелохнувшись. Ни одна черточка не меняется в ее лице. Только огромные черные круги вокруг глаз становятся все больше и больше. Только ветер перебирает первые седые пряди на голове, появившиеся за эти три дня, прошедшие после смерти Ильи Николаевича.
Гроб опускают в могилу. Стук мерзлой земли по крышке рвет сердце на части. Слезы застилают Володе глаза. Он поднимает голову. Стрельчатая звонница монастыря, вознесенная над куполами деревьев, роняет первый звук колокола. Второй. Третий. Вдалеке возникают голоса других церквей. Глухо рокочут соборы: Вознесенский, Троицкий, Николаевский...
2
– Ну-с, Александр Ильич, здравствуйте, здравствуйте. Как самочувствие? Что-то вы, батенька мой, неважнецки сегодня смотритесь, а?
Ротмистр Лютов – добродушный, респектабельный – смотрел на введенного в комнату арестованного с отеческой снисходительностью.
– Может быть, все еще нездоровится? Доктор нужен? Медикаменты?
– Благодарю. Сегодня я здоров.
– А спалось-то как? В снотворном не нуждаетесь? Я могу велеть.
– Спалось хорошо.
Лютов простодушно взглянул на Котляревского.
– А то мы вот с прокурором угрызаемся, чувствуем себя виноватыми. В предыдущую встречу с нашей стороны, конечно, была допущена некоторая резкость. Я искренне сожалею.
Котляревский склонил набок голову, улыбнулся («Как облизнулся», – подумал Саша), сказал на предельной ноте доброжелательности:
– Присоединяюсь целиком и полностью.
«Вот он на кого похож, – подумал Саша, глядя на прокурора. – Он похож на лису. Не на птицу, а на лису. Изгибающийся, жеманный, коварный».
– Ну-с, присаживайтесь, Александр Ильич, – предложил Лютов, – чего ж стоять-то. В ногах, как говорится, правды нет. Особенно в нашем деле.
Он коротко и энергично хохотнул, провел пальцем в разные стороны по усам.
«А жандарм похож на кота. Круглолицый, розовощекий. Выразительная подобралась пара – кот и лиса».
– В прошлый раз, – разбирал Лютов страницы протокола, – по состоянию здоровья вы просили отложить вопросы, которые мы к вам имели, до следующего дня. Я правильно излагаю?
– Правильно, – Саша кивнул.
– Мы пошли вам навстречу. Как только что выяснилось, сегодня ваше самочувствие значительно улучшилось. Хорошо спали, в медицинской помощи не нуждаетесь. Другими словами, никаких возражений против продолжения допроса у вас не имеется. Не так ли?
– Я готов дать показания, – твердо сказал Саша.
– Одну минуту, – быстро поднялся со стула Котляревский.
Он вышел из комнаты и тут же вошел обратно с уже знакомыми писарями. Иванов и Хмелинский устроились за столиком в углу, приготовили перья, бумагу.
Прокурор вернулся на свое место.
– Начинайте, – кивнул Саше ротмистр.
Саша выпрямился, внимательно посмотрел на Лютова, потом на Котляревского, сказал громко и почти торжественно, отчетливо выговаривая каждое слово:
– Я признаю свою виновность в том, что, принадлежа к террористической фракции партии «Народная воля», принимал участие в замысле лишить жизни государя императора.
Прокурор сглотнул слюну, поправил подворотничок вицмундира. Лютов прищурился.
– Желябова видели когда-нибудь? – неожиданно спросил он каким-то новым, незнакомым и цепким голосом.
Саша нахмурился.
– Почему вы спрашиваете о Желябове?
Жандарм постучал костяшкой согнутого пальца по столу.
– Вопросы задаю только я. Саша пожал плечами.
– Желябова казнили шесть лет назад. Тогда мне было пятнадцать лет.
– Почему же, позвольте полюбопытствовать, вы присвоили себе такое же наименование – «Народная воля»?
– На этот вопрос я отвечать отказываюсь. Ротмистр поднял брови.
– Отчего же?
– Я не желаю объяснять.
– Но ведь ответ напрашивается сам собой: Желябов бросал бомбы, и вы хотели бросить бомбы!
«Он вовсе не об этом хотел спросить, – думал Саша. – Рассчитывал неожиданным вопросом сбить меня с толку, как бы невзначай выяснить то, что его интересует больше всего: связаны ли мы со старым народовольческим подпольем? Он почувствовал, что я подготовился только к логическим, только к последовательным ответам и решил лишить меня этого преимущества, вести допрос рывками, хаотично, и вытаскивать из этого хаоса нужные ему сведения...»
– Ну, что же мы замолчали, Александр Ильич! – Лютов смотрел на Сашу с искренним огорчением. – Так хорошо начали и вдруг замолчали, а?
«Сейчас кот попросит помощи у лисы...» Ротмистр обернулся к Котляревскому.
– Господин прокурор, у вас есть вопросы к господину Ульянову?
– Безусловно, – Котляревский двинулся вперед, опустил голову и вдруг посмотрел на Сашу своими светлыми навыкате глазами как-то очень просяще, снизу вверх. – Скажите, Ульянов, а в чем же конкретно выражалось ваше участие в замысле на жизнь государя императора?
«Надо только не сбиваться с единой линии: повторять все то, что они дали прочитать мне вчера в показаниях Канчера. Говорить только о себе. Только о том, что знал Канчер».
– Мое участие в замысле на жизнь государя императора выразилось в следующем: в феврале этого года я приготовил некоторые части разрывных метательных снарядов, предназначавшихся для покушения...
– В феврале этого года? – вмешался Лютов.
– Да, в феврале.
– Не припоминаете точно, какого числа?
– Не припоминаю.
– Каким пользовались методом? Студень гремучей ртути, пироксилин, бертолетовка, сурьма, нитроглицерин?
«Ого, – подумал Саша, – а он, оказывается, весьма осведомлен в делах химических. Эрудиция не хуже, чем у первоклассного террориста».
– Нет, у меня свой метод.
– Какой же, позвольте полюбопытствовать?
– Азотная кислота и белый динамит.
– И много кладете белого динамиту?
– Секрет, господин ротмистр.
– С белым динамитом надо осторожнее, – озабоченно погладил усы Лютов. – Может сработать и до совершения акции.
«Специалист. Профессор. Вызывает на научную дискуссию. Вот смех-то...»
– Мы несколько отвлеклись, – вступил в разговор Котляревский. – Вы, кажется, были намерены продолжить свои показания?
– Да, я хочу продолжить показания.
– Прошу вас.
– Кроме работы со взрывчаткой, я принимал участие в приготовлении свинцовых пуль, которыми были начинены снаряды. Я резал свинец и сгибал из него пули. Потом мне доставили два жестяных цилиндра...
– А стрихнинчик? – снова вмешался Лютов.
– Что стрихнинчик?
– Стрихнином пули вы набивали?
– Нет, к этому я отношения не имел.
– В свое время террористические группы широко стрихнин использовали.
– Я могу продолжать показания? – на этот раз уже Саша перебил Лютова.
– Да, да, безусловно, – жандарм приложил руку к сердцу, наклонил голову. – Приношу извинения.
– Когда мне доставили два жестяных цилиндра, я наполнил их динамитом и пулями.
– Отравленными?
– Да, отравленными.
– Стрихнином?
– Да, стрихнином... Потом я сделал два картонных футляра, вложил в них снаряды и оклеил футляры сверху коленкором. После этого снаряды от меня унесли. Собственно говоря, этим и ограничилось мое участие в замысле на жизнь государя императора.
Котляревский, вытянув шею («Лиса делает стойку», – отметил Саша), посмотрел через плечо сидевшего перед ним арестованного в сторону писарей, как бы спрашивая: все успели записать? – и, получив утвердительный ответ, снова опустился на стул. («Сейчас лиса начнет мышковать, петлять, путать следы, вертеть хвостом...»)
– Скажите, Ульянов, – начал прокурор медленно, задумчиво, – а третий снаряд вы тоже коленкором обклеили?
– Ни о каком третьем снаряде я ничего не знаю.
– Но ведь всего было три снаряда?
– Не знаю. Уж чего не знаю, того не знаю, – улыбнулся Саша.
– Три, три, – сделал уверенный жест рукой Лютов. – У Генералова – раз, у Андреюшкина – два, у Осипанова – три.
– Разве только три? – повернулся Котляревский к ротмистру. – А у этих – у Канчера, Горкуна, Волохова ничего не было?
– По-моему, три, – наморщив лоб, обозначил напряжение памяти Лютов. – Впрочем... Александр Ильич, ведь только три снаряда у вас было, я не ошибаюсь? Или было там, кажется, что-то еще, а?
Прокурор сидел за столом, напряженно изогнувшись. В светлых выпуклых глазах поблескивала почти болезненная сосредоточенность. Рыжеватые волосы, нарушив пробор, бывший безукоризненным в начале допроса, вроде бы даже пошевеливались над головой своего хозяина. Жандарм, наоборот, был весь воплощение уверенности и спокойствия: грудь осанисто развернута, плечи отведены назад, в приветливом взгляде – отеческое благодушие, океан доброты, кротость, приглашение к разговору исключительно по душам.
«Комедианты, – думает Саша, – дешевые комедианты. Неужели вот на такие же простейшие крючки попались Горкун и Канчер?»
– Я уже сообщил, – это вслух, – что принимал участие в изготовлении только двух снарядов. Ни о каких других средствах нападения на царя мне ничего не известно.
– Позвольте, Ульянов, – скороговоркой зачастил Котляревский, – но ведь вы же знали лиц, которые должны были совершить покушение, то есть бросать снаряды?
– Да, знал.
– Сколько их было?
– Я отказываюсь отвечать на этот вопрос.
– Но мы-то знаем, сколько их было! – неожиданно закричал пронзительным голосом товарищ прокурора. – Их было трое! Значит, и снарядов было три!
– Если вы все знаете, тогда нелепо продолжать эту комедию вопросов, на которые у вас уже имеются ответы,
– Вы должны сказать, кто изготовил третий снаряд!
«Хотите использовать мой ответ при допросе других товарищей? Нет, от меня вы не добьетесь того, чего я не захочу сказать сам. Напрасная затея».
Он вдруг обозлился на Котляревского. Тупица. Посредственность. Ничтожество. Не может отличить, кто ловится на его примитивные штучки, а кто нет...
– Кто доставил к вам на квартиру азотную кислоту и белый динамит? – снова начал товарищ прокурора.
– Отвечать отказываюсь.
– Кому вы возвратили приготовленные снаряды?
– Отвечать отказываюсь.
– Кто вместе с вами набивал снаряды динамитом?
– Я это делал один.
– Но снарядов было три?
– Да, три.
– А вы сделали два?
– Два.
– Где же хранился третий снаряд?
– Не знаю.
– Вы также утверждаете, что вам было неизвестно число прямых участников нападения на государя?
– Да, неизвестно.
– Желаете показать что-либо об участии в вашем деле арестованного Андреюшкина?
– Нет, не желаю. Я устал. Прошу отправить меня в крепость.
– Генералова?
– Не желаю.
– Осипанова?
– Нет.
– А не могли бы вы объяснить, Ульянов, какая роль в организации покушения была отведена Иосифу Лукашевичу?
– Не могу объяснить.
– Но вам же знакома эта фамилия?
– Да, знакома. Это мой однокурсник по университету.
– Тогда в чем же дело?
– Я прошу отвезти меня в крепость.
– Я не понимаю вас, Ульянов. Вы снова начинаете упорствовать.
«Молчать. Только молчать. И требовать отправки назад в камеру. Иначе не выдержат нервы. Потеряешь контроль над чувствами. И тогда возможны ошибки. А этого я себе не прощу...»
Ротмистр Лютов, потянувшись, хрустнув костяшками пальцев, поднялся из-за стола.
– Я думаю, что сегодня уже следует заканчивать вопросы, – сказал он дружелюбно, поглядывая на Сашу. – Александр Ильич устал, да ведь и мы тоже люди живые. Пора закусить, отдохнуть. Желудочный сок – он ведь не зря вырабатывается. Что там наука на этот счет говорит, Александр Ильич, а?
Саша молчал.
– Последний вопрос, – упрямо поджал губы товарищ прокурора. – На какое время было назначено покушение? Потрудитесь, Ульянов, назвать час более точно.
– Ну откуда же ему знать об этом? – добродушно рассмеялся жандарм. – Ведь Александр Ильич у нас техник. Он покушениями не занимается. Он только бомбы динамитом набивает.
Ротмистр сделал знак писарям – вызвать конвой. Иванов и Хмелинский вышли.
– Между прочим, – Лютов положил Саше сзади руку на плечо, – товарищи ваши более разговорчивы и откровенны. Я, конечно, понимаю – принципы и так далее. Но ведь этак можно и в смешное положение попасть...
Вошел конвой.
– Расстаемся не надолго, Александр Ильич, – разгладил Лютов усы. – Всего лишь до завтра. Подумайте о моих словах. Не надо усложнять жизнь себе, а заодно и нам. Помните о ваших братьях в Симбирске.
Когда Ульянова увели, Котляревский нервно встал, шумно отодвинул стул.
– Я удивлен вашей бестактностью, ротмистр, – обиженно заговорил он, собирая листы протокола. – Почему вы прервали мои вопросы? Ведь он уже начал раскрываться. Он подтвердил показания Канчера по поводу...
– А я удивлен вашей ненаблюдательностью, господин товарищ прокурора! – грубо оборвал Котляревского Лютов. – Он уже закрылся, ушел в себя, а вы все еще продолжали спрашивать о каких-то мелочах. Вы же знаете мнение государя: взяты мальчишки! Основные участники заговора на свободе. В любую минуту покушение может быть повторено!
Ротмистр грузно прошелся по комнате.
– Нужно нащупать их связи на свободе. Нужно дать понять Ульянову, что мы знаем об этих связях.
– Я полагаю, что все связи давно уже обрублены. По делу арестовано около восьмидесяти человек. Их организация полностью разгромлена.
– Когда казнили желябовцев, все тоже были уверены, что террористов в стране больше нет. Однако ровно через год Желваков и Халтурин убили в Одессе Стрельникова. Вы знаете об этом не хуже, чем я.
Лютов поправил воротник мундира, дотронулся рукой до шеи.
– Если что-нибудь подобное повторится и сейчас, нам не простят этого никогда. Вот о чем нужно думать больше всего.
Котляревский молча перебирал листы протокола.
– Завтра он заговорит совсем по-другому, – ротмистр щелкнул пальцами, сделал уверенный жест рукой. – Завтра он назовет новых участников заговора. Ему нужна ночь, чтобы решиться на это. И если он не дурак, то он понял сегодня, что нам от него нужно прежде всего. А он далеко не дурак, и мы с вами имели возможность убедиться в этом.