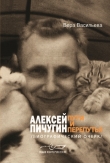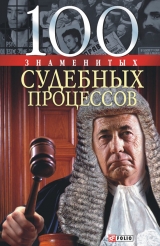
Текст книги "100 знаменитых судебных процессов"
Автор книги: Валентина Скляренко
Соавторы: Яна Батий,Мария Панкова,Валентина Мирошникова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 54 страниц) [доступный отрывок для чтения: 20 страниц]
Тем временем Хусейн в свободное от слушаний время занимался литературной деятельностью и собирался подать иск в Международный суд в Гааге на правительства Соединенных Штатов Америки и Великобритании – за массовые убийства иракцев в Багдаде, Рамади и Эль-Фаллудже, а также за издевательства над пленными в тюрьме «Абу-Грэйб». А его сограждане распространяли рукописи в «самиздате» и обсуждали их. Ведь многие иракцы считали, что Хусейн на самом деле боролся за улучшение их жизни. И по крайней мере несколько сотен человек готовы были дать показания в защиту бывшего президента. Но этого не потребовалось. 5 ноября 2006 года суд объявил бывшего президента Ирака виновным в преступлениях перед человечеством и приговорил к смертной казни. 30 декабря 2006 года в 06.00 по местному времени приговор был приведен в исполнение. Казнь состоялась в присутствии семи представителей власти Ирака. Вместе с Саддамом Хусейном были повешены бывший глава иракской разведки Баразан Ибрагим аль-Тикрити и экс-глава Революционного трибунала Аввад Хамид аль-Бандар.
На скамье подсудимых – террористы
Выстрелы, прогремевшие на весь мир
Франц Фердинанд
Гаврило Принцип
Убийство наследника престола Австро-Венгерской империи Франца Фердинанда произошло в Сараеве более чем 90 лет назад. Это трагическое событие стало отправной точкой Первой мировой войны, а по сути – и обеих мировых войн в XX веке. Поверить в то, что небольшая группа террористов, задумавшая и осуществившая убийство, предрешила начало мировой войны – весьма сложно. Неужели так уж велика роль случая в истории? Нет, начало войны в 1914 году было далеко не случайным. Но вполне вероятно, что без выстрелов в Сараеве всемирная история пошла бы по другому пути – без потрясающих общественных катаклизмов и невиданных жертв.
28 июня 1914 года в столице Герцеговины Сараеве двумя выстрелами из браунинга были убиты наследник австро-венгерского престола, пятидесятилетний эрцгерцог Франц Фердинанд д’Эсте и его жена герцогиня фон Гогенберг. Это уже само по себе драматическое событие имело роковые последствия для всего человечества. Послужив формальным поводом для начала войны между Австро-Венгрией и Сербией, оно положило конец благостному XIX веку и открыло эпоху невиданных военных конфликтов, кровавых революций, массовых репрессий и все ужесточающихся террористических актов.
25 июня 1914 года эрцгерцог, около года назад получивший наивысший в Австро-Венгрии военный пост, прибыл в Боснию и Герцеговину на военном корабле. Здесь проводились маневры, на которых он должен был присутствовать в качестве генерал-инспектора австрийской армии. Маневры прошли отлично, и на воскресенье (28 июня) была назначена политическая часть визита: торжественный проезд наследника престола по Сараево и посещение органов самоуправления.
Воскресным утром процессия из четырех открытых автомобилей во главе с эрцгерцогом въехала в Сараево и двинулась вдоль набережной Аппель по направлению к зданию мэрии. Франц Фердинанд, соответствуя торжественности момента, в полной военной форме, при орденах, сидел в первом автомобиле. Рядом с ним находилась его жена Софи, герцогиня Гогенбергская – очаровательная женщина. Белое нарядное платье герцогини ослепительно сверкало в лучах июньского солнца. Августейшие супруги были в приподнятом настроении. В этот день исполнялось 14 лет со дня их свадьбы. И Фердинанд, сторонник независимости южных славян, решил отпраздновать семейное событие в Сараеве, которое некогда было столицей Боснии. Интересен тот факт, что 28 июня было не только днем свадебной годовщины эрцгерцога, но и днем святого Витуса, днем национальной скорби южнославянских патриотов, которые в 1914 году отмечали 525-ю годовщину битвы при Косове, когда боснийская армия была разгромлена турками. Именно из-за совпадения дат – дня святого Витуса и приезда в Сараево эрцгерцога – о заговоре впоследствии много говорили как о некоем мистическом событии.
На людных улицах Сараево в тот день было торжественно, празднично и шумно. Автомобильную процессию эрцгерцога встречали стоявшие вдоль улиц толпы горожан, приветствовавшие криками наследника австро-венгерского престола. Кортеж медленно двигался в сторону городской ратуши, как вдруг юноша из толпы бросил в направлении автомобиля эрцгерцога какой-то предмет. Увидев это, Франц Фердинанд одной рукой заслонил жену, другой – откинул предмет в сторону. Предмет, оказавшийся бомбой, отлетел под колеса машины сопровождения и там с оглушительным грохотом взорвался. При взрыве пострадали 22 человека, в числе которых были и два офицера из свиты эрцгерцога. Сам он не пострадал, у графини была легко оцарапана шея. Торжественность процессии, естественно, нарушилась. В толпе поднялась паника. Но террористу, метнувшему бомбу, скрыться в суматохе не удалось, его схватили.
Разгневанный Франц Фердинанд и его сопровождающие приняли решение, что процессия продолжит свой путь, изменив маршрут. Однако в неразберихе никто не предупредил об этом шофера эрцгерцога, и тот поехал по пути, утвержденному заранее, то есть свернул с широкой набережной на узкую улочку Франца Иосифа. Заметив это, военный губернатор Боснии Оскар Потиорек закричал: «Это неверный путь! Назад!». Водитель резко затормозил и остановил автомобиль. По злополучной случайности как раз на этом месте, в двух метрах от машины, стоял еще один из вооруженных террористов – девятнадцатилетний Таврило Принцип. Франц Фердинанд оказался, что называется, лицом к лицу с человеком, державшим в протянутой руке револьвер. Раздались два выстрела. Первая пуля разорвала сонную артерию эрцгерцога, вторая перебила брюшную аорту его жены. Эрцгерцог успел только сказать: «Софи, Софи! Не умирай, ради детей!» Но уже через несколько минут они оба были мертвы. Тем временем на набережной схватили стрелявшего. Террорист отчаянно сопротивлялся, пытался покончить с собой, но ему не дали этого сделать. В схватке лишь по счастливой случайности не взорвалась находившаяся при нем бомба. Принципа сильно избили, он получил ранение (в тюрьме рана открылась, и ему пришлось ампутировать руку). Чудом оказавшийся рядом фотограф-любитель снял едва ли не самый момент покушения. Но тогда никто и предположить не мог, насколько значимым будет этот момент в мировой истории. Никто не думал, что трагедия в Сараеве послужит поводом для начала крупномасштабной, жестокой и бессмысленной войны.
В ходе следствия полиция арестовала не один десяток заговорщиков. Выяснилось, что в день убийства на улицах города находилось семь вооруженных террористов. Основными фигурантами в деле выступили исполнители покушения: Г. Принцип – убийца эрцгерцога и его жены и Н. Габринович – неудачливый бомбометатель. Оба юнца являлись членами националистической организации «Млада Босния», которая ставила своей целью борьбу за освобождение Боснии и Герцоговины из-под власти Австро-Венгерской монархии и объединение их с Сербией в единое государство южных славян – Югославию. Сегодня, когда девять десятилетий спустя в Боснии пролилось столько крови, чтобы страна отделилась от Сербии, упоминания об организации «Млада Босния» и связанных с ней событиях звучат со злой иронией. Без сомнения, история порой играет с нами в свои, не всегда доступные нашему пониманию игры.
«Млада Босния» находилась под контролем сербской террористической организации «Объединение или смерть», более известной как «Черная рука», во главе которой стоял полковник Д. Димитриевич, одновременно возглавлявший разведку генерального штаба Сербии. Димитриевич утверждал, что убийства и террористические акции вполне законны и оправданны в качестве средств политической борьбы, а главное – они гораздо более эффективны, нежели «интеллектуальная пропаганда». Уже к концу 1913 года «Черная рука» сумела полностью подчинить своему влиянию «Младу Боснию» и превратить неясные, но пылкие стремления ее членов в конкретные хладнокровные террористические действия. Первым таким делом должно было стать убийство генерала О. Потиорека. К покушению активно готовились, как вдруг неожиданно пришло известие, что 28 июня 1914 года эрцгерцог Фердинанд намерен посетить Сараево. Планы террористов мгновенно изменились, и теперь все усилия боснийских «борцов» были направлены на убийство эрцгерцога, олицетворявшего, по их мнению, ненавистную монархию. Г. Принцип, Н. Габринович и Т. Грабец поселились в столице Сербии Белграде. Здесь они прошли самую настоящую боевую подготовку. Возвратившись в Боснию, эти студенты вместе со школьным учителем Д. Иличем, завербовавшим еще четырех парней, стали готовиться к убийству Фердинанда. Каждому из подготовленных террористов был выдан пистолет, граната, а чуть позже еще шесть бомб, четыре браунинга и доза цианистого калия для того, чтобы покончить с собой во избежание ареста. По утверждению историка Р. Эрганга, «несколько членов сербского кабинета, включая премьер-министра, знали о заговоре, и будь у них намерение помешать покушению, они легко бы с этим справились».
Суд над Г. Принципом и его сообщниками начался в Сараеве 12 октября 1914 года. Всего к суду было привлечено 25 человек. «Здесь судят малую группу участников безобразного, жестокого и глупого убийства. Настоящие преступники находятся в Белграде», – заявил прокурор. Судебное заседание, на которое были приглашены журналисты, длилось неделю, после чего был объявлен приговор. Д. Илич, признанный руководителем заговорщиков, и еще четверо членов «Младой Боснии» были приговорены к смертной казни; Г. Принцип, Н. Кабринович и Т. Грабец – к двадцати годам тюрьмы (поскольку Г. Принцип был несовершеннолетним, смертную казнь ему заменили тюремным заключением), Попович – к тридцатилетнему заключению. Для большинства осужденных это означало медленную смерть. Так и случилось. Кабринович и Грабец умерли от туберкулеза через два года. Принцип, который тоже страдал от чахотки, дожил до 1918 года. И только Поповичу удалось отсидел весь срок и выйти на свободу уже пожилым человеком. Всего в результате судебного расследования шестнадцать террористов были осуждены, девять оправданы, трое приговорены к смертной казни.
Приговор, вынесенный Принципу, был странным и сложным: 20 лет тюремного заключения, с одним днем полного поста в месяц и с заключением в какой-то особый карцер в каждую годовщину сараевского дела. Свой срок Принцип отбывал в тюрьме чешского городка Терезин. Там преступник и умер. Его похоронили в ничем не обозначенном месте, могилу сровняли с землей. Один из солдат, участвовавших в этой процедуре, запомнил место погребения, и позже тело отыскали. В 1926 году останки убийцы с почестями были перезахоронены в Сараеве. На той самой улице, где когда-то было совершено преступление, находится музей Г. Принципа – музей в честь убийцы, давшего повод для развязания Первой мировой войны.
Выстрелы, прозвучавшие 28 июня 1914 года в Сараеве, как писали тогда газеты, «прогремели на весь мир». Политики Европы и Америки с тревогой, но без особых надежд на благоприятный исход, ждали продолжения кровавой трагедии, начавшейся в Сараеве. «Это действительно ирония судьбы, что будущий император, который постоянно выступал в защиту прав южных славян, пал жертвой преступной пропаганды и пансербской агитации», – заявил британский консул в Будапеште. Никто не сомневался, что действия убийц-заговорщиков направлялись из Белграда, тем более что «Черная рука» и не пыталась скрывать свои намерения (два года спустя глава «Черной руки» Д. Димитриевич был приговорен к смертной казни за попытку убийства регента будущего короля Сербии). Германия, Англия, Франция и страны, входившие в Австро-Венгерскую империю, выражая глубокие соболезнования двору Франца Иосифа, высказывали все же надежду, что «Австрия будет действовать так, чтобы не вовлечь всю Европу в расхлебывание последствий трагедии». Император Франц Иосиф I, всегда прохладно относившийся к своему августейшему племяннику, похоронил Франца Фердинанда и его супругу весьма сдержанно, если не сказать бесстрастно. Он положил на могилу герцогини Софи две белые перчатки. Это означало, что он считает ее лишь придворной дамой (Франц Иосиф так и не смог простить своему племяннику его морганатический брак с «простой графиней»). Однако австрийское правительство решило выжать из убийства максимум возможного.
23 июля 1914 года правительство Австро-Венгрии направило Сербии ультиматум с требованием распустить и запретить все националистические организации, призывающие к террору. Кроме того, Сербии предлагалось принять участие в расследовании убийства, арестовать официальных лиц, поддерживающих заговор против Габсбургской монархии, допустить к расследованию специалистов из Вены, а также принести свои извинения империи и таким образом признать свою долю вины в случившемся. Сербия выразила готовность принять основные пункты ультиматума. Однако между строк прочитывалось, что сербы вовсе не собираются выполнять все требования Вены и не так уж опасаются каких-либо враждебных действий с ее стороны. Ровно через месяц после покушения – 28 июля 1914 года – Австро-Венгрия объявила Сербии войну. Николай II, пренебрегая мнением тех, кто надеялся удержать его от пагубного шага, объявил в Российской империи мобилизацию. В ответ на это Германия – союзница Австро-Венгрии – объявила войну России. Великобритания и Франция – союзники России – объявили войну Германии. И смертоносное колесо мировой войны закрутилось. «Какая-нибудь глупая мерзость на Балканах может привести к великой войне в Европе», – говорил Бисмарк. В начале XX века так и произошло. С той лишь поправкой, что война охватила не Европу, а весь мир. Так, с убийства в Сараеве началась Великая мировая война – первый конфликт мирового масштаба, в который было вовлечено 38 из существовавших в то время 59 независимых государств. Первая мировая война – одна из самых длительных, кровопролитных и значительных по последствиям в истории человечества – продолжалась более четырех лет. Все воевали со всеми, на уничтожение людей были брошены только что изобретенные аэропланы и танки, ядовитые газы и пулеметы. Население воюющих стран составляло свыше 1,5 млрд человек, то есть около 87 % всех жителей Земли. В общей сложности за годы войны было мобилизовано около 73,5 млн человек. Из них более 10 млн было убито, 20 млн ранено и 3,5 млн человек навсегда остались калеками. К тому же была перекроена карта Европы, начались великие революционные потрясения, изменившие ход мировой истории.
Суд, которого не было
30 августа 1918 года во время митинга на заводе Михелъсона в Замоскворецком районе Москвы тремя выстрелами был ранен глава Советского государства Владимир Ленин. По подозрению в совершении покушения была арестована Фанни Каплан, признавшая свою вину. Каплан утверждала, что это решение она приняла самостоятельно и сообщников не имеет. К расследованию преступления подключились нарком юстиции Д. Н. Курский, член коллегии этого же наркомата М. Ю. Козловский, секретарь ВЦИК В. А. Аванесов, заместитель председателя ВЧК Я. X. Потере, заведующий отделом ВЧК Н. А. Скрыпник, следователь по особо важным делам Верховного Трибунала РСФСР и ВЧК В. Э. Кингиссепп. «Пуля, направленная в нашего вождя предательской рукой изменника, стремилась поразить сердце и мозг мировой социалистической революции, – гласила резолюция Московского совета рабочих и крестьянских депутатов. Ответом на покушение стал развязанный в стране так называемый «красный террор».
Фанни Каплан
3 сентября 1918 года. Четыре часа пополудни. Помещение кремлевского гаража. Худая, растрепанная женщина близоруко щурится, поглядывая на автомобиль, который отвезет ее на очередной допрос. Сколько их было за последние пять дней? Все слилось и смешалось в сознании: лица следователей, яркий свет лампы, бесконечные вопросы. Болит голова и саднит исколотая прохудившейся обувью пятка. «К машине!» – приказ кремлевского коменданта Малькова пронзает ноющий висок как пуля. И точно: вслед за возгласом, будто с небольшим опозданием, раздается выстрел. Все. Занавес.
А что потом? Тело женщины обольют бензином и сожгут. Искавший на казни революционного вдохновения пролетарский поэт Демьян Бедный получит его сполна и потеряет сознание.
30 августа на исходе. Лубянка. Допрос продолжается не один час. Оба – и следователь, и подследственная – смертельно устали друг от друга. Вопросы Я. Петерса следуют один за другим.
– Кто вы?
– Кто ваши сообщники?
– С какой партией вы связаны?
– Кто руководил подготовкой покушения?
В ответ или молчание, или скупое «не скажу». Впрочем, чистосердечное признание давно получено. Но поверить, что Каплан – террористкаодиночка… Нет, невозможно. Разве что она сумасшедшая… В какой-то момент нервы задержанной действительно сдают.
– Убила я его или нет?! – истерически кричит Фанни. Ответ повергает женщину в еще большее отчаяние. Все зря. Неожиданно Яков Петерс задает вопрос, к делу не относящийся:
– Кем был ваш отец?
И Фанни вдруг раскрывается, словно пытаясь в воспоминаниях о дореволюционном прошлом спрятаться от кошмарного настоящего. Следователь спрашивает Каплан о детстве, о каторге, о проблемах со зрением.
«Я, Фаня Ефимовна Каплан. Под этой фамилией жила с 1906 года. В 1906 году была арестована в Киеве по делу о взрыве. Была приговорена к вечной каторге. Сидела в Мальцевской каторжной тюрьме, а потом в Акатуевской тюрьме.» В сухих строках протокола допроса – вся жизнь Фейги Ройдман (таково настоящее имя задержанной).
Она родилась в 1890 году в Волынской губернии в многодетной семье меламеда – учителя еврейской религиозной начальной школы. Хаим Ройдман дал ей очень поэтическое и мирное имя. Фейга значит «фиалка». С таким именем можно растить детей, фаршировать рыбу и вышивать гладью. Знал ли отец, что его цветочек захочет убивать? Водоворот революции 1905 года подхватил несовершеннолетнюю фиалку, вскружил голову и вынес на анархистский берег. Друзья-революционеры дали ей менее ботаническое имя – Дора.
22 декабря 1906 года в 1й купеческой гостинице на киевском Подоле прогремел взрыв. На месте была задержана молоденькая модистка Фейга Каплан. Именно это имя было написано в найденном при обыске фальшивом паспорте. Также в дамской сумочке обнаружили еще один далеко не дамский предмет, а именно заряженный браунинг. Девушка была легко ранена, на вопросы не отвечала, отказывалась даже назвать свое настоящее имя. Однако и без ее показаний полиции все было ясно. В номере взорвалась бомба, предназначавшаяся кому-то из высших чиновников, предположительно киевскому генерал-губернатору. С террористами в то время не церемонились. Будь Дора чуть постарше, не миновать бы ей смертной казни. Но ввиду несовершеннолетия Фейга Каплан была приговорена к пожизненной каторге. В 1913 году в связи с амнистией, объявленной к 300-летию дома Романовых, срок сократили до 20 лет.
Четыре года Каплан была узницей Мальцевской каторжной тюрьмы. Она страдала от сильнейших головных болей (видимо, сказалась не замеченнная врачами контузия при взрыве в гостинице). Летом 1909 года во время очередного приступа девушка совсем ослепла. Зрение вернулось через три дня, однако вскоре новый припадок погрузил ее в кромешную тьму, теперь уже надолго. Товарки жалели подругу, надзиратели считали симулянткой. Фанни пыталась наложить на себя руки. Однако жизнь взяла верх. Каплан смирилась, даже начала изучать шрифт Брайля.
В 1911 году ее перевели в Акатуйскую каторжную тюрьму в Нерчинском горном округе Забайкалья. Здесь судьба свела ее со знаменитой социал-революционеркой Марией Спиридоновой. Старшая подруга привила Фанни свои политические взгляды. На волю, дарованную Февральской революцией, Каплан вышла уже убежденным эсером.
Воодушевленная громадными переменами Фанни примчалась в Москву. Здесь она поселилась у своей подруги-политкаторжанки Анны Пигит в доходном доме на Большой Садовой (том самом, куда Булгаков лет через десять поселит Воланда). Летом ей, как жертве царизма, предоставилась возможность за государственный счет отдохнуть в Крыму. В Евпаторийском санатории для бывших политкаторжан Фанни познакомилась с Дмитрием Ульяновым и, по слухам, между ними даже завязался роман. Младший брат Ленина посоветовал Каплан обратиться в харьковскую офтальмологическую клинику к знаменитому Гиршману и сам дал ей направление. Операция оказалась успешной. Но прозрение пришло не только в физическом смысле. Октябрьский переворот открыл ей глаза на большевизм. Учредительное собрание распущено. Объявлена диктатура пролетариата. О каком социализме теперь может идти речь? Потом был митинг на заводе Михельсона, выстрелы, ранение В. И. Ленина, арест на Серпуховской улице, признание. Но все ли так просто?
На самом деле в образовавшейся давке невозможно было понять, кто и из чего стрелял в Ленина. Каплан задержали вне территории завода на Серпуховской улице. Женщина стояла под деревом, в руках держала сумочку и зонтик. Вид у нее был странный, и именно это заставило помощника комиссара Батулина заподозрить в Каплан лицо, «покушавшееся на товарища Ленина». Никакого револьвера при ней найдено не было. «Это сделала я!» – сказала Фанни. И этого было достаточно, чтобы в машине революционного правосудия завертелись все колеса. Завертелись, впрочем, неслаженно: показания свидетелей противоречили друг другу, орудие покушения не нашли, подковерные партийные интриги мешали следствию.
В первосентябрьском номере «Известий» чекисты обратились за помощью к населению: «Чрезвычайной комиссией не обнаружен револьвер, из коего были произведены выстрелы в тов. Ленина. Комиссия просит лиц, коим известно что-либо о нахождении револьвера, немедленно сообщить о том комиссии.» 2 сентября оружие было найдено. Его принес некий Кузнецов, якобы подобравший браунинг «на память». И это в царившей после покушения суматохе, когда чекисты проверяли всех без разбора!
О том, как «дамочка в черном» применила этот револьвер, каждый из 17 опрошенных свидетелей твердил свое. То оказывалось, что полуслепая женщина стреляла в вождя как минимум с двадцати шагов. И как только попала! По другой версии, она подошла к Ильичу практически вплотную. Тогда удивительны промахи. А кто-то утверждал, что эсерка прикрывалась мальчиком, стоявшим рядом с Лениным, – ребенка, ведьма, не пожалела! Шофер Ленина как-то не сразу «вспомнил» о том, что Каплан сразу после выстрелов бросила револьвер ему под ноги. Чуть позже он добавил к показаниям, что «толкнул его ногой под автомобиль». Заметим, что сам Ленин, придя в себя после выстрела, вообще спросил: «Его поймали?»
Вначале в качестве возможной соучастницы была задержана кастелянша Попова. Во время выстрелов она ближе всех находилась к главе государства и тоже получила ранение. По мнению чекистов, эта гражданка, будучи в сговоре с Каплан, должна была то ли отвлекать охрану, то ли подставить Ильича под выстрел. Однако Кингисепп вскоре понял, что это не так: «Допросив подробно обеих дочерей Марии Григорьевны Поповой, я вынес вполне определенное впечатление, что М. Г. Попова является заурядной обывательницей, которая если интересовалась какими-либо общественными вопросами, то исключительно вопросом о хлебе. Нет ни тени подозрений, чтобы она была причастна к правоэсеровской или иной партии или к самому заговору. Дочери являются достойными дочерьми своей матери, выросли в нужде и беде, и картофель для них выше всякой политики. Ольгу и Нину Попову освободить».
Время шло, а следствие не продвигалось вперед. 2 сентября Свердлов созвал президиум ВЦИК. Петерс заявил, что нужно еще время. Доказательств не хватает, еще не готова дактилоскопическая экспертиза. Мнение Свердлова однозначно: расследование продолжать без Каплан. Она ведь во всем уже призналась. Сложившаяся ситуация требует решительных действий – расстрела. Вот выдержка из протокола.
Свердлов: «В деле есть ее признание? Есть. Товарищи, вношу предложение: гражданку Каплан за совершенное ею преступление сегодня расстрелять».
Петерс: «Признание не может служить доказательством вины».
Позже он признается: «У меня была минута, когда я до смешного не знал, что мне делать, – самому застрелить эту женщину, которую я ненавидел не меньше, чем мои товарищи, или отстреливаться от моих товарищей, если они станут забирать ее силой, или. застрелиться самому».
Впрочем, отстреливаться Петерс не стал. Каплан забрали из Лубянки в Кремль. Попытка найти «заказчиков» покушения в странах Антанты (Фанни посадили в одну камеру со «шпионом» – британским посланником Брюсом Локартом) не увенчалась успехом. 3 сентября женщину повели в гараж.
Через четыре года после расстрела сообщники Каплан все-таки «найдутся». В 1922 году состоится процесс над лидерами социал-революционеров. Г. Семенов и Л. Коноплева, руководители боевой группы эсеров, признаются, что это они готовили теракт и руководили действиями Фанни. Однако все это вызывает большие сомнения. Если террористы действительно хотели убить Ленина, почему доверили это дело больной слабовидящей женщине, которая одним своим «экзальтированным» видом вызывала подозрения? Почему хотя бы не снабдили ее удобной обувью (в одной из туфель Фанни торчал гвоздик)? Скорее всего дело Каплан просто использовали, чтобы обезглавить эсеровское движение. Пострадали многие. Но в их числе не было. ни Семенова, ни Коноплевой. После суда эта парочка оказалась на свободе. Поразительный пример мягкости советского правосудия! Особенно если вспомнить, как оно обошлось с Каплан! Интересно, что никто из осужденных эсеров не подтвердил показания «соучастников покушения на Ленина».
Так кем же была Фейга Ройдман, Дора, Фанни Каплан? Полусумасшедшей террористкой-одиночкой, решившей, что ее слабая женская рука способна изменить историю огромной страны? Или, может, она – лишь безвольная пешка в чьей-то чужой игре? Та поспешность, с которой от нее избавились, многочисленные противоречия в свидетельских показаниях, нежелание некоторых соратников Ленина дождаться настоящих результатов следствия – все это говорит в пользу второй версии. Создается впечатление, что кому-то очень нужно было замести следы неудавшейся внутрипартийной интриги. Этот кто-то и смахнул небрежно фиалку в огонь.