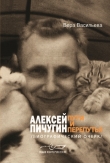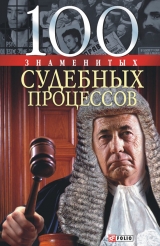
Текст книги "100 знаменитых судебных процессов"
Автор книги: Валентина Скляренко
Соавторы: Яна Батий,Мария Панкова,Валентина Мирошникова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 54 страниц) [доступный отрывок для чтения: 20 страниц]
Игорь Александров. Расправа над журналистом
«Он давал в эфир очень серьезные вещи, в этом нет сомнений», – сказал о журналисте Игоре Александрове судья Донецкого апелляционного суда И. Корчинский. Действительно, авторская программа И. Александрова «Без ретуши» и так и не вышедшая в эфир передача «Донбасс криминальный», подготовкой которой он занимался, рассказывали о страшных, но в современной Украине уже никого не шокирующих вещах: о коррупции, о должностных преступлениях в правоохранительных органах, а также о слиянии последних с криминалитетом и крупным бизнесом. Общественный резонанс после прямых эфиров программы «Без ретуши» давал журналисту повод верить, что он взял верный след. Остановить Александрова, который в своем расследовании решил идти до конца, можно было только одним методом, радикальным… Те, кому было выгодно, чтобы журналист замолчал, действовали наверняка…
Игорь Александров
Уже семь лет прошло с тех пор, как оборвалась жизнь известного украинского журналиста Игоря Александрова. Но в истории расследования его гибели до сих пор не поставлена точка. И хотя имена заказчиков и организаторов убийства названы, виновники по сей день не понесли наказания.
Наиболее громкими делами, сделавшими Игоря Александрова известным не только в Донбассе, но и во всей Украине, была его тяжба с народным депутатом Александром Лещинским, а также прямые эфиры с бывшими сотрудниками Краматорского ОБОПа Михаилом Сербиным и Олегом Солодуном. В программе «Без ретуши» офицеры публично, с экрана, обвинили свое начальство в связях с организованной преступной группировкой, а также в коррупции, превышении власти и служебных злоупотреблениях. Именно эти программы и послужили поводом для расправы с неугодным журналистом. Смерть такого авторитетного человека, как И. Александров, имевшего репутацию бескомпромиссного борца за справедливость и профессиональную честь, была на руку тем, кому эта борьба грозила большими неприятностями.
Трагедия случилась 3 июля 2001 года в здании региональной телерадиокомпании «ТОР» на улице Революции в городе Славянске Донецкой области. Утром, когда Александров, который являлся руководителем ИТРК «ТОР», вошел в здание, на него напали неизвестные. Жестоко избив 4 5-летнего журналиста тяжелыми бейсбольными битами, преступники скрылись. Вскоре Игоря Александрова доставили в больницу. Врачи семь часов оперировали пострадавшего, но спасти его жизнь не удалось. «Александрова не били, а убивали», – таков был вывод медиков. 7 июля Игорь Александров умер от тяжелой черепно-мозговой травмы, не приходя в сознание. Уже через день после зверского нападения на журналиста начальник областной милиции В. Малышев заявил, что основной версией преступления считает месть. Приехавший в Донецк две недели спустя Евгений Марчук высказался более конкретно: это была месть, связанная с профессиональной деятельностью погибшего. Впрочем, сказанное ни для кого не стало неожиданностью. Способ, место, время убийства с самого начала не допускали иных версий для тех, кто был знаком с тематикой авторских программ И.Александрова. Уже в день покушения весь Славянск только и говорил о том, за что убили журналиста, люди обсуждали и то, кому это было выгодно. «Убийство совпало с циклом передач, которые Александров вел с Сербиным и Солодуном, опальными ОБОПовцами. Игорь пообещал назвать фамилии тех людей, на которых готовится покушение и которые мешают власти. Когда начался этот цикл, тогда и произошло убийство», – сказал Валерий Прудской, директор телекомпании «САТ».
Следствие, не ограничиваясь одним направлением, разрабатывало около 30 версий. Однако такая «многоплановость» закончилась тем, что основной стала версия случайного убийства, якобы совершенного краматорским бродягой Юрием Вередюком.
Уже 27 августа 2001 года заместитель Генерального прокурора Украины С. Винокуров, курировавший «дело Александрова», заявил в СМИ, что человек, подозреваемый в убийстве журналиста, арестован и дает показания. А спустя две недели (14 сентября) следователи отчитались: убийство директора телекомпании «ТОР» раскрыто. По обнародованной тогда рабочей версии, преступление против журналиста не связано с его профессиональной деятельностью и было совершено по ошибке. Злоумышленники якобы не собирались убивать Александрова, а охотились за другим человеком.
В конце ноября 2001 года было заявлено, что расследование убийства И. Александрова завершено. Через месяц общественность узнала имя предполагаемого убийцы. По словам С. Винокурова, «следствием однозначно установлено, что убийство Александрова совершил Вередюк Юрий Григорьевич, ранее дважды судимый». Передавая дело в суд, С. Винокуров заявил, что «следствие проведено на высочайшем профессиональном уровне, максимально объективно». Но уже начало судебного процесса заставило усомниться в правдивости этого высказывания. В глазах общественности дело Вередюка лопнуло уже в процессе судебных слушаний. Государственный обвинитель убеждал суд, что Ю. Вередюк получил «заказ» избить адвоката Омельяненко, а журналист Александров стал жертвой по ошибке. Судья И. Корчистый, под председательством которого проходили судебные заседания, назвал эту версию надуманной и не получившей подтверждения в ходе судебного разбирательства. Прокуратура же отрицала не только то, что готовилось умышленное убийство именно журналиста, но и не считала профессиональную деятельность Александрова мотивом преступления. Однако версия обвинения рассыпалась в прах. По мнению суда, практически все эпизоды этого непростого дела не были доказаны. Адвокат Александровых, кстати, когда-то бывший заместителем генпрокурора, Б. Ференц заявил, что даже представить себе не мог такого непрофессионализма следствия. Органам досудебного следствия не удалось доказать, что «у Вередюка были мотивы и возможность совершить преступление». В третий раз представший перед судом Ю. Вередюк, обвиняемый в умышленном убийстве И. Александрова, был оправдан. 17 мая 2002 года Донецкий апелляционный суд постановил: за недоказанностью участия Ю. Вередюка в совершении преступления против журналиста Александрова освободить обвиняемого из-под стражи в зале суда. Это был первый в Украине прецедент, когда обвиняемого в убийстве исполнителя, подтверждающего свою вину, оправдали.
Оправдательный приговор стал неожиданностью для всех присутствующих в зале суда, сам Вередюк плакал. Вдова И. Александрова Людмила сказала об этом: «Не ожидали, но удовлетворены, потому как с самого начала мы говорили, что он не убийца». Но Донецкая прокуратура, не удовлетворившись решением суда, подала апелляцию в Верховный суд Украины. Отсидевший девять месяцев в СИЗО Вередюк хотел подать судебный иск о возмещении ему материального и морального ущерба и начать новую жизнь. Но 19 июля 2002 года, за несколько дней до рассмотрения Верховным судом протеста областной прокуратуры, Вередюк неожиданно скончался. Согласно официальной версии, причиной смерти явилась острая сердечная недостаточность, осложнившаяся инфарктом миокарда. Правда, в такое объяснение мало кто верил. Опасения за жизнь краматорского бомжа возникли сразу после того, как было принято решение о вынесении ему оправдательного приговора. Об этом после судебного заседания говорили журналисты. К сожалению, установить, на чьей совести лежит смерть Ю. Вередюка, не удалось. Как не удалось выяснить и то, от кого краматорский бомж получил предложение признаться в убийстве журналиста – от мафии, сотрудников правоохранительных органов, прокуратуры или СБУ. Ясно одно – за все те блага, которые ему пообещали в случае признания вины: минимальный срок лишения свободы – восемь лет – и материальное вознаграждение – машина, однокомнатная квартира в г. Краматорске и соответствующее отношение в местах отбытия приговора, бездомный бродяга согласился взять на себя убийство Александрова.
Коллеги и друзья погибшего журналиста были возмущены тем, как вела себя на суде сторона обвинения. Они считают, что судебный процесс над Вередюком прокуратура превратила в посмертное судилище над самим Игорем Александровым. Так, прокурор Ю. Балев заявил, что «ряд программ критического содержания о тех или иных событиях», созданных журналистом И. Александровым, «носил поверхностный характер, а вся критика, звучавшая в них, сводилась к высказываниям и обвинениям, которые ничего общего с объективной действительностью не имели». Из его слов следовало, что критические передачи, подготовленные Игорем Александровым, были продиктованы «чувством неприязни или мести, то есть низменными побуждениями». Прокурор обвинил покойного журналиста и бывших краматорских ОБОПовцев М. Сербина и О. Солодуна, сотрудничавших с ним, в распространении «через эфир ТРК «ТОР» надуманных обвинений работников правоохранительных органов в коррупции, превышении власти, служебных злоупотреблениях, в совершении ряда тяжких преступлений».
В июле 2002 года, через год после трагедии, Верховный суд Украины принял решение направить дело об убийстве Игоря Александрова на новое расследование. Оправдательный приговор в отношении Ю. Вередюка был отменен. А через несколько месяцев Генпрокуратура заявила о задержании заказчика, организатора и исполнителей убийства Игоря Александрова. Согласно итогам проведенного расследования, славянского журналиста убили охранники-водители руководителей промышленной корпорации «Укрлига» – Руслан Турсунов и Александр Онишко. Заказчиком преступления являлся руководитель «Укрлиги» Александр Рыбак, а организатором убийства – его брат Дмитрий Рыбак. Следствие установило, что за убийство директора ИТРК «ТОР» исполнители получили 4000 долларов. Известные в Донецкой области бизнесмены, братья Рыбаки отомстили журналисту за его сюжет в программе «Без ретуши», свидетельствующий об их связях с криминальной группировкой «17й участок». В августе 2004 года Верховный суд передал дело об убийстве Александрова на рассмотрение апелляционного суда Луганской области. 12 июля 2005 года на заседании суда один из главных свидетелей по «делу Александрова», О. Солодун, ныне начальник Краматорского ГО УМВД, заявил, что в устранении Александрова были и более заинтересованные лица, нежели братья Рыбаки. Он утверждал, что четвертый выпуск программы «Без ретуши», который так и не вышел в эфир и явился причиной гибели Александрова, «был не опасен для Рыбака». «Четвертая передача была для Рыбака не опасна. Она была опасна для прокурора, начальника милиции, губернатора области. Поскольку конфликт вышел за рамки местечкового и приобрел масштабы всеукраинского», – заявил Солодун. Главный обвиняемый по делу А. Рыбак в октябре 2005 года направил уполномоченному Верховного Совета по правам человека Н.Карпачевой письмо, в котором заявил, что украинские правоохранительные органы нарушают его конституционные права, вводят в заблуждение общественность и даже угрожают ему физической расправой. «Лишь 30 марта 2004 года, спустя 9 месяцев моего пребывания в СИЗО, спустя полгода, как СМИ объявили меня убийцей, мне наконец-то предъявили обвинение, как и обещали следователи, в ряде тяжких преступлений, в том числе в убийстве И. Александрова. Ни к одному из предъявленных обвинений я не причастен и свою вину не признал.» – написал А. Рыбак. Вдова погибшего журналиста Людмила Александрова в беседе с представителями СМИ сказала, что, по ее впечатлениям, это судебное следствие можно назвать объективным и непредвзятым. По ее словам, в ходе судебного следствия обвинения в адрес исполнителей убийства ее мужа ужесточились. «Если раньше им вменялось непреднамеренное убийство, то теперь в обвинении фигурируют сговор и материальная корысть», – сообщила Л. Александрова.
7 июня 2006 года апелляционный суд Луганской области наконец-то вынес приговор: Александр Рыбак, проходивший по делу об убийстве Игоря Александрова как подстрекатель, был осужден к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества; Дмитрий Рыбак, как организатор нападения, получил 11 лет лишения свободы; исполнители преступления Александр Онышко и Руслан Турсунов – 12 и 6 лет соответственно, а их пособник Сергей Корицкий – 2 года и 6 месяцев лишения свободы. 23 января 2007 года Верховный Суд Украины оставил этот приговор в силе, изменив в нем только некоторые формулировки.
Казалось бы, справедливость восторжествовала, и ничего нового в этом деле ждать уже не приходится. Но в Донбассе, на родине журналиста, его друзья и соратники продолжают утверждать: «На скамье подсудимых оказались лишь рядовые исполнители. Заказчики не просто остались на свободе, но – даже на вершинах власти».
За сроком давности…
По делу гибели 27-летнего корреспондента «Московского комсомольца» Дмитрия Холодова следствие и суд могут сегодня быть прекращены за сроком давности. Дважды Московский окружной военный суд оправдывал всех шестерых человек, обвинявшихся в убийстве. Станет ли это дело предметом разбирательства в Европейском суде по правам человека, точно не известно. Иск возбужден родителями Холодова и принят к рассмотрению судом в Страсбурге, но даты начала процесса пока нет.
Дмитрий Холодов
Дмитрий Холодов погиб 17 октября 1994 года в редакции газеты. В этот день журналист получил от некоего человека ключи от одной из камер хранения на Казанском вокзале, в которой находился кейс с документами, подтверждающими различные нарушения, имевшие место в Министерстве обороны, в том числе якобы и информацию о коррупции в Западной группе войск. На самом деле в чемоданчик было вмонтировано взрывное устройство. С этим дипломатом Холодов приехал редакцию. Взрывное устройство сработало, когда Дмитрий пытался открыть кейс в своем кабинете, держа на коленях. Журналист получил травмы, несовместимые с жизнью, осложнившиеся шоком и кровопотерей. «Скорая помощь», приехавшая спустя полчаса, довезла пострадавшего в институт им. Склифософского, где он, не приходя в сознание, умер. На следующий день, 18 октября 1994 года, было возбуждено уголовное дело по статье 102 УК РФ – умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. 11 ноября 1994 года был задержан первый подозреваемый по делу – взрывотехник полковник ГРУ Владимир Кузнецов, но его причастность к смерти журналиста не подтвердилась, и в июне 1995 года обвинение против него было снято. В ходе продолжающихся оперативно-розыскных мероприятий по «делу Холодова» неожиданно был найден важный свидетель – ефрейтор Александр Маркелов, бывший подчиненный майора Морозова, проходившего по делу. Точнее, Маркелова никто не находил – он объявился сам, когда в «Московском комсомольце» появились сообщения о том, что редакция готова заплатить крупную сумму за информацию о лицах, причастных к убийству Холодова. В начале 1995 года Маркелов несколько раз звонил в «МК» и обещал за несколько тысяч долларов назвать людей, готовивших взрыв, и описать, как планировалось преступление. На встрече с журналистами Маркелов представил себя «аналитиком» операции и указал на причастность к ней министра обороны Грачева. Также он рассказал, что наблюдал за изготовлением чемоданчика со взрывчаткой и описал первоначальный план убийства, по которому Холодова намеревались взорвать в подземном переходе. Все выглядело весьма правдоподобно. Холодов действительно в 1993 году крепко разозлил своими статьями о деятельности Минобороны Грачева, который отреагировал на них весьма своеобразно – тогда журналиста перестали пускать на пресс-конференции министерства – и лично приказал начальнику разведки ВДВ полковнику запаса Поповских прекратить эти публикации. Весомым было и заявление Павла Грачева, данное во время следствия: он сказал, что давал указание «разобраться с Холодовым», но не имел в виду убийство. «Кто-то из моих подчиненных меня неправильно понял», – заявил министр.
И хотя за минувшие годы в судебных заседаниях было допрошено около 300 свидетелей, в том числе сотрудники МВД и ФСБ, только один человек – Маркелов – дал показания о причастности конкретных шестерых человек к совершению убийства журналиста. 4 февраля 1998 года был задержан Павел Поповских, 20 февраля – бывший командир особого отряда 45 ОРП ВДВ майор Владимир Морозов, 24 апреля – бывший десантник, ныне предприниматель Константин Барковский, 19 июля – заместитель Морозова майор Александр Сорока и замгендиректора ЧОП «Росс» Александр Капунцов, в январе 1999 года – еще один заместитель Морозова, майор Константин Мирзаянц. Всем им было предъявлено обвинение по статье 102 УК РФ в связи с гибелью Дмитрия Холодова. Возникает закономерный вопрос: почему от показаний Маркелова и до ареста подозреваемых прошло три года?
Получается, что за исключением слов Маркелова ничто даже не намекало на причастность разведки ВДВ к взрыву в редакции. Одна из гипотез, высказанных позже, сводится к тому, что к 1998 году общественное мнение было соответствующим образом «подготовлено» средствами массовой информации, постоянно напоминавшими о нераскрытых убийствах Листьева и Холодова. Видимо, срочно потребовалось найти виновных. И поэтому вспомнили о десантниках.
Практически сразу же после ареста десантников тогдашние министр внутренних дел Анатолий Куликов и Генеральный прокурор Юрий Скуратов доложили общественности, что убийцы Холодова найдены и скоро предстанут перед судом. Подчиненным Куликова и Скуратова ничего не оставалось, как любыми способами подтвердить их правоту. Именно в это время следствие пришло к выводу, что полковник Поповских, превратно истолковав намерение Грачева, якобы решил выслужиться перед начальством и организовал убийство журналиста «из карьеристских побуждений». Другие офицеры, по версии следствия, участвовали в преступлении, помогая своему непосредственному начальнику Поповских. Для этого в октябре 1994 года в ходе занятий по минно-взрывному делу они похитили более 40 килограммов взрывчатки, 150 граммов из которых впоследствии заложили в дипломат, который Барковский оставил для Холодова в камере хранения.
После ареста Павел Поповских и другие обвиняемые сознались в преступлении, но потом изменили свои показания, заявив, что оговорили себя под давлением следователей. 8 июля 1999 года Генеральная прокуратура завершила расследование, и 4 февраля 2000 года дело было направлено в суд. 9 ноября 2000 года прошло первое заседание Московского окружного военного суда по делу об убийстве Дмитрия Холодова. В ходе процесса в качестве свидетелей были допрошены экс-министр обороны Павел Грачев, бывший командующий ВДВ Евгений Подколзин и главный редактор «МК» Павел Гусев. Следствие считало, что убийство организовал Поповских. Прокурор Ирина Алешина попросила суд признать его виновным в совершении убийства и превышении служебных полномочий, покушении на убийство, незаконном хранении боеприпасов и организации изготовления взрывного устройства, а также в организации уничтожения имущества и хищении и приговорить к 15 годам лишения свободы. Остальных подсудимых прокурор попросила признать его сообщниками. По мнению обвинения, Морозова следовало приговорить к 14,5 годам лишения свободы, Сороку – к 10 годам, Капунцова, Барковского и Мирзаянца – к восьми годам лишения свободы. Отбывать наказание все обвиняемые должны были, по мнению прокурора, в колонии строгого режима. Кроме того, по мнению прокурора, всех военнослужащих-обвиняемых следовало лишить воинских званий и государственных наград.
29 мая 2002 года завершилось судебное следствие, 7 июня начались прения сторон, а 26 июня Московский окружной военный суд оправдал всех обвиняемых «за отсутствием доказательств», отменил арест их имущества и освободил их из-под стражи в зале суда. А как же показания Маркелова? Да дело в том, что он в ходе следствия неоднократно их менял, поэтому суд пришел к выводу, что эти показания были сделаны им «из материальной заинтересованности», с целью получить обещанное газетой «Московский комсомолец» вознаграждение за информацию об убийстве ее сотрудника. Позже Маркелов и сам признался, что оговорил своих начальников, польстившись на вознаграждение. Экспертиза подтвердила, что отказ от показаний был написан Маркеловым собственноручно.
1 декабря 2002 года Генпрокуратура внесла в Верховный суд протест против оправдательного приговора, потребовав направить дело на новое рассмотрение. 27 мая 2003 года Военная коллегия Верховного суда отменила оправдательный приговор на том основании, что судья генерал-майор Владимир Сердюков не дал оценку доказательствам, изобличающим подсудимых. 22 июля 2003 года Московский окружной военный суд повторно рассмотрел материалы уголовного дела, и 10 июня 2004 года новый судья, Евгений Зубов, обвиняемых снова оправдал. Государственный обвинитель Ирина Алешина подала в Верховный суд новую жалобу, но дальнейшее рассмотрение дела на этом застопорилось. По мнению Генпрокуратуры, судья Зубов не представил протокол судебных заседаний, где должны быть расписаны все подробности процесса и доводы, на основании которых был вынесен оправдательный вердикт.
Дело Холодова выглядит далеко не таким однозначным, как его пытаются порой представить. При внимательном изучении в нем обнаруживается множество нестыковок. Так, практически все доказательства, которые прокуратура считала незыблемыми свидетельствами виновности десантников, суд подверг сомнению. Показания всех свидетелей тщательно анализировались. Но получалось так, что те из них, что подтверждали позицию обвинения, не выдерживали критики. К примеру, Александр Капунцов, по версии обвинения, в момент взрыва находился рядом со зданием издательства «Московская правда». Он должен был удостовериться в «выполнении задания». Согласно обвинительному заключению, на него после взрыва даже полетели стекла. Как выяснилось, окно кабинета, где произошел взрыв, выходит во внутренний двор, куда Капунцов попасть никак не мог. У Барковского, который по версии обвинения заложил дипломат со взрывчаткой в камеру хранения, на 17 октября 1994 года было алиби. Рано утром он уехал в Рязань, чтобы забрать свое личное дело. Он заходил там в училище ВДВ, где были строевые занятия, его видела и узнала сотрудница секретной части военкомата, передававшая ему дело. Показания, подтверждающие эти факты, суд счел убедительными. Также суд счел подтвержденным алиби Поповских и Мирзаянца, которые 17 и 18 октября находились в одной из школ города Королева, готовя ее к посещению министра обороны Грачева. Показания в пользу обвиняемых дал бывший директор школы № 2 города Королева Московской области Николай Марсов и другие свидетели.
В ходе судебных разбирательств также выяснилось, что, несмотря на доказанное алиби Барковского, с ним проводили «оперативную работу» в СИЗО, и через полтора месяца «в результате угроз, шантажа, психологического и морального давления со стороны оперативных работников уголовного розыска ГУВД Москвы» он написал заявление на имя генпрокурора, признав свою вину. Именно после этого заявления были арестованы Капунцов и Сорока – других данных об их виновности у следствия не было. К ним также ходили оперативники, допрашивали их без адвокатов и вынуждали дать показания на других десантников.
Да и по обвинению в хищении взрывчатки, которая, по версии следствия, была заложена в дипломат, все подсудимые были оправданы за отсутствием состава преступления. Показания свидетелей обвинения суд счел противоречивыми и ничего не доказывающими и установил, что взрывчатки того типа, которой взорвали Дмитрия Холодова, не было и не могло быть на том складе, с которого якобы произошло хищение. Куда же подевались остальные 25 килограммов тринитротолуола, 32 килограмма пластида, 275 различных детонаторов, 17 мин, 15 зажигательных трубок, 35 взрывателей и 30 запалов (указанные в деле), с помощью которых можно начисто стереть с лица земли несколько жилых кварталов крупного города, на этот вопрос внятного ответа у следствия не было.
Не до конца понятно и следующее. Почему способом убийства был выбран именно взрыв, хотя Холодова могли «убрать» множеством способов, начиная от проломленной головы в подъезде и заканчивая выстрелом из снайперской винтовки. Почему из всех способов убийства был выбран тот, надежность которого подвергается сомнению – ведь взрывное устройство могло не сработать, и твердой гарантии того, что дипломат откроет именно Холодов, у злоумышленников тоже не было. Сразу после взрыва следователи Сухарев и Казаков начали осмотр места происшествия. Вместе с ним работал один из лучших взрывотехников страны – подполковник ФСК, сотрудник Института криминалистики Чеканов. Они собрали мельчайшие фрагменты взорвавшегося «дипломата», анализ которых позволил бы экспертам определить характер взрывного устройства. Однако ни Чеканов, ни следователи не обнаружили там ни стержня, ни шарика от взрывателя МУВ4, потом появившихся в деле. (Но как тогда указанные предметы попали в число вещественных доказательств и оказались на экспертизе? Ответа на этот вопрос до сих пор никто не дал. Загадкой осталось и то, почему в кабинете, где погиб Холодов, поспешно был проведен ремонт, а вся мебель, напольные и стеновые покрытия буквально через день после взрыва уничтожены.)
Есть еще один любопытный факт. Незадолго до случившегося Холодов завел новую записную книжку и перенес туда из прежней необходимые ему номера телефонов. Телефона Поповских, по версии следствия, всячески контролировавшего Холодова, в новом блокноте не оказалось.
Анализ компьютера Холодова также ничего не дал. Когда эксперты попытались прочитать данные, у них ничего не получилось – жесткий диск оказался физически поврежден, причем повреждение носило умышленный характер.
Версию о том, что молодой журналист «МК» нарыл крутой компромат о поставках Дудаеву оружия и военной техники, впоследствии опровергли его коллеги – непосредственный начальник Вадим Поэгли и главный редактор «МК» Павел Гусев. Также в ходе следствия из квартиры Дмитрия Холодова и его рабочего кабинета изъяли все документы, но каких-либо материалов о поставках оружия в Чечню так и не нашли. Возникает вопрос: почему именно Холодов был выбран жертвой? В 1994 году он был довольно известным журналистом, но далеко не единственным, кто писал об армии в критическом ключе. Ссылки на разоблачительные документы маловероятны. Эти соображения невольно наводят на мысль, уже высказывавшуюся на протяжении последних десяти лет, что «дипломат» со взрывчаткой на самом деле был предназначен вовсе не Холодову и что молодой журналист стал лишь случайной жертвой преступников, метивших совсем в другого человека.
Десять лет прошло в поисках виновных, а ведь согласно статье 48 УК, «лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности, если со дня совершения им преступления истекло десять лет». Прокуратура оказалась в сложном положении: дело осталось нераскрытым и подсудимых надо отпустить. Но тут неожиданно на ее сторону встали сами подозреваемые. Все шестеро категорически не согласны с тем, чтобы дело закрыли «за давностью». В таком случае они будут автоматически признаны виновными в убийстве Холодова, которое не совершали. Впрочем, защитники утверждают, что в любом случае бывшим офицерам ничего не грозит – даже если суд признает их виновными, они должны быть освобождены от наказания.
Родители Холодова возбудили иск против Российской Федерации по делу Дмитрия в Европейском суде по правам человека. В основе иска лежит утверждение о том, что следствие и судебные власти оказались неспособными адекватно расследовать дело об убийстве журналиста «Московского комсомольца» и вынести справедливый приговор в отношении обвинявшихся. Но пока Европейский суд раскачивается и решает, на какое время назначить слушания по делу, оправданный полковник ВДВ Павел Поповских 10 июня 2004 года возбудил иск к Генпрокуратуре России, требуя компенсации за незаконный арест и уголовное преследование (он находился под стражей с февраля 1998го по июнь 2002 года). Поповских потребовал от Генпрокуратуры компенсировать ему заработную плату, не выплаченную во время следствия и суда, а также возместить расходы на оплату адвокатов в размере 1,44 миллиона рублей. Кроме того, полковник просит компенсацию в размере 241,7 тысячи рублей за исключение его из списка лауреатов Госпремии за 1997 год. (Поповских должен был получить Госпремию как один из разработчиков беспилотного самолета-разведчика «Пчела-1 Т».) Помимо материальных претензий к Генпрокуратуре, Павел Поповских настаивает на том, чтобы гособвинитель Ирина Алешина лично принесла ему извинения в эфире программы «Время». Кроме того, Павел Поповских заявил, что также намерен подать иски к Российской Федерации и газете «Московский комсомолец» о компенсации морального вреда. 27 февраля 2006 года Тверской суд удовлетворил иск полковника. Правда, вместо запрошенных 52 миллионов рублей за 52 месяца отсидки в следственном изоляторе Поповских получит 150 тысяч рублей. Это довольно солидная сумма, если учитывать, что речь идет о возмещении морального вреда. Зато возмещение материального ущерба Павлу Поповских уже гарантировано. Не так давно окружной военный суд столицы назначил ему выплатить более чем 2 миллионов рублей в счет не полученных доходов и расходов, понесенных за время, пока длилось следствие. Гособвинителя по делу Холодова также обязали принести извинения бывшему подсудимому.
Правда, Поповских эта сумма не устроила и он пообещал продолжить судебное разбирательство. Все, кто проходил с ним по делу Холодова, ждут окончания суда, чтобы так же, как и Поповских, подать иски на выплату компенсации.
Хотя срок истек, «дело Холодова» было возвращено в Госпрокуратуру на доследование. Между тем родители погибшего журналиста по-прежнему считают, что следствие правильно установило людей, причастных к его гибели.