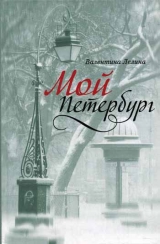
Текст книги "Мой Петербург"
Автор книги: Валентина Лелина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 13 страниц)
Если что-то меняется в маршрутах влюблённых по Петербургу, то не так уж много. Суть остаётся: город принимает и хранит все переживания любви. Ведь кроме встреч, влюблённых настигают и невстречи, разлуки и одиночество. Это тоже любовь, её оборотная сторона, изнанка. И Петербург, как никакой другой город, исцеляет, врачует. Сначала медленно и незаметно, но потом всё быстрее он начинает уводить, увлекая по улице, переулком, через проходной двор на набережную. А там, покачиваясь, плывут его сады, упираются в небо купола соборов, заводские кирпичные трубы, и дальше, дальше… Там – Выборгская, Малая Охта, Обухово. Горизонты всё расширяются, любовь растворяется в этом бесконечном петербургском небе. И сердце уже бьётся успокоенно и только ещё немного болит о невозможном, о вечном…
Петербургские тупики

Своей неразгаданностью, неуловимостью Петербург, как никакой другой город, ставит в тупик всякого, входящего в его пределы. Можно жить, не задумываясь о сущности этого очень странного российского города. Но стоит задаться поисками ответа – одного, другого – упрёшься в мрачную стену без единого проёма, уставленную разве что для разнообразия мусорными бачками.
Одной из главных особенностей Петербурга всегда было сквозное пространство. Его улицы навылет устремлены к площадям или к просторам Невы. Однако, подобно тому, как в каждом человеке одновременно уживаются исключающие друг друга черты характера, так Петербург полнится тупиками и ловушками, совсем иными, нежели, например, уютные тупички старой Москвы.
Стоит задуматься о петербургских тупиках, тотчас представляется его каменное тело, лучистые проспекты, лабиринты дворов, глухих переулков, углов, таинственных переходов из одного пространства в другое. Тупик – то же, что парадокс. Но тупик – это еще и безвыходность, остановка. Так, петербургская улица, упираясь в разведённый мост, напомнит о том, «что пустота и зияние – великолепный товар, что будет, будет разлука, что обманные рычаги управляют громадами и годами».
В пространстве Петербурга, сложившемся к концу XIX века, есть все признаки лабиринта: кривизна его рек и каналов, вытекающих и втекающих друг в друга, прямолинейные улицы как часть всё той же уловки, пространственные замки, арки, обелиски, колонны, служащие в схеме лабиринта приманкой скитальцу.
Город – дом многоколонный.
Залы, храмы, лестниц винт,
Двор дворцами ограждённый,
Сеть проходов, переходов,
Галерей, балконов, сводов, —
Мир в строеньи: Лабиринт.
В. Брюсов
Лабиринт – разновидность тупика, завёрнутого десятикратным морским узлом. Порочный круг, в который попадает обречённый. Скривлённый и замкнутый тупик может вводить в заблуждение мнимым разнообразием. Но за три века эти схемы затвердели, отпечатались в подсознании. Едва ли не каждый житель нашего города хоть однажды был втянут в самую известную петербургскую формулу тупика:
Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века —
Всё будет так. Исхода нет.
Умрёшь – начнёшь опять сначала,
И повторится всё, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.
А. Блок
Петербургские тупики и ловушки возникали не вдруг. Чем больше город обрастал каменными строениями, чем блистательнее становились его парадные, фасадные улицы и набережные, тем сильнее запутывалось пространство и жизнь изнанки Петербурга. Даже строгие и стройные снаружи городские строения представляют собой сверхусложнённые пространства. Например, вокзалы (кстати, все петербургские вокзалы – тупикового типа), здание Главного штаба, Академия художеств…
Гигантские каменные лабиринты со множеством внутренних дворов, со всеми тупиками и переходами столетиями складываются в городе, который как будто стремится преодолеть простоту ландшафта. Это наводит на мысль, что подобной организацией пространства город противостоял убогости и бедности природного пейзажа. Контраст одного и другого придавал столице величие и значительность. Как узлы и огрехи на обратной стороне городской ткани, множились тупики и ловушки. С течением времени они начинали жить собственной жизнью, независимой, непредсказуемой. И влияние оказывали на жизнь горожан не меньшее, чем великолепные панорамы и ансамбли.
В самом центре Петербурга расположено здание, ставшее классическим образцом петербургского лабиринта. Это Михайловский (Инженерный) замок. Он был выстроен архитектором Бренной для императора Павла I на месте старого деревянного Летнего дворца, в котором Павел Петрович родился. Теперь известно, что авторство этого строения, особенно его планировка, во многом принадлежит самому императору. Оно изначально выстроено «по принципу лабиринта – со множеством потайных дверей, тупиков, разветвлённых ходов, переходов. Увы, замок стал ловушкой для самого подозрительного императора». Утверждают даже, что, если выполнить пространственную модель деревянного Летнего дворца и установить на его бывшее место, а затем наложить на неё модель Михайловского замка так, как он расположен теперь, то комната, где родился Павел, совпадёт в пространстве с комнатой, где он был задушен. Тупик. Замыкание лабиринта.
Скитальцев петербургских лабиринтов одним из первых увидел Ф. М. Достоевский. Кто бы они ни были, их, блуждающих по улицам столицы, объединяет «бесцельность» прогулок. Их манит таинственная суета Петербурга, в которой пульсирует подлинное бытие и, может быть, есть выход из тупика одиночества. Так, Раскольникова мы редко застаём в его каморке, похожей на шкаф или на сундук. «Это была крошечная клетушка, шагов в шесть длиной, имевшая самый жалкий вид со своими жёлтенькими, пыльными и всюду отставшими от стены обоями, и до того низкая, что чуть-чуть высокому человеку становилось в ней жутко, и все казалось, что вот-вот стукнешься головой о потолок».
Вглядитесь внимательнее в образ скитальца из романа Достоевского, он вам кого-нибудь напомнит: «Вы выходите из дому – ещё держите голову прямо. С двадцати шагов вы уже ее опускаете, руки складываете назад. Вы смотрите и, очевидно, ни перед собой, ни по бокам уже ничего не видите. Наконец, начинаете шевелить губами и разговаривать сами с собой…» Лабиринт исподволь формирует тупиковое сознание.
Лабиринт кончается тупиком,
Априорно знаючи о таком,
Тем не менее, хочется в амбразуре
Увидеть золото на лазури,
А ниже (речь веду об окне)
Валы малахитовые, а не
Помойку, где пищевые отбросы
Клюют вороны, а не альбатросы.
В. Бобрецов
Это – не XIX век, это стихи нашего современника, петербуржца. Оказывается, петербургские тупики очень жизнеспособны и многообразны. Не столько тупики улиц, переулков и дворов, как тупики судеб и нравственные тупики. Из этого многообразия самыми опасными всегда были тупики идей, всё равно – научные или социальные, потому что цена эксперимента может оказаться слишком дорогой. Все эти формы тупиков Петербурга множатся, вырастают один из другого.
Вот лестница петербургского доходного дома… Как часто она становится отрезком лабиринта, ведущего в тупик. Прежде всего, её верхняя площадка. На чердак вели только чёрные лестницы. Парадная лестница заканчивалась площадкой. Это и есть тупик, обрыв, особенно если за вами погоня.
А как реально подступает чувство тупика, когда поднимаешься по знакомой лестнице, находишь дверь, номер, звонок… но тебе не открывают и говорят из-за двери, что тех, кого ты ищешь, здесь нет, уехали, и где они – неизвестно.
Лестница может привести в тупик даже и в том случае, если дверь и откроется. Об этом писал в своих воспоминаниях поэт Георгий Иванов. В двадцатые годы «бывшие жители бывшего Петербурга», как кто-то назвал граждан Северной Коммуны, стали потихоньку приспосабливаться к условиям новой жизни. Любая частная деятельность была запрещена, но несмотря на все стеснения и запреты, в городе появились тайные папиросные и тайные книжные лавки, конспиративные парикмахерские и столовые. Автор воспоминаний приходил обедать в одну из таких столовых на Николаевскую улицу – ныне улица Марата.
«Я завернул на Николаевскую и поднялся на второй этаж… Сколько раз безо всякой опаски я всходил по этой лестнице и дёргал за нос какого-то бронзового сфинкса у дверей Полины. Дёргал уверенно и самонадеянно, зная, что дверь сейчас же откроется, приятно пахнёт теплом и кухней, и плутоватая, заплывшая жиром физиономия Полины улыбнётся сквозь стеклянное окошечко в стене.
И на этот раз я взбежал по лестнице так же быстро, как и всегда, и так же занёс руку, чтобы дёрнуть за нос бронзового сфинкса. Занёс, но не дёрнул. Рука моя, неожиданно для меня самого, точно одеревенела в воздухе. Приятное настроение, с которым я шёл обедать, вдруг улетучилось, легкость, с которой я взбежал по лестнице, – пропала. Чувство гнёта, тяжести, беспокойства распространялось от этой аккуратно полированной двери. Ещё секунда, и я, круто повернувшись, сбежал бы вниз, махнув рукой на завтрак. Я не позвонил и не постучал. Под ногами был, хотя и облезлый, но всё же ковёр, так что шаги мои вряд ли были слышны в квартире. Явления такого рода, должно быть, имеют научное название и объяснение. Мозговой телеграф? Телепатия? Я не знаю. Я почувствовал нечто за дверьми гостеприимной Полины. Это „нечто“ в свою очередь почувствовало меня. Дверь распахнулась. Солдат в чекистской форме оглядел меня с ног до головы почти дружелюбно и посторонился.
– Заходите, заходите, гражданин, – сказал он мягко. Есть приглашения, от которых не отказываются».
Символ лестницы, ведущей в тупик, присутствует в романе Достоевского «Преступление и наказание». Сколько раз поднимался по лестнице своего дома Раскольников, преодолевая на самом верху последние тринадцать ступенек. – Эта крутая лестница, словно путь на Голгофу-. Отупляющее однообразие дней-ступеней. По лестнице он идёт к двери процентщицы и самые страшные мгновения переживает у порога убитой им старухи.
А вот всё та же петербургская лестница в преломлении чувств нашего современника, когда тупиком становится дверь собственного дома:
Коснувшись дерева, пошел в своё гнездо.
Лифт не работал. Лестничное эхо,
Столь благодарное за всякий звук простой,
За невзначай подаренное слово,
Трудилось кропотливо над шагами,
Столь поздними. По клеткам этажей
Летали голуби. Их крыльев я не слышал,
И, впрочем, свет зажёгся не везде.
А впрочем – был бы свет в моём гнезде, —
Он за окном рассеивает мрак
Недалеко, но виден издалёка…
Взойдя на свой этаж, я видел, как
Сгустилась тьма в расщелине пролёта.
Я закурил под дверью. Тишина
Была прозрачна: голоса за дверью,
Мешаясь с голосами за окном,
Перекликались – внутренний и внешний.
И фон струился музыки небрежной
(Должно быть, радио). Потом все эти звуки
Угасли постепенно, чувства все,
Обследовав «материю», вернулись
С единым ощущеньем: пустоты.
И было слышно, как из-за черты
Охвата чувств вздохнула нимфа Эхо.
А. Давыденков
Несмотря на романтическое запустение среди старых деревьев, петербургские кладбища в каком-то смысле тоже являются тупиками. Особенно некрополь Александро-Невской лавры, где могилы и надгробные памятники стеснены, толкутся на крошечном участке земли, едва не упираясь в каменную ограду.
Вот здесь кончалось всё: обеды у Донона,
Интриги и чины, балет, текущий счёт…
На ветхом цоколе – дворянская корона
И ржавый ангелок сухие слёзы льёт.
А. Ахматова
Пространственные петербургские тупики – это городские образы. Они материальны, имеют плоть – каменную, металлическую, стеклянную… Гораздо сложнее проследить тупик в судьбе, в отношениях людей, в душе горожанина, наконец. Такие тупики невидимы, хотя их значительно больше, чем тупиковых улиц в Петербурге.
Зачем, не знаю, номер телефона твержу:
не позвоню, бессонный, не разбужу. —
Не потому, что я тебя жалею, а потому,
что будет тяжелее, чем одному.
Г. Семёнов
Тайные «тупики» души тем не менее всегда были связаны с Петербургом. Когда в трактире пьяный Мармеладов говорит: «Понимаете ли, понимаете ли вы, что значит, когда уже некуда больше идти?», – то мы чувствуем, что не в трактир – в тупик зашла судьба человека.
Статистические данные конца прошлого века выводят прямую зависимость между повышением цены на хлеб и возрастанием числа самоубийств в Петербурге. Что касается мотивов, то сведения официальной статистики недостаточны. Болезнь, пьянство, бедность, расстройство дел, долги, любовь, ревность, семейные раздоры, боязнь суда – вот малая толика причин самоубийств, которые называет изучавший их в Петербурге в 80-е годы прошлого века доктор Пономарёв. Интересно, что, по его сведениям, мотивы самоубийства у женщин более возвышенны, великодушны, носят больший отпечаток высокой нравственности, чем у мужчин. «Женщины крайне редко употребляют холодное или огнестрельное оружие; по большей части они или бросаются в воду, или удушаются угольным газом».
О «тупике», в который зашла жизнь известного петербургского поэта и писателя Фёдора Сологуба, писал в своих воспоминаниях Георгий Иванов.
«Однажды в минуту откровенности Сологуб признался (в разговоре с Блоком).
– Хотел бы дневник вести. Настоящий дневник, для себя. Но не могу, боюсь. О самом главном – не могу.
– О самом главном?
– Да. О страхе перед жизнью.
Жена Сологуба Анастасия Чеботаревская была очень беспокойная. Беспокоилась по важному, беспокоилась по пустякам. Разницы не замечала. В 1921 году, после долгих хлопот казалось, что сбудется то, о чём она мечтала, о чём рассказывала, блестя широко раскрытыми глазами на улице, на лекции, в хлебной очереди – отъезд за границу. „Вырваться из ада“ – на это последние месяцы её жизни были направлены все силы души, всё её „беспокойство“. То, что ад в ней самой и никакой Париж с „белыми булками и портвейном для Федора Кузьмича“ ничего не изменит, – не понимала. Но, может быть, поняла вдруг, сразу, в тот вечер, когда она без шляпы выбежала га дождь и холод, точно её кто-то позвал? Сологуба не было дома. Выбежала на дождь без шляпы, потому что вдруг со страшной силой прорвалась мучившая её всю жизнь тревога. Какой-то матрос видел, как бросилась в Неву с Николаевского моста, в том месте, где часовня, какая-то женщина. Тело не искали. Кому было охота шарить в ледяной воде? Да и спустя несколько дней стала Нева.
Чеботаревская за мгновение до смерти всё ещё „не знала“. И Сологуб с того осеннего вечера до весны, когда лёд пошел и тело его жены нашли, – тоже „не знал“. Он не изменил ничего в распорядке своей жизни. В хорошую погоду выходил гулять – по девятой линии на Неву, до часовни у Николаевского моста, и потом по солнечной стороне обратно. Вечером под зелёной лампой писал стихи или переводы для „Всемирной литературы“. Когда его навещали, он принимал гостей всё с той же холодной любезностью, как всегда. Иногда в разговоре вскользь упоминал о Чеботаревской таким тоном, точно она ушла ненадолго из дому… На столе аккуратно разложены книжки и рукописи. Тут же вязанье Анастасии Николаевны. Одна спица воткнута в шерсть, другая лежит в стороне. Так она оставила его в „тот вечер“. Когда кто-нибудь во время обеда удивлялся лишнему прибору, каменно-любезный Сологуб пояснял: „Этот прибор для Анастасии Николаевны“.
А весной, когда тело Чеботаревской нашли, Сологуб заперся у себя в квартире, никуда не выходил, никого не принимал. Иногда его служанка приходила во „Всемирную литературу“ за деньгами или в Публичную библиотеку за книгами. Удивляло всех, что книги, которые брал Сологуб, были все по высшей математике.
Потом он стал появляться в городе, стал принимать. Об Анастасии Николаевне как о живой не говорил больше и второй прибор на стол не ставил. Зачем ему были математические книги, узнали позже. Оказывается, он пытался при помощи математических выкладок проверить, есть ли загробная жизнь. Когда его спросили, и что – проверили? Сологуб „каменно“ улыбнулся. – Да. Загробная жизнь существует. И я снова встречусь с Анастасией Николаевной».
Он умер в нищете и безвестности в 1927 году. Спустя десятилетие город достиг своего тупикового пика. Он стал ловушкой для миллионов горожан.
Как это ни покажется странным, ленинградская блокада в нравственном смысле была выходом из тупика. Тупик, обрыв – всегда предполагает выход или безвыходность положения. Во дворе-колодце мы устремляем взгляд к небу. В тюрьмах были написаны романы и сделаны изобретения. Мужество ленинградцев в блокаду было таким выходом, по сравнению с безысходностью репрессий 30-х годов.
Тот, кто прошёл лабиринт, становится победителем. Преодоление болезни, слабости, трусости… Эти выходы из тупика остаются в частной жизни, они не публичны. Что касается отношений Петербурга со своими горожанами, то в каком-то смысле каждый житель преодолевает в себе Петербург.
Мандельштам писал в «Египетской марке» о своём герое: «Он думал, что Петербург – его детская болезнь и что стоит лишь очухаться, очнуться, – и наваждение рассыплется: он выздоровеет, станет как все люди; пожалуй, женится даже…»
Трагическим тупиком стал последний год жизни Пушкина. Безвыходность положения, в котором поэт оказался в 1836 году, была не только в интригах Геккерна и Дантеса. Цензурные преследования, финансовые трудности, невозможность ни расстаться с Петербургом, ни работать, оставаясь в нём. Дуэль явилась выходом из тупика оскорбления жизни поэта. Если бы он жил в тот год не в Петербурге… Теперь в городе есть два места, где чувство тупика не исчезает со временем, а в зимние январские дни воскресает совсем отчётливо. Это квартира на набережной Мойки, где каждый шаг – движение к смерти, и обелиск на Чёрной речке.
На всяком явлении лежит печать времени. Тупики нынешней нашей жизни в чём-то повторяют прошлые и в чём-то предопределяют будущие. Больницы, тюрьмы, дома умалишенных, просто дома, и углы, и вокзалы, и стадионы… Предательство, преступление, одиночество… Над всей нашей жизнью нависает Петербург. Он загоняет в ловушку, и он же таит в себе выход. Он требует усилия, творчества, мужества или смирения. Но как бы мы не устремлялись в своё будущее или даже прочь от этого города, Петербург непостижимым образом возвращает нас на тайный свой круг. И всякий, входящий в его пределы, однажды поймает себя на том, что уже был здесь, шёл этим проспектом, стоял перед каменной стеной. Но только он это был или кто-то другой? Круг замыкается. Тупик.
…Прожив здесь жизнь, сберу и страх, и опыт
И вяло прислоню их к двери бытия.
…Но как изъять громоподобный топот,
Который слышал-то Евгений, а не я…
Иль грежу я, и сон мой вовсе зряшный.
Толкуни тогда. Щипни меня. Ударь.
Но – в миг один – у Чванова, на Пряжке,
Везде: Аптека. Улица. Фонарь.
В. Васильев
На крышах Петербурга

Из всех уголков, закоулков и переходов городского пространства крыши меньше всего доступны горожанам. И это не удивительно, потому что у них своё назначение, обычное, понятное. Улины – для транспорта и пешеходов, в домах живут, работают, учатся, отдыхают; прогуливаются в садах и парках. А на крышах…
Ну вот, мы и задумались о петербургских крышах. Что в них особенного, чем они отличаются от московских, берлинских, парижских? И кому чаще случается оказаться на крыше петербургского дома?
Каждый горожанин когда-нибудь (и даже не однажды) поднимался на колоннаду Исаакиевского собора. Панорама Петербурга захватывает. Потому что город плоский, как шахматная доска и перемена взгляда на жизнь его улиц, зданий, набережных такая разительная, что потом, оказавшись внизу, у подножия собора, нужно некоторое время, чтобы опять привыкнуть. Но даже привыкнув, мы храним в душе как открытие память о городе с высоты, пространство над крышами, над верхушками деревьев, колокольнями, соборами…
На шпиц Исакия иду я деревянной
И ветхой лестницей, ползущей по стенам
Меж балок и стропил. Здесь храм ужасно странный —
И пыльный, и пустой, скелетно-голый храм.
Здесь вспоминается невольно Квазимодо,
Любивший эту тьму, запутанность и тишь…
Последняя ступень, обрывок небосвода,
Вот шаг ещё один, – и море, море крыш!
А. Лозина-Лозинский
Вот они, петербургские крыши, такие одинаковые и разные, если присмотреться внимательно. С трубами, слуховыми и чердачными окошками, металлическим ограждением, башенками, флюгерами… Иной раз встречаются замысловатые украшения на крышах – часы, грифоны, скульптура… Но чаще всего – просто листовое железо, трубы, квадратные или овальные окошки – выходы на крышу.
А ведь вначале петербургские крыши были не металлические, а черепичные. И даже первые кирпичные заводы в городе назывались черепичными. Традицию покрывать крыши домов черепицей привезли в Петербург иноземцы – немцы, голландцы, французы. Черепицей покрывались первые дома именитых горожан. В том числе и Летний дворец Петра I. Петербургские археологи при раскопках в городе часто находят черепицу. В описании осеннего наводнения 1715 года в Петербурге рассказывается, что ураган срывал черепицы с крыш.
Крыши были высокие, по голландскому образцу. Такая форма крыш сохранилась на здании нынешнего Университета – бывших Двенадцати коллегиях, на дворце Меншикова и на Летнем дворце Петра в Летнем саду.
Рядом с домами именитых горожан ютились бедные мазанки, крытые берестой и дёрном. Дёрном покрывать крыши рекомендовалось даже в целях пожарной безопасности.
И всё-таки черепичные крыши просуществовали в Петербурге очень недолго. Постепенно, во время ремонта и при новом строительстве появлялись крыши из листового железа. Это началось ещё в петровское время. Пётр первым подал пример и перекрыл железом Летний дворец. К середине XVIII столетия в столице почти не оставалось черепичных крыш. Сделано это было для поддержания отечественных железоделательных заводов, в частности, Демидовских. Так что наши крыши и купола, выполненные из листового железа, – это настоящая петербургская традиция.
Но конечно, с течением времени форма петербургских крыш менялась – её детали, отделка ограждений, украшения. Особенно нарядными выглядят крыши периода барокко. Даже дымовые трубы на доме Строганова на Невском проспекте радуют своими барочными линиями.
А крыша Зимнего дворца – это целый мир: белая балюстрада, башенки, золотая главка церкви, фронтоны, трубы… И самое удивительное – скульптуры на крыше дворца. Вдоль всего карниза застыли статуи рыцарей в латах, женские фигуры в нарядных драпировках, вазы. Вначале они были выполнены из известняка – пудожского камня по рисункам архитектора Растрелли и восковым моделям скульптора Боумхена. На рубеже XIX–XX веков обветшавшие каменные изваяния на кровле были заменены медными по моделям скульптора Попова. Так они и стоят над городом, над Невой – латники в шлемах, задумчивые женщины в лёгких римских одеждах. Зимой на плечи им ложится снег, подчёркивая их силуэты, летними белыми ночами фигуры их особенно заметны на фоне светлого неба. Сколько всего прошло перед их взором…
А сколько вообще на крышах зданий и соборов Петербурга притаилось крылатых богов, ангелов, героев, каких-то химер и фантастических существ! Мы как-то забываем о них: снизу они не слишком заметны. А они всё смотрят и смотрят на город, на его сады и парки, на его дворы, площади, проспекты.
Над колоннадой Адмиралтейства целый «хор» статуй – боги, стихии, времена года, стороны света, ветры. И дельфины удерживают флагштоки. И Ахилл опустил голову в шлеме. А над великолепными ампирными зданиями Карла Росси забили копытами лошади. Это понеслась с фронтона Александринского театра квадрига Аполлона. И над Аркой главного штаба скачет галопом шестёрка лошадей.
А сколько евангелистов и ангелов наблюдает суетность городской жизни с куполов и крыш соборов! В двадцатом веке у многих из них были отняты кресты. Не так давно вернули крест ангелу на фронтоне собора Святого Петра на Невском проспекте. А над куполом церкви Святой Екатерины на Васильевском острове так и остался странный, как будто танцующий, ангел, лишённый креста.
И ангелы, и герои, и божества в непогоду, под снегом и дождём, и под ясным небом всё размышляют о чём-то на крышах Петербурга, восхищаются его красотой или печалятся о нём… Может быть, это их отдельный мир, исключительная их привилегия? Но это не так. Оказывается, во все времена были петербуржцы, которые разделяли взгляд медных и каменных изваяний, наблюдающих город сверху.
С первых лет жизни Петербурга из-за частых пожаров возникли специальные пожарные сторожевые службы, которые к XIX веку стали называться пожарными частями. Обязательным элементом каждой такой части стала пожарная каланча – вышка с помещением для сторожевого пожарного. Они и теперь сохранились в разных районах города, стали своеобразными акцентами в застройке: на углу Садовой и Подъяческой улицы, на Большом проспекте Васильевского острова, на улице Мичуринской.
Неся свою вахту над крышами Петербурга, пожарный наблюдал особую жизнь города. Он мог видеть частого гостя петербургских крыш – трубочиста. Представителей этой романтической профессии в столице было большое количество. Они объединялись в многочисленные артели и носили особую одежду.
Всегда в летнее время где-нибудь в городе слышно постукивание по листам кровельного железа – работали кровельщики, ремонтируя или обновляя очередную крышу. А в час заутрени или вечерни с городских колоколен раздавались мягкие удары колокола. Звонарь поднимался на колокольню в назначенные часы. Потом колокола надолго замолчали:
Ни звезды, ни облака, ни звука,
Из-за крыш, похожих на стога,
Вознеслись тоскующие руки —
Колокольни молят о богах.
Р. Мандельштам
Если задуматься, то, наверное, можно припомнить немало случаев, когда по необходимости люди поднимаются на крышу. Чаще всего это связано с ремонтом домов – водосточные трубы, радио и телеантенны, провода. Ещё каждую весну с крыш сбрасывают слежавшийся и обледеневший снег. Это зрелище привлекает зевак и прохожих, вызывает восхищение смелостью работающих на крышах людей.
Ближе к небу, к звёздам работают астрономы. Нынче это не очень заметно, а еще в XVIII веке они располагались буквально на крыше. В знаменитой «Азбуке для детей» Александра Бенуа на букву «3» – «звёзды» – изображена площадка вокруг башенки Кунсткамеры, где учёные в париках и туфлях с пряжками рассматривают небо над Петербургом через телескопы.
Но есть ещё особая порода людей, которых влечёт мир, открывающийся взору и душе с крыши. Это художники, поэты и влюблённые мечтатели. Именно они чаще других знают, как пройти на крышу того или иного особняка или высокого доходного дома времени модерна, откуда открывается бесконечное пространство города, где сильнее чувствуется ветер, близость залива и совсем по-другому выглядят улицы, дома, деревья…
Как ни странно, в петербургской литературе XIX века о крышах написано значительно меньше, чем о дворах-колодцах, углах, подвалах. Разве что каморка Раскольникова была высоко под крышей. Но не пространство за окном, а узкая черная лестница, ведущая наверх, привлекала Достоевского.
Зато художники любили смотреть на наш город сверху во все времена. Они оставили нам удивительные панорамы Петербурга с башни Кунсткамеры, с башни Адмиралтейства. Наводнение 1824 года в изображении Тилькера – это разъяренные волны и утопающие здания – видны одни только крыши. А на знаменитой панораме Тозелли 1820 года ещё виден старый Исаакиевский собор, большая площадь между университетом и зданием Биржи с павильоном для Готторпского глобуса посредине. На некоторых крышах корпусов Академии наук ещё осталась черепица. И во всей красе Адмиралтейская верфь со складами громадных брёвен, с каналами, соединёнными с Невой; плашкоутные мосты – Троицкий, Исаакиевский, и мачты, мачты кораблей, удивительно сочетающиеся со шпилем Петропавловского собора, с Адмиралтейской иглой, флагштоками крепости.
Крыши привлекали художников ещё из-за дневного света. Живописцы пишут масляными красками только при дневном освещении. И многие художники устраивали мастерские в чердачных помещениях, где вместо кровельного покрытия делались стеклянные плоскости – фонари. Многие мастерские были специально спроектированы. Они сохранились и теперь. Например, на Большом проспекте Васильевского острова.
Вообще в XIX веке крыши очень изменились по сравнению с XVIII столетием. Применение металла и стекла позволило изготавливать верхние осветительные фонари сложной пространственной конструкции. Как на Почтамте, в зданиях банков, в Пассаже… Из Европы переняли традицию устраивать в чердачном уровне зданий мансарды – жилые помещения под крышей. Формы модерна также обогатили пластику крыш: появились всевозможные башни, островерхие щипцы, металлические украшения, флюгеры, шпили. Всё это очень разнообразило городские силуэты.
Это было время, когда художники и поэты увидели особенную, единственную красоту Петербурга. Не удивительно, что рядом со стихами поэтов «серебряного века» часто помещают иллюстрации Добужинского, Остроумовой-Лебедевой. Их Музы шли рука об руку. И об этом – строки Анны Ахматовой.
…Там комната, похожая на клетку,
Под самой крышей в грязном, шумном доме.
Где он, как чиж, свистал перед мольбертом,
И жаловался весело, и грустно
О радости небывшей говорил…
Теперь не знаю, где художник милый,
С которым я из голубой мансарды
Через окно на крышу выходила
И по карнизу шла над смертной бездной,
Чтоб видеть снег, Неву и облака, —
Но чувствую, что Музы наши дружны
Беспечной и пленительною дружбой,
Как девушки, не знавшие любви.
Окна мастерской Остроумовой-Лебедевой на Васильевском острове были обращены на крыши и церковь Светой Екатерины. За Малой Невой виднелись купола Князь-Владимирского собора, Петропавловка. Сколько этюдов и набросков сделала художница из окон своей мансарды…
Красоту Петербурга тогда уже использовали в коммерческих целях. Например, на крыше гостиницы «Европейской» был устроен ресторан с террасой.
Взгляд сверху – это не только новый ракурс. Это новое звучание города. Когда он виден далеко-далеко. Суетность, частности остаются внизу, и уже по-другому расставляются акценты. И столько простора и воздуха! Не долетают звуки транспорта, шум. Движение людей, трамваев, нити висящих фонарей – всё внизу. И почему-то гораздо заметнее разбросанные по улице крышки люков…
Как часто поэты в начале века селились или собирались в мансардах. Своеобразным культурным центром, поэтическим салоном стала знаменитая «Башня» Вячеслава Иванова на Таврической улице. Вернувшись из-за границы осенью 1905 года, поэт поселился с женой – писательницей Зиновьевой-Аннибал в квартире-мансарде № 24, на шестом этаже по главной лестнице дома № 35 на Таврической. В эти дни он писал в Москву: «Живем вдвоём с Лидией Дмитриевной наверху круглой башни над Таврическим садом с его лебединым озером. За парком, за Невой фантастический очерк всего Петербурга до крайних боров на горизонте. В сумеречный час, когда тебе пишу, ухают пушки, возвещая поднятие воды в Неве, и ветер с моря, крутя вихрем жёлтые листья парка, стонет и стучится в мою башню».








