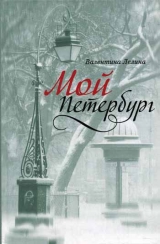
Текст книги "Мой Петербург"
Автор книги: Валентина Лелина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц)
Ночной город

Как меняется Петербург ночью! Ночью здесь можно заблудиться в знакомом месте.
Улица, такая привычная днём, выглядит странной и чужой.
Мост через Мойку у Инженерного замка становится плоским под ретушью темноты. Зато сады и скверы по ночам кажутся беспредельными. Деревья начинают переходить с места на место, пространство раздвигается, ветви устремляются к небу. Тёмное, оно нависает над городом, скрывая купол Исаакия, высокие крыши, башни, заводские трубы…
Ночь изменяет городские силуэты, смещает все границы – великого и ничтожного, добра и зла, прекрасного и безобразного. Это происходило во все времена и везде. Но Петербург – из тех городов, которые существуют по особым законам. Он обращается к нам на том сокровенном языке, что рождается в недрах бытия. И вслушиваясь в этот язык, можно приблизиться к пониманию творения жизни во всём её многообразии.
Ночной Петербург – это не другой город, это его особенное состояние. Петербург всё подчиняет своему ритму, движению. И печать Петербурга лежит на его ночах, на том часе, когда всегда по-разному город начинает скатываться в ночь. Есть этот час, мгновение, какое-то начало ночной жизни. Ведь «ночь» – понятие временное. Ночь ещё – это бесконечная череда образов: мрачных, трагических, таинственных и прозрачных.
Эта двойственность ночной темы соотносится с двоящейся сущностью нашего города, с его «двойничеством», если следовать словам Достоевского. Это всегда ясно чувствовали поэты, художники… «Ночное» видение позволяло разглядеть нечто, мимо чего проходили днём. Ночные звуки проступали в городе только в это время.
В ночи, когда уснет тревога,
И город скроется во мгле,
О, сколько музыки у Бога,
Какие звуки на земле!..
А. Блок
В поэзии Александра Блока ночь, ночной город проступают напряженным состоянием души в стремлении постичь тайную, размытую при свете дня суть бытия.
Я вышел в ночь – узнать, понять
Далёкий шорох, близкий ропот,
Несуществующих принять,
Поверить в мнимый конский топот…
Город спит, окутан мглою,
Чуть мерцают фонари…
Там, далеко, за Невою,
Вижу отблески зари.
В этом дальнем отраженьи,
В этих отблесках огня
Притаилось пробужденье
Дней тоскливых для меня…
Ночь. Город угомонился.
За большим окном
Тихо и торжественно,
Как будто человек умирает.
А. Блок
То, что Петербург ночью – это город только грёз и сна, – иллюзия. Горожане засыпают, но город не спит. Тишина и темень обостряют тревогу. Все опасения, неясные предчувствия, предвидения проясняются по ночам. То, что приглушалось днём, пряталось в обыденных заботах, ночью предстаёт в истинной своей величине. И приходят мысли о грядущем, о слабости человека перед миром, о беззащитности его. А ещё непогода Петербурга – всё это тревожит, лишает сна и покоя.
… Грустно было
Ему в ту ночь, и он желал,
Чтоб ветер выл не так уныло
И чтобы дождь в окно стучал
Не так сердито…
А. Пушкин
Именно по ночам чаще всего прибывала вода в Неве во время наводнений. «Жутко бывает на душе гаванского обывателя какого-нибудь подвального этажа, когда в тёмную осеннюю ночь, ложась спать, он знает, что вода всё прибывает да прибывает, а ветер не унимается… Шум разбушевавшегося моря не умолкает… Первый натиск водной стихии обрушивается на Гавань. На Кронспице раздаются первые три выстрела из пушек. Это значит, что уровень воды поднялся на 3 фута. Затем начинается пальба с Петропавловской крепости. Ночью, когда вода вышла из берегов, затопляет улицы Галерной гавани и угрожает подвальным жильцам, дежурные городовые обходят все дома и будят дворников, приказывая им, чтобы они будили подвальных жильцов и предупредили их о грозящей им опасности от наводнения. Нередко среди ночи спросонок начинается переселение подвальных жильцов – повыше, в первый или второй этаж, к своим соседям…»
За сто пятьдесят лет до этих заметок историка Петербурга Анатолия Бахтиарова, свидетели, описывая разрушительные наводнения первых десятилетий Северной столицы, особо отмечали ночной ужас жителей Петербурга. Застигнутые бедствием врасплох, горожане, почти сонные, с трудом спасались в уносимых водою постройках.
Ночью всегда оживают тени прошедшего. Дневные звуки затихают, приглушаются. Слышно гудение ветра в трубе. Вода булькает в трубах. Бьют часы на башне полночь. Слышно, как в глубине дома с характерным гудением движется лифт: кто-то поздно возвращается домой.
Поздний прохожий – знакомый городской образ. В ночи, в сумеречный час, если случается идти по безлюдным улицам, чувствуешь себя один на один с городом. Фонарь, раскачиваясь на ветру, выхватывает угол дома, подворотню… Под фонарём пляшут тени. И редкие прохожие превращаются в тени. Они маячат в свете фонаря, бегут, сливаются с тёмными громадами зданий…
Старый, старый сон.
Из мрака фонари бегут – куда?
Там – лишь темная вода,
Там – забвенье навсегда.
А. Блок
Эти обманные, скользящие силуэты, их превращения в городской темени, фантастические видения ночного города, описанные ещё Гоголем, живы и поныне.
«…Как только сумерки упадут на домы и улицы, и будочник, накрывшись рогожею, вскарабкается на лестницу зажигать фонарь, а из низеньких окошек магазинов выглянут те эстампы, которые не смеют показываться среди дня, тогда Невский проспект опять оживает и начинает шевелиться. Тогда настаёт то таинственное время, когда лампы дают всему какой-то заманчивый, чудесный свет… В это время чувствуется какая-то цель, или, лучше, что-то похожее на цель, что-то чрезвычайно безотчётное; шаги всех ускоряются и становятся вообще очень неровны. Длинные тени мелькают по стенам и мостовой и чуть не достигают Полицейского моста».
Прекрасная Незнакомка, мелькнувшая на ночном Невском, после таинственных превращений на бале и у окна деревенского дома оказывается проституткой, проснувшейся после пьяной ночи. Вот они – петербургские тени…
В воротах гремит звонок,
Глухо щёлкает замок.
Переходит за порог,
Проститутка и развратник…
Воет ветер леденящий,
Пусто, тихо и темно.
Наверху горит окно.
Всё равно.
А. Блок
О, сколько одиночества таит в себе петербургская ночь! Светятся немногие окна. Кто-то не спит. Что там совершается при свете неяркой лампы? Чей силуэт маячит за окном?
Такими бессонными петербургскими ночами в самом начале страшных 20-х годов нынешнего века писал свою первую философскую книгу «Noctes Petropolitanae» – «Петербургские ночи» – Лев Платонович Карсавин. Девять глав – девять ночей. Ночные размышления о метафизике любви, о её зарождении и жизни, о любовном причастии к абсолютному Бытию.
«…Погас наконец – как всегда, предательски-неожиданно – мёртвый свет электричества, и при колеблющемся мерцании жалкого ночника в чреватой тишине собираю я чувства свои и мысли. Невыносимо тоскливо. Но как высказать себя, как выразить то поющее, что не может быть спето, ту муку, которая должна разрешиться в самообнаружении и бессильна себя обнаружить?
Не знаю, найду ли слова, сумею ли внутреннею песнью речи освободить себя от непереносного томления духа… Успокой же меня, тихая Ночь, первая ночь моих излияний, молчаливая и полная дум, живая в шуме метели за окнами, в слабом писке где-то в углу бегающих мышей! Любовью полно моё сердце…»
Как и всё в нашем городе, – петербургские ночные свидания совершаются на уровне – вечных событий-. Стороннему взору покажется, что любовные признания в Петербурге звучат как заученные заклинания. Произнесённые вслух или мысленно, они застывают в ряду петербургских текстов, образов, метафор, постулатов. И кажется, что никогда не вырваться из этого заданного пространства. Из этого лабиринта, где всё идет по кругу и цель отдаляется. Но как здания в Петербурге обманывают вытянутостью и чёткостью фасадов, оказываясь на самом деле «прихотливейшего рисунка путанными неправильными пространственными фигурами», – так и ночные любовные свидания при кажущемся постоянстве и равенстве их самим себе вдруг выдают необычайное, критическое напряжение души, страдание, радость.
Всё двоится в этом двойном городе. Именно ночная любовная тема подводит к другому образу петербургской ночи, о котором еще не было сказано ни слова, – это белые ночи Северной столицы. Белая ночь – городская реалия, петербургский мираж.
В Петербурге есть множество испытаний человеческой души.
«…Нигде белые ночи так не властвовали над умами, не получали, я бы сказал, такого содержания, такой насыщенности поэзией, как именно в Петербурге, как именно на водах Невы, – писал в своих воспоминаниях Александр Бенуа. – Я думаю, что сам Пётр, основавший свой Петербург в мае, был зачарован какой-нибудь такой белой ночью, неизвестной средней полосе России…»
Придут незаметные белые ночи,
И душу вытравят белым светом.
И бессонные птицы выклюют очи.
И буду ждать я с лицом воздетым,
Я буду мёртвый – с лицом подъятым.
Придёт, кто больше на свете любит:
В мёртвые губы меня поцелует,
Закроет меня благовонным платом.
Придут другие, разрыхлят глыбы,
Зароют – уйдут беспокойно прочь:
Они обо мне помолиться могли бы,
Да вот – помешала белая ночь.
А. Блок
Как-то незаметно-незаметно белые ночи начинают убывать. Сначала зажигается убегающая цепь фонарей. Она кажется странной на фоне ещё светлого закатного неба цвета чайной розы. Но на западе небо уже сгущается. Фиолетовые сумерки легкой дымкой ложатся на город. Ещё так прозрачно, ещё видно так далеко… Крылья разведённых мостов отчётливо встают над Невой. Шпили, купола, деревья, гигантские краны в порту – на всём печать отстраненности от жизни. Всё существует как будто само по себе.
И только Нева по ночам точно вспоминает о первопричине возникшего по берегам города. Ночью по Неве идут корабли. Гигантские баржи, гружёные лесом. В сгустившихся сумерках августовской ночи они наплывают колоссальными глыбами, заслоняя здания. А в дни военных праздников ночью в город входит эскадра. Громадные эсминцы застывают вдоль набережных. Возможно ли было представить эти корабли-гиганты в XVIII веке? И опять поразишься какой-то изначальной мысли, цели, может быть, этого таинственного города.
А петербургская ночь плывет, заполняет улицы, площади, закоулки. Везде она существует по-разному. Где-нибудь в глухом дворе, затерянном среди строений и брандмауэров, всю ночь над входом в дом одиноко горит лампочка, оправленная проволочной сеткой. Она едва освещает три ступеньки, металлический поручень. В просвете среди устремлённых ввысь стен светится такая же одинокая звезда.
Ночь на главных проспектах и площадях города разбавлена светом фонарей, ярко горящих окон гостинец, банков, театров. Ночь на Фонтанке особенно таинственна около Летнего сада, когда ворота уже закрыты и где-то в глубине аллей едва различимы белые статуи. С Прачечного моста виден спящий Летний дворец Петра.
Говорили, что Прачечный мост – излюбленное место появления по ночам призраков. Это тени погибших, замученных во времена Бирона. Сам Бирон был арестован в ночь на 8 ноября 1740 года. Ночью же 11 марта 1801 года было совершено цареубийство в Михайловском замке. Ночь – время заговоров, государственных переворотов и преступлений. Петербургские тёмные глухие ночи знают столько страшных злодеяний, что уже теряется грань реальности и воображение настойчиво обращается к вмешательству потусторонних сил. Преступления от частных, единичных разрастаются до масштабов преступлений войны, репрессий, блокады…
Ночь как зловещий образ Тьмы, нависшей над городом, пронизывающей всё его существование, царит в романе Марка Алданова о Петербурге 1914 года. Шла первая мировая война. Но в столице работали рестораны, игорные дома, клубы, заседала Государственная Дума… И над всем Петербургом, над страной – была ночь:
«Снег светился на мостовой, на крышах домов, на ограде набережной, на выступах окон. Розоватым огнём горели фонари. Облака, шевеля щупальцами, ползли по тяжёлому, бесцветному, горестному небу. На страшной высоте, неизмеримо далеко над луною, дрожала одинокая звезда. Ночь была холодна и безветренна».
Игорные дома и клубы, ночная жизнь города в местах, где собираются нищие, бездомные, – всё это существовало в Петербурге во все времена, то приглушённее, то бесцеремонно выплёскиваясь на улицы, на страницы газет скандальными происшествиями и преступлениями.
Но, кроме ночных угарных кутежей, кроме тоскливых бессонных ночей обитателей вокзалов, чердаков и чёрных лестниц, есть в Петербурге праздничные ночи, освещённые волшебством рождественской ёлки и молитвенными песнопениями всенощной на Пасху. Тогда в каждом доме огромного города не спят взрослые и дети, а на улицах возникает стихийное гулянье.
Но такие ночи отлетают, праздник затихает, и опять наступает обычная ночь, ничем не примечательная. Но именно тогда совершается таинство петербургской ночи. Не спят поэты, влюблённые, не спят врачи, спасая чью-то жизнь, дежурные электрических станций, котельных, аварийных служб города.
Опять светится в ночи окно. Горит фонарь. Опять чья-то одинокая душа поднимается над городом. Фонарь отбрасывает неяркий свет, и видно, как сыплется дождь. Одинокий прохожий, последний трамвай на мосту…
Город влюблённых

В каждом движении жизни Петербурга есть особая направленность. Она всегда чувствуется. И не случайно мы говорим – «петербургский», желая подчеркнуть то, что свойственно только нашему городу.
Кем бы мы ни были, есть чувство, которое никого не миновало. Каждый однажды просыпался влюблённым. И если город накладывает свою печать на наши мысли, работу, творчество, то влюблённые, может быть, более других подвластны его влиянию.
Столетиями он водит их одними и теми же кругами, открываясь неожиданно, как никому другому. Он щадит их, обманывает, вводит в заблуждение, скрывает. О, у влюблённых совершенно особые отношения с Петербургом! Сколько теней замирало под его арками, сколько признаний улетало под своды его зданий…
Вот скамейки в сквере. Но не всякую выбирают влюблённые. Только предпоследнюю справа. А остальные минуют. Почему?
Увидеть влюбленных в городском транспорте, в толпе прохожих – большая радость. Угадать их по мимолётному движению руки, взгляду, кажется, так просто и вместе с тем – совсем нелегко.
– Мы завтра увидимся?
– Да. У памятника Пушкину.
– А если будет дождь?
– Тогда на выходе из метро.
Город полнится свиданиями, ожиданиями, расставаниями… Во всякой Встрече, а особенно встрече любовной, должно быть много совпадений. Должны соединиться время, случай, движение транспорта, пересечение судеб…
В Петербурге влюблённые удивляются созвучию закатных мгновений в небе, перечёркнутом силуэтами мостов, улиц, раскрывающихся к Неве или к заливу, скверов, садов, узких подворотен. Вдруг поражает мысль, что это странное, причудливое городское тело с высокими домами, толпящимися вдоль проспектов и набережных, с цепью проходных дворов, было задумано нарочно, чтобы будоражить души и сердца влюблённых.
Обывательский взгляд на существо города тотчас перечислит хозяйственное назначение всех построек во дворах, ширину проездов, несомненную пользу от установки по углам подворотен колесоотбойных столбов. Но может ли тот же здравый смысл оправдать возникновение величественной арки у Новой Голландии, этого призрака над каналом? Или руины в парках Павловска и Царского Села, или гранитные ступени, спускающиеся прямо в невскую глубину… Разве не для свиданий влюблённых устраивались эти места? Никаким хозяйственным расчётом не объяснить силуэты фонарных столбов, прихотливость дорожек в Михайловском саду или фигуры застывших львов у подъездов и оград.
Влюблённые не будут далеки от истины, полагая, что эти молчаливые свидетели их свиданий возникли в Петербурге не случайно. Одинокие шаги влюблённых вдоль Зимней канавки эхом отдаются под арочными сводами галереи-фойе Эрмитажного театра и тонут во времени, повторяя эхо шагов других влюблённых нашего века до самого его начала, и весь девятнадцатый век. И только к восьмидесятым годам восемнадцатого исчезают, потому что тогда еще не были построены ни Эрмитажный театр, ни галерея над Зимней канавкой.
Заглянуть в Петербург XVIII столетия не так легко. И, хотя сохранилось множество описаний улиц, дворцов, одежды горожан, зимних и летних праздников, мы почти ничего не знаем о том, как вели себя влюблённые в Петербурге XVIII века. Где назначали свидания? И существовало ли вообще тогда понятие «романтического свидания»? Разделение мужчин и женщин было значительно жёстче и сильнее. Но нравы и обычаи были тогда достаточно грубыми.
Зимой дамы и кавалеры скатывались с ледяных гор, составляя кадрили и экосезы. И можно было случайно зацепиться и запутаться в какой-нибудь собольей шубке прелестницы. Летом популярны были поездки на Крестовский остров – шумные, целыми кавалькадами. Никого не смущало, если какой-то кавалер вдруг увлекал свою даму в заросли кустов сирени. В летние ночи повсюду были видны шлюпки. Катались парами и большими компаниями.
Но, вероятно, самыми притягательными местами для влюблённых с самого начала Петербурга были сады. При Петре и позднее, в царствование Екатерины II, почти при каждом доме закладываются сады. В садах устраивались затейливые беседки, мостики, гроты, где можно было уединиться на часок.
Первый общественный увеселительный сад открылся весною в 1793 году на Мойке. Здесь каждую среду и в воскресенье давались праздники, балы, танцевальные вечера и маскарады с платой по рублю с персоны. Увеселения начинались в 8 часов вечера, посетители могли приходить в масках и без масок. Вот куда могли устремиться влюблённые, договорившись взглядами и знаками через окно дома или кареты.
А во время маскарада или бала продолжались объяснения с помощью нарядов и тафтяных мушек. Мушка, наклеенная у самого глаза, означала страсть, на носу – наглость, крошечная на подбородке – люблю, да не знаю-, на щеке – согласие, под носом – разлука. Движения веера в руках дамы также получали особый смысл, и всё вместе создавало своеобразный «язык кокетства».
Цвета одежды тоже имели значения: цвет заглушенного вздоха, совершенной невинности, нескромной жалобы. По всей видимости, эти молчаливые знаки действовали призывно. И в летние светлые вечера городские сады Петербурга наполнялись вздохами, вскриками, торопливыми шагами и шумом платья – для пышности юбок использовали проклеенное полотно, и ткань страшно шумела при малейшем движении.
Для дальних прогулок уже существовали императорские и великокняжеские дворцы и сады: Петергоф, Ораниенбаум, Гатчина, Царское Село, Павловск. Разминуться в саду среди гуляющих, обогнуть холм, спуститься по лестнице, каменные ступени которой поросли травой, и неожиданно столкнуться с тем, о ком билось сердце, – это то, что влюблённые петербуржцы передают друг другу по наследству, равно как и места свиданий.
Жизнь в Петербурге постепенно менялась, становилась сложнее. Вместе с западным ветром, подгонявшим европейские суда с товарами, в Петербурге появлялся некий налёт на русских нравах и обычаях. Из Франции, как известно, вместе с эмигрантами хлынуло сюда волокитство и любезности. В модных домах Петербурга «появились будуары, диваны, и с ними начались истерики и мигрени».
Но, впрочем, волокитство, по воспоминаниям графа Владимира Соллогуба, в те времена не было «удальством, модой и ухарством; оно ещё было наслаждением, но наслаждением, которое скрывали, насколько это было возможно. Красоте служили, может быть, ещё с большим жаром, и златокудрая богиня царствовала, но на всё… точно натягивался вуаль из лёгкой дымки, так что видеть можно было, но различить было трудно».
Важная роль в жизни общества принадлежала балу. А для влюблённых главным был второй бальный танец – вальс. «Этот танец в 1820-е годы пользовался репутацией непристойного или, по крайней мере, излишне вольного».
Во дни веселий и желаний
Я был от балов без ума:
Верней нет места для признаний
И для вручения письма.
А. Пушкин
Вальс создавал для нежных объяснений очень удобную обстановку: от близости танцующих возникало чувство интимности, соприкосновение рук позволяло передавать записки.
А сколько тайных любовных записок сгорело в петербургских печах и каминах, сколько мгновенных случайностей таили тёмные лестницы, переходы, чуланы. Любовь во все времена выламывалась из всех рамок, в которые её заключали. Может быть, в письме Лизы, брошенном Германну через окно, как в зеркале, отразились трудности свиданий в той, теперь уже такой далекой, первой половине XIX века:
«Сегодня бал у ***ского посланника. Графиня там будет. Мы останемся часов до двух. Вот вам случай увидеть меня наедине. Как скоро графиня уедет, ее люди, вероятно, разойдутся, в сенях останется швейцар, но и он обыкновенно уходит в свою каморку. Приходите в половине двенадцатого. Ступайте прямо на лестницу. Коли вы найдете кого в передней, то вы спросите, дома ли графиня. Вам скажут нет, – и делать нечего. Вы должны будете воротиться. Но, вероятно, вы не встретите никого. Девушки сидят у себя, все в одной комнате. Из передней ступайте налево, идите всё прямо до графининой спальни. В спальне за ширмами увидите две маленькие двери: справа в кабинет, куда графиня никогда не входит; слева в коридор, и тут же узенькая витая лестница: она ведёт в мою комнату».
Чем стариннее дом, тем больше тайн хранят его стены. Не потому ли, получив от Лизы ключ от потайной лестницы, Германн думает о чужом свидании: «…он вошел в кабинет, ощупал за обоями дверь, и стал сходить по тёмной лестнице, волнуемый странными чувствованиями. По этой самой лестнице, думал он, может быть, лет шестьдесят назад, в эту самую спальню, в такой же час, в шитом кафтане, причёсанный a l’oiseau royal (журавлём. – А. Пушкин), прижимая к сердцу треугольную свою шляпу, прокрадывался молодой счастливец, давно уже истлевший в могиле, а сердце престарелой его любовницы сегодня перестало биться… Под лестницею Германн нашёл дверь, которую отпер тем же ключом, и очутился в сквозном коридоре, выведшем его на улицу».
Очутиться на улице после любовного свидания, смешаться с толпой, раствориться в дожде и перевести дыхание, не подозревая, что город пристально наблюдает, запоминает, – это состояние очень знакомо петербуржцам. Дожди и снегопады всегда были союзниками петербургских влюблённых. Они позволяли стать незаметными на улицах, исчезнуть в тени аллеи или бульвара.
Девятнадцатый век набирал силу. Петербург разрастался, приобретал иную осанку. Вздымались по ночам к небу пролёты мостов через Неву. В город вступили вокзалы.
Уже никого не удивляло, если женщина одна ждала кого-то у вокзальных часов. Вокзалы добавили новые штрихи романтическим встречам и расставаниям – гудок паровоза, стук колёс, огни уходящего поезда и опустевший перрон с одиноко стоящей фигурой. По улицам также легли новые маршруты – в Консерваторию, на Бестужевские курсы, в Дворянское собрание…
Жизнь каждого человека всё более замыкалась, была сложнее, но менее публична. И влюблённые могли угадать друг друга в самое непредсказуемое мгновение. Угадать, узнать нежданно, потому что в Петербурге всегда можно встретить влюблённого, идущего одиноко в предчувствии любви, в её ожидании. Достоевский назвал их мечтателями. Осенними тёмными вечерами их трудно различить на улицах. Но в белую ночь невольно подметишь светлую улыбку случайного прохожего, удивительно знакомый взгляд, обращённый в себя и еще к кому-то. И даже оглянёшься по сторонам в поисках того, о ком думал прошедший.
«Белые ночи» Достоевского, ставшие дневником любви, соединили в себе свет всех предшествующих и всех будущих свиданий белыми ночами петербургских влюблённых: «Вчера было наше третье свидание, наша третья белая ночь… Однако, как радость и счастие делают человека прекрасным! Как кипит сердце любовью! Кажется, хочешь излить всё своё сердце в другое сердце, хочешь, чтоб всё было весело, всё смеялось. И как заразительна эта радость!»
Зимой влюблённые ходили на каток в Таврический сад. В те времена водой заливали все дорожки, развешивали огоньки на деревьях. Это было очень хорошее место для свиданий.
А летом начинались музыкальные вечера в Павловске. Поезд подъезжал к платформе, в нескольких шагах от которой за стеклянными дверьми был концертный зал. Вход был бесплатный. Приезжало немало знатоков симфонической музыки. Но ещё больше тех, кто назначал там особые встречи.
Петербург конца XIX века всё больше отпечатывался в судьбах своих горожан. Как и во все времена, влюблённых тянуло на острова. Читая блоковские стихи того времени, место действия ни у кого не вызывает сомнений:
Мы встречались с тобой на закате,
Ты веслом рассекала залив.
Я любил твоё белое платье,
Утончённость мечты разлюбив.
А. Блок
Век закатывался. На смену ему вступал новый. Петербург дышал тревогой. И только влюблённых он по-прежнему уводил в сторону, точно сохранял их, точно любовники пользовались особым правом в этом странном, необыкновенном городе.
Кто из петербургских влюблённых не знает удивительную возможность в большом городе тайно «следовать позади», не выпуская из виду, замечая каждое любимое движение, поворот головы, плеча… Потом возвращаться той же улицей, внезапно опустевшей, осунувшейся.
К двадцатым годам нашего века по Петербургу уже столько прошло влюблённых, столько сердец вознеслось и упало, что можно было подвести итог. Мандельштам в эти годы писал:
«Места, в которых петербуржцы назначают друг другу свидания, не столь разнообразны. Они освящены давностью, морской зеленью неба и Невой. Их бы можно отметить на плане города крестиками посреди тяжелорунных садов и картонажных улиц. Может быть, они и меняются на протяжении истории, но перед концом, когда температура эпохи вскочила на тридцать семь и три, и жизнь понеслась по обманному вызову, как грохочущий ночью пожарный обоз по белому Невскому, они были наперечёт:
Во-первых, ампирный павильон в Инженерном саду, куда даже совестно было заглянуть постороннему человеку, чтобы не влипнуть в чужие дела и не быть вынужденным пропеть ни с того ни с сего итальянскую арию; во-вторых, фиванские сфинксы напротив здания Академии художеств; в-третьих – невзрачная арка в устье Галерной улицы, даже неспособная дать приют от дождя; в-четвертых – одна боковая дорожка в Летнем саду, положение которой я запамятовал, но которую без труда укажет всякий знающий человек. Вот и всё. Только сумасшедшие набивались на рандеву у Медного всадника или у Александровской колонны…»
На эти слова отзываются эхом из 1913 года ахматовские строки:
Сердце бьётся ровно, мерно,
Что мне долгие года!
Ведь под аркой на Галерной
Наши тени навсегда.
Петербург вступал в новую, зловещую эпоху. Он впадал в долгое оцепенение, увлекая за собой своих влюблённых. Они по-прежнему оставались его сообщниками, существуя вне времени, отмахиваясь от событий, но с городом. Он был свидетелем их любви, поверенным их тайных помыслов и надежд. Время не щадило Петербург, не щадило и влюблённых.
Есть удивительная и, может быть, страшная особенность времени в периоды напряжения истории, будь то война или революция. Время тогда точно сжимается, и человек успевает в короткий срок прожить, прочувствовать так, как будто прошла целая жизнь.
Влюблённые устремлялись друг к другу через все препятствия – голод, разрушения, перестрелки на улицах. И при этом их обступал Петербург. В памяти оставались окно, угол дома, собор, как это происходит с героем Набокова:
«Идя к ней по вечерам и возвращаясь за полночь, я узнавал среди каменной, морозной, сизой от звёзд ночи невозмутимые и неизменные вехи моего пути – всё те же огромные петербургские предметы, одинокие здания легендарных времён, украшавшие теперь пустыню, становившиеся к путнику вполоборота, как становится всё, что прекрасно: оно не видит вас, оно задумчиво и рассеянно, оно отсутствует.
Я говорил сам с собой – увещевая судьбу, звёзды, колонны безмолвного, огромного отсутствующего собора, – и когда во тьме начиналась перестрелка, я мельком, но не без приятности, думал о том, как подденет меня шальная пуля, как буду умирать, туманно сидя на снегу, в своём нарядном меховом пальто, в котелке набекрень, среди оброненных, едва зримых на снегу, белых книжечек стихов».
Заканчивались войны, но город, казалось, всё ещё оставался в осаде, и надолго. Куда подевались потайные лестницы и переходы в домах XVIII и XIX столетий? Они заперты, забиты досками или превращены в парадные. Парадные же поменялись с ними ролями. Страдальчески морщились кариатиды и путти, зажатые перегородками уплотняемых квартир. Впрочем, влюблённых это почти не коснулось – любовь всегда была бездомной. Только прежде любовники могли найти пристанище на день, на два, на час – теперь они оказались под открытым небом.
А улицы, набережные были всё те же. Как они кружили головы век назад, так и теперь они вели влюблённых всё теми же кругами, заманивали, скрывали.
… Молчали.
Всходя на мосты,
проходя под мостами,
во всех переулках,
на всех перекрёстках —
молчали.
Лишь две наши тени,
два ангела наших скитаний,
касались друг друга
всё дольше и все неслучайней.
Г. Семенов
Город любил своих влюблённых, может быть, всего более за то, что они интуитивно повторяли путь прошедших здесь прежде и тем укрепляли надежду на будущее. Они были самыми ранимыми и вместе с тем – самыми неуязвимыми для проявлений уродства наступившей эпохи. И город открыл им новые возможности.
Так, с появлением метро возникло трехминутное счастье остановиться, смотреть друг другу в глаза. Заметьте, что влюблённые как особый подарок принимают эти мгновения наедине в движущейся толпе горожан. Они приходят на старые кладбища Петербурга. Может быть потому, что любовь всегда думает о смерти. «Сильна как смерть любовь», – написано в «Песне песней».
Чем бесприютнее улицы города, чем беспардоннее взгляды продавщиц в кафе, тем уютнее на почтамте, на телеграфе, где можно незамеченными оставаться вдвоём. Но чаще всего дождь и снегопад загоняют влюблённых в подъезды, на лестницы старых домов. Там можно немного посидеть на широком подоконнике, согревая дыханием заледеневшие руки. Вот вечный сюжет, вошедший в стихотворение Глеба Семёнова.
Вам – лестница, нам – пять минут тепла.
Вам вверх взмывается, нам топчется на месте.
Вам хлопается дверью честь по чести,
Нам хлюпается носом мал-мала.
Вы хмуритесь, в прихожую вошед,
Мы балагурим в вихре снежной пыли.
Для вас постель – о, если б вы любили!
Для нас метель – любовнейший сюжет!
Нет, не завидуем – жалеем… Знали б вы,
Насколько дышится острей и откровенней!
Мир состоит из двух местоимений —
По ту и эту сторону любви.
И по-прежнему влюблённых и одиноких мечтателей тянет белыми ночами к Неве, где, словно в эротическом порыве, поднимаются крылья мостов.








