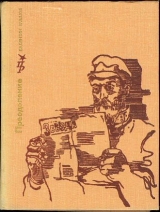
Текст книги "Преодоление. Повесть о Василии Шелгунове"
Автор книги: Валентин Ерашов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 23 страниц)
Он чуть не плакал, оставшись в ретираде, и не оттого, что растерялся, принял безропотно удар, а от неумения своего, от бессилия, от неправедности случившегося. И бессонной ночью понял простую истину: мало знать самому, надо еще и научиться знания свои передавать другим, надо и людей уметь распознавать. Надо научиться…
7
А через несколько дней произошел и второй важный случай, то собрание группы, где Василий впервые открыто столкнулся с Точисским.
Павел Варфоломеевич явился оживленный. Если бы не знать его, можно подумать: выпил. У него шла какая-то новая полоса: клочкастую бороду подстриг на клинышек, с узенькими бакенбардами, голову причесал аккуратно, сменил показные опорки на штиблеты, обзавелся жилеткой, перестал играть в Мефистофеля, главное – прекратил и опрощаться в поведении и в речи. К этому новому Точисскому еще не привыкли, приглядывались в ожидании того, что принесет вся эта переобмундировка. И руководитель «Товарищества» ждать долго не заставил. Едва сбросив на табуретку пальто – собрались у Тимофеева в комнате, – Павел Варфоломеевич огляделся, все ли в сборе, и отрубил командирским голосом, что полагает необходимым всех интеллигентов из группы выключить незамедлительно и навсегда. И сделав краткую паузу, прибавил излюбленное насчет петуха, пропоющего трижды.
Впечатление произвел гнетущее, ошеломительное, все молчали, опустив глаза: как можно людей объявлять предателями столь огульно, чохом да еще заранее. Шелгунов испытал то же самое, что несколько дней назад, когда его хлобыстнули по физиономии, воспоминание было почти физическим, и, чего прежде не случалось, он вскочил, опрокинув табурет, дернул себя за бородку так, словно вцеплялся в Точисского, заговорил негаданно – для себя и для всех остальных, – гладко и складно, будто все предвидел загодя и приготовил речь.
«Я слыхал, – выпалил он, – что на военных советах первым дают слово младшему по чину и по годам, так вот я и скажу первым. Ты, Павел, других предателями считаешь, винишь без вины – по какому праву? А если тебя в подозрение взять? Если я скажу, что ты с подлой целью в рабочие перерядился? Ты-то сам – дворянский сынок, полковничий, да еще из каких полковников, известно, из тюремных. Понравится тебе, ежели тебя таким вот манером? А то, что предлагаешь – это и есть предательство, потому как рабочий к учению, к свету стремится, а ты норовишь нас такой возможности лишить. Ты же сам принес листовку, где речь Петра Алексеева, там что про интеллигенцию сказано, ты забыл? Прочитать? Наизусть помню…»
Все по-прежнему помалкивали, Василий же шпарил без всякого удержу, в осознании своей правоты и в упоении собственной смелостью, своим умом, в наслаждении тем, как ниспровергает вчерашнего кумира. Он обводил всех победным взором и где-то краешком сознания ловил: почему не глядят и в его сторону, он-то чем провинился?
«Ишь, заговорил, как валаамова…» – бросил Точисский, домолвить не успел, когда, шарахнув по столу кулачищем, бешеным басовым шепотом перебил Тимофеев: «Не смей, Павел Варфоломеевич, не смей так про Васю!»
Тут всех прорвало, понесло. Шелгунов забыл, что пора бы и сесть. Говорили враз, трудно было понять, кто про что, кто за кого, что к чему. Неожиданно весь этот гвалт перекрыло сильным, явственно по-мефистофельски нарочитым хохотом.
В тишине отчетливо и уверенно Точисский сказал: «Товарищи, товарищи, шутки же надо понимать!» И, хотя каждый понимал, что начал он собрание отнюдь не в шутку, никто не возразил, вздохнули облегченно, как всегда после замятой неловкости, один только Василий глядел растерянно и не мог взять в толк: победой ему гордиться или числить за собой поражение? «Нет, Павел Варфоломеевич, – сказал наконец непреклонный Тимофеев, – ты не крути. Сегодня этак пошутишь, завтра иначе, а мы не для забав собираемся. Предлагал? Предлагал! Изволь решать подачею голосов». – «Шары не принес для баллотирования, виноват», – попытался и это свести к безобидной забаве Точисский, но Тимофеев настаивал, и Василий подумал: а что, если студенты и курсистки осерчают на Павла, возьмут да и уйдут? «Хорошо, – сказал Точисский, – подача голосов открытая, прошу, кто имеет возражения против моей резолюции…»
Руки подняли все. «Но я, однако, озорничал», – упрямо сказал Точисский.
«Хорошо, что высказался первым и в открытую, – похвалил Тимофеев после, на улице. – Ты, Вася, очень вовремя и в точку. Интеллигенты могли обидеться, вот и рухнуло бы наше дело. Айда пивца потянем». – «За победу!» – почти воскликнул Шелгунов. «Э, брат, вот это хватил! Победа – когда врагов одолевают, а Точисский, oн свой, без обману, он наш учитель, только самолюб, да молод, вот ею и заносит».
8
Занесло Павла Варфоломеевича не в последний paз. Сильный спор возник на собрании, когда обсуждали выработанный им проект устава «Товарищества». Главный упор Точисский делал на повышение умственного развития и нравственных качеств рабочих, на чтение, как oн выражался, книг серьезных, а под таковыми он понимал сугубо научную, хотя и доступную пониманию рабочих, литературу. «Умственное развитие нам и воскресные школы дают», – возражал Шелгунов, он теперь держался все уверенней. Василия поддержал Андрей Брейтфус, за ним курсистки: нужно завести библиотечку с нелегальной литературой. Павел Варфоломеевич упорствовал: увлечение всякой нелегальщиной принесет больше вреда, нежели пользы, только взбудоражит, а не даст знаний. Однако он и тут оказался в меньшинстве: устав пополнили параграфом и о нелегальной библиотеке, и о кассе взаимопомощи заключенным рабочим и политическим ссыльным.
На том споры в группе и прекратились. Точисский был отходчив, обид не затаивал, а пропагандист и организатор он был превосходный, талантливый, умел разбираться в людях, вызвать доверие к себе, отличался осторожностью, хорошо знал правила конспирации, Эти качества его сослужили «Товариществу» добрую службу, а причуды и выходки ему прощали.
В скором времени группа сумела наладить работу на крупнейших предприятиях: Александровском, Обуховском, Балтийском, у Берда и на Охте, в «Арсенале» и ткацкой фабрике Варгунина и на табачной «Лаферм», в мастерских Варшавской железной дороги.
Шелгунову досталось конечно же «Новое Адмиралтейство». Но сперва пришлось Василию вспомнить старое ремесло – переплести книги для нелегальной библиотечки, набралось около семи сотен. И еще он получал литературу из-за границы, от группы «Освобождение труда», – Павел Варфоломеевич втягивал в работу постепенно, приучал к ней, проверяя деловые качества каждого члена «Товарищества».
Приходилось трудно. Впоследствии Ленин скажет, что в эту пору социал-демократия переживала период утробного развития.
Кружковцам Точисского, группе Димитра Благоева, другим немногим и немногочисленным социал-демократическим организациям подпить широкое массовое движение было еще не под силу. Шелгунов видел: среди рабочих крепка вера в доброго царя. По-старому рассуждали: государя, дескать, обманывают, опутывают министры, промышленники, чиновники, помещики, даже купцы. И поговорка ходила, ее часто кидали в лицо, когда пытался Василий заговорить о царе: «Посуду бей, а самовара не трожь!» Правительство давило, жандармы и полиция осатанели. Даже безобидные сборища – для игры в бабки, в лапту, в орлянку – запрещала, хотя испокон веку по рабочим окраинам народ собирался на дворах вечерами. Отпраздновать именины – изволь получить разрешение от полицейского начальства. Десять вечера – ворота и калитки на запор, и все дворники, знал каждый, состояли на секретной службе.
Немота, глухота, мрак сгустились над Россией восьмидесятых годов. И многие жили, по свидетельству современников, руководствуясь принципами: «ничего ив делать и всего бояться», «съежиться до минимума». На смену революционному, возвышенному духу шестидесятников пришло измельчание – идейное и духовное. Развились антиобщественные тенденции, беспринципное приспособленчество, дух стяжательства и наживы. Темно, мрачно, страшно сделалось жить. Люди боялись друг друга. Боялись разговоров. Боялись даже собственных мыслей. Да и было чего бояться. Случалось, в постановлениях властей указывали: «Задержать вплоть до выяснения причин ареста…» Значит, сперва схватить, затолкать в полицейскую, в тюремную ли камеру, а уж после выискивать причину – реальную, мнимую ли – для посадки…
Шелгунову казалось порой: все напрасно, ничего не добиться, вся их пропаганда – звук пустой. Случалось, опускал руки. Созданный им в «Новом Адмиралтействе» кружок собирался редко, слушать о политике почти не хотели, занятия в основном вели просветительские: приходили студенты, что похрабрее, переодетые под рабочих, рассказывали, да и то с оглядкой, о происхождении Вселенной, ставили нехитрые химические опыты. Старались, правда, ввернуть словечко на злобу дня, иногда удавалось, чаще – нет.
Россия притихла, погруженная во мрак и страх.
Тем негаданней громыхнул гром в хмуром, низком, давящем небе.
9
1886 год, декабрь. После глубокого идейного и организационного кризиса народовольцев студенты столичного университета Александр Ульянов и Петр Шевырев попытались возродить организацию, создав «Террористическую фракцию партии „Народная воля“». Она состояла в основном из студентов, вела пропаганду среди рабочих. Программа, разработанная А. Ульяновым, весьма противоречива: наряду с марксистскими положениями в ней содержались и отзвуки народовольческих традиций, в частности указание на неизбежность индивидуального террора.
«Отнимая у интеллигенции последнюю возможность правильной деятельности на пользу общества, то есть свободу мысли и слова, правительство тем самым… подавляет ее только разум, но и оскорбляет чувства и указывает интеллигенции на тот единственный путь, который остается мыслящей части общества, – на террор… Но ни репрессии правительства, ни озлобление общества нe могут возрастать беспредельно. Рано или поздно наступит критическая точка». – Рассуждал А. Ульянов.
1887 год, 1 марта. В шестую годовщину убийства Александра II трое членов «Фракции» – Пахомий Андреюшкин, Василий Генералов, Василий Осинанов – вышли к Невскому со взрывателышми снарядами, чтобы совершить покушение на царя, но в результате жандармской слежки были тут же схвачены. Через некоторое время, после откровенных показаний также арестованных П. Горкуна а М. Капчера, выявлена и вся организация. Задержаны 74 человека, из них 59 наказаны в административном порядке, остальные преданы суду.
15–19 апреля. Судебный процесс Особого присутствия Сената под председательством известного мракобеса сенатора П. А. Дейера, при закрытых дверях.
«Мне, одному из первых, принадлежит мысль образовать террористическую группу, и я принимал самое деятельное участие в ее организации… Что же касается до моего нравственного и интеллектуального участия в этом деле, то оно было полное». – Александр Ульянов. Показание в процессе.
«Эта откровенность даже трогательна!!!» – Пометка Александра III на приведенном документе.
«Среди русского народа всегда найдется десяток людей, которые настолько преданы своим идеям и настолько горячо чувствуют несчастье своей родины, что для них не составляет жертвы умереть за свое дело. Таких людей нельзя запугать». – Александр Ульянов. Речь в процессе, 18 апреля.
«Речь, произнесенная Ульяновым, произвела очень сильноe впечатление; ее сравнивают с речью Желябова». – Из нелегального издания того времени.

Все подсудимые приговорены к смертной казни. Император утвердил повешение для пятерых: Пахомия Андреюшкина, Василия Генералова, Василия Осипанова, Александра Ульянова и Петра Шевырева. Самому старшему, Осипанову, было около двадцати шести лет, Ульянову только что исполнился 21 год.
«На вопрос матери на свидании после суда, нет ли у него какого-нибудь желания, которое она могла бы исполнить, Саша сказал, что хотел бы почитать Гейне». – Анна Ильинична Ульянова-Елизарова. Из воспоминаний.
«Чувствую себя хорошо, как физически, так и психически… Прощай, дорогая моя, крепко обнимаю и целую тебя. Твой А. Ульянов». – Последнее письмо. Адресовано сестре Анне. Послано из Петропавловской крепости 20 апреля.
30 апреля. «Вышлите немедленно палача». – Шифрованная телеграмма в Варшаву, где тогда находился единственный в России палач.
8 мая. Во дворе Шлиссельбургской крепости состоялась казнь. «Зрителей» не было, но сатрапы ради садистского удовольствия придумали дополнительную забаву: для пятерых поставили три виселицы. Пока вешали товарищей, Ульянов и Шевырев стояли рядом в ожидании очереди. «В продолжение получаса у них перед глазами было потрясающее зрелище троих повешенных на концах веревок в мучительных конвульсиях». – Французская газета «Cri du Peupie».
«При возведении палачом осужденных Андреюшкина, Генералова и Осипанова на эшафот первый из них произнес: „Да здравствует народная воля!“, второй только успел сказать: „Да здравствует…“, а последний: „Да здравствует исполнительный комитет…“». – Из рапорта коменданта крепости Покрошинского.
«Зачем нам эти подробности». – Резолюция начальника штаба корпуса жандармов.
«Александр Ильич погиб как герой, и кровь его заревом революционного пожара озарила путь следующего за ним брата, Владимира». – Анна Ильинична Ульянова-Елизарова.
«Нет, мы пойдем не таким путем. Не таким путем надо идти». – Владимир Ульянов, По воспоминаниям Марии Ильиничны Ульяновой.
Глава третья
Никто из нас не знает, думал он, и вряд ли узнает когда-нибудь, в какой камере провел здесь несколько предпоследних дней Саша, прежде чем его с товарищами перевезли в Шлиссельбург и там повесили. Повесили, подумать только, страшная выпала ему смерть… Четырнадцать месяцев не оставляет мысль о том, что Саша мог сидеть именно тут, в камере под нумером 193, лежать на этой самой койке, сидеть на откидном железном листе, именуемом стулом, писать на доске, называемой столом, и в эту вот форточку ему протягивали миску с унылой тюремной пищей. И эти, вот именно эти глухие стены слышали одинокие слова его, и не дано им было услышать его последних мыслей, несомненно архизначительных, лишенных житейской мелочности, свободных от уныния, – мыслей, которых не услышал, не узнал и не услышит и не узнает никто и никогда…
Саша был больше, чем просто брат, он привык восхищаться Сашей, любимцем семьи и всех окружающих, привык, сколько помнил себя, восхищаться и подражать ему во всякой малости… Любой, кто с ним соприкасался, видел в Саше личность великую, если не гениальную. Дмитрий Иванович Менделеев с университетской кафедры сказал во всеуслышание: «…два талантливейших моих ученика, которые, несомненно, были бы славою русской науки, Ульянов и Кибальчич, погибли…» Да, вероятно, Саша был бы славою науки… Но, кроме того, был он и любимым братом, и горько и странно думать, что мог он сидеть в этой камере № 193, где вот уже четыреста восемнадцатый день отбывает фактически бессрочное предварительное заключение он, брат младший… Но, кажется, эти канальи зашевелились, Анюта сказала на прошлом свидании, будто готовится высочайший рескрипт… Что ж, будем собирать пожитки, перемещаться в места отдаленные… Мама подала прошение в департамент полиции с просьбою назначить местом ссылки либо Красноярск, либо Минусинск… Хорошо бы, если так. Впрочем, надо быть готовым ко всякому… Правда, по сравнению с народниками пока что социал-демократов наказывали достаточно легко… Хотя как сказать… Брусневу отвалили несколько лет одиночки плюс десять лет ссылки в Восточную Сибирь… А тюрьма – пострашнее этой предварилки. Здесь, по крайней мере, не стесняют книгами, дозволяют писать, два раза в неделю – свидания. Здесь, пускай за стенами, Питер, и рядом – товарищи, друзья, родные… Здесь Питер… Кажется, это было совсем недавно, а ведь прошло почти три с половиною года. Помнится, как будто вчера…
…Остались позади тихая, приземистая Тосна и задымленное Колпино. Вагон третьего класса, зеленый снаружи, охряной внутри, с узкими рубчатыми лавками, с вытянутыми кверху и тоже узкими окошками, плотно закрытыми по случаю приближения к столице, она давала о себе знать гарью и угольным запахом, – вагон этот сильно мотало и потряхивало на стыках рельсов. Пассажиры, мало привычные к частым передвижениям по чугунке, суетились, вытаскивали узлы, баулы, корзины, стягивали веревками заплечные мешки, перебранивались – дорога от Москвы прискучила, бессонная ночь давала себя знать, томили духота и керосиновая вонь от фонарей, уши, ноздри забило дорожной пылью.
Шли последние сутки лета – 31 августа. В Самаре и в Москве было душно, пыльно, суетливо, особенно в первопрестольной. Можно было и не задерживаться там, однако в древнюю столицу незадолго перед тем перебралась в полном составе семья – мама, Анюта с мужем, Марком Тимофеевичем Елизаровым, Маняша и Митя, надо было поглядеть, как устроились, тем более что, судя по всему, расставались надолго. Из Самары выезжали все вместе, но сделал остановку в Нижнем, получил петербургскую явку, завернул во Владимир, надеясь встретиться с Николаем Евграфовичем Федосеевым, с которым состоял в переписке по казанскому марксистскому кружку. Выяснилось, что Николай еще отсиживается во «Владимирке»… В Москве немного задержался, родные поселились удобно, помощи им не потребовалось, время ушло на деловые встречи с местными марксистами, на занятия в Румянцевском музее, превосходная там библиотека. Мама, понятно, уговаривала остаться с ними, но Анюта и Марк поддержали его, особенно Анюта, понимала, что уходит в революцию, и потому лучше жить ему отдельно, чтобы в случае чего не ставить под удар и мамочку, и Дмитрия, поступавшего в университет… Кроме того, Питер есть Питер, не московское относительное захолустье.
Клетчатый саквояж с твердым днищем стоял на замызганном полу, в саквояже уместилось все имущество. Зимнее пальто купить обещали мама и старшая сестра, сам он приобретать ничего не умел. Постель надеялся получить у квартирных хозяев. Книги – в библиотеке. «Omnia mea mecum porto» («Все мое ношу с собой»).
Поезд сбавлял ход. За пыльным окошком ползли кирпичные строенья, штабели просмоленных шпал, всякий придорожный хлам. Потянулся дощатый вокзальный дебаркадер. Тормознуло резко, с полки свалился узел, заплакал ушибленный ребенок. Приехали.
На Знаменской площади, справа, высилось огромное здание Северной гостиницы, в ней, конечно, сыскался бы недорогой нумер, но денег было совсем в обрез. По той же причине извозчика не взял, а от конки отказался – не из экономии, а удовольствия ради предпочел прогуляться, погода благоприятствовала.
В Петербург он приехал четвертый раз. Перед тем был ровно два года назад, в университете держал последние экзамены. А немного ранее, в мае того же 1891-го, вместе с мамой провожали здесь навечно Оленьку. Она училась на Высших женских курсах и скончалась от брюшного тифа, не прожив двадцати лет. Поехать бы на Волково кладбище сейчас же, положить цветы, но, по трезвому размышлению, следовало сперва устроиться с квартирою…
Обогнув Знаменскую церковь, он очутился на великолепном Невском. У перекрестка возвышался величественный городовой, сверкали бемским стеклом витрины, звенели конки, пролетали, по-звериному храпя, могучие жеребцы лихачей, трухали на приземистых лошаденках ваньки, с нарочитой медлительностью, давая рассмотреть владельцев, следовали собственные выезды. Фланировали авантажные господа с тросточками, нарядные дамы, лощеные офицеры, слышался нарочитый гвардейский говорок. На стыке Загородного с Литейным благоухал приманчиво знаменитый Палкин. Есть хотелось, но ресторан – не по карману. Машинально свернул на Литейный.
После мягких, тихих торцов Невского здесь булыжник показался непомерно громким и жестким, колеса тарахтели, как в родном Симбирске. Но зато ровен и удобен тротуар, – он усмехнулся, припомнив услышанное от извозчика словечко плитувар. Наступал петербургский трехсветный, так называли коренные жители, час: еще не закатилось низкое солнце, взошла луна, и фонарщики загодя зажигали светильники, перебегая с лестницей с одной стороны проспекта на другую. Надобно наконец отринуть задумчивость и побеспокоиться о ночлеге. Он принялся вглядываться, в каком окошке белеет билетик, свидетельство тому, что комната или квартира сдается внаем. Литейный приглашением таким не побаловал, свернул наугад в тихую Сергиевскую. Здесь, в доме под нумером 58, в квартире 20, нашел себе прйстанище.
Тут ему понравилось. С близкой Невы доносилось ее свежее дыхание, пахло привялой к осени зеленью Таврического сада. И, если не откажут принять в коллегию присяжных поверенных, то придется бывать в Окружном суде, а он – рукою подать, Литейный, 4.
Единственное, о чем не подумал он тогда, что совсем уж рядышком, на Шпалерной, находится Дом предварительного заключения а что всякий раз, проходя мимо, будет вспоминать о Саше… И, конечно, еще не приходило в голову, что Дом этот сделается надолго невольной обителью для него самого. Правда, мысль об арестах, разумеется, его посещала, знал, какими терниями утыкан избранный им путь, но почему-то мысли эти не связывались с предварилкой.
А государственная машина, хорошо отлаженная, повернула еще одно, пока еще почти неприметное колесико.
«Состоящий под негласным надзором полиции… Прибыл 31 августа 1893 г. в С.-Петербург и поселился в д. № 58 по Сергиевской ул., 4 участка Литейной части». – Донесение Петербургского охранного отделения в департамент полиции, 7 сентября.
«Филер должен быть политически и нравственно благонадежный, твердый в своих убеждениях, честный, смелый, ловкий, разбитной, сообразительный, выносливый, терпеливый, настойчивый, осторожный, правдивый, откровенный, но не болтун, дисциплинированный, выдержанный, уклончивый, серьезно и сознательно относящийся к делу и принятым на себя обязанностям, крепкого здоровья, в особенности – с крепкими ногами, с хорошим зрением, слухом и памятью, с такой внешностью, которая давала бы ему возможность не выделяться из толпы и устраняла бы запоминание его наблюдаемыми. Но при всех достоинствах чрезмерная нежность к семье или слабость к женщине – качества с филерской службой несовместимые и вредно отражающиеся на службе». – Из инструкции департамента полиции.
До столь идеального, чуть не ангельского облика филерам было далековато, но следует признать: хлеб ели не зря… Всего неделя потребовалась, чтобы и установить новое местожительство «сына действительного статского советника» Владимира Ильича Ульянова, и доложить непосредственному начальству, и отправить донесение в департамент…
…На Сергиевской, впрочем, он долго не задержался, комната и вся квартира его раздражали среднебуржуазной, вернее же, обывательской обстановкой, а хозяйка – непомерной педантичностью в соединении с любопытством. И близость к Окружному суду тоже пока представлялась бесполезной. С рекомендательным письмом самарского своего патрона, Андрея Николаевича Хардина, явился на следующее же утро к известному адвокату Михаилу Филипповичу Волкенштейну, тот жил рядышком, на углу Спасской и Преображенской. Встретил приветливо, угощал отлично заваренным чаем, предлагал и рому, был деликатен, диплома не спросил. Владимир Ильич, не желая ненароком поставить в неловкость предполагаемого нового патрона, счел необходимым сказать и о казненном брате, и о своем исключении из Казанского университета, на что вполне прогрессивный, а также преуспевающий и потому благодушный Волкенштейн отвечал без снисходительности и пугливости: таковые подробности его нимало не тревожат, был бы коллега усерден и толков. Протелефонировал в совет присяжных поверенных и не попросил, а почти распорядился записать с завтрашнего числа у него помощником господина Ульянова, окончившего курс в столичном университете с дипломом первой степени, – откуда стала Волкенштейну известна последняя подробность, Владимир Ильич не угадал. Возможно, известил в рекомендательном письме добрейший и милейший Хардин.
Записать записали, но ведения дел не поручали – было о чем призадуматься, не рука ли департамента полиции, – наведался в канцелярию съезда мировых судей, поскучал там на конференции помощников присяжных поверенных – плетение словес, воздусей сотрясение. Посетил Окружной суд, познакомился с коллегами, с разными чиновниками, – в их числе запомнился почему-то товарищ председателя Окружного суда, приятного обхождения Александр Евгеньевич Кичин. Дал несколько пустячных консультаций, притом безвозмездно, время шло как бы вхолостую, а денег оставалось меньше и меньше, урезывал расходы «minimum minimorum». Чувствовал себя, чего прежде не замечалось, и смятенно, и неуверенно. В Симбирске, в Казани, в Самаре были родные, товарищи, единомышленники, здесь он очутился в одиночестве, и адвокатская среда, куда он по необходимости стремился, представлялась чуждой. Просиживал дни в читальном зале Публичной библиотеки, в читальне Вольного экономического общества, что в Четвертой роте, у Забалканского проспекта. Принялся за материалы земской статистики, литературу о сельском хозяйстве – вызревал замысел объемистой, основательной книги по развитию капитализма в России. Вечерами кипятил на спиртовке чай, снова работал, для отдыха читал беллетристику. Было ему одиноко и тошно. Бесплодные хождения в поисках заработка, вынужденные отчеты перед мамой в расходах – мама того не требовала, полагал необходимым сам, – раздражающая обстановка в квартире, одиночество, жажда делать, странная неуверенность в себе томили, требовали разрядки, перемен каких-то. Взял и начал с простейшего: переселился в октябре на Ямскую, около Загородного и Невского, здесь показалось куда удобнее.
Надобно было преодолеть и окаянную скованность, и неуверенность, и чрезмерную осмотрительность, п настороженность, столь несвойственную ему, заводить знакомства, включаться в работу, ради чего к приехал он в Петербург. Вне сомнений: нужные, интересные люди в Петербурге имелись, предполагаемые и желанные единомышленники, предполагаемые и желанные противники, с последними хорошо бы и полезно схватиться… Но ведь не станешь на перекрестке взывать к неведомым единомышленникам и противникам.
Надежно припрятано еще одно кроме врученного Волкенштейну рекомендательное письмо, из Нижнего. Тамошние марксисты, Скворцов, Григорьев, Мицкевич, оказались теоретически слабо оснащенными, напирали преимущественно на практику. А Скворцов, лохматый, нервический, желчный, казался начетчиком от марксизма и симпатии, кажется, взаимно не вызвал. Но письмо составил вполне доброжелательное, просил своего земляка, Михаила Александровича Сильвина, студента первого курса университета, к подателю сего отнестись с полнейшим доверием. Другой явки в городе не было. Сильвии жил на Мещанской, 10, близ канцелярии съезда мировых судей, занимавшей дом 26. Владимир Ильич проходил там чуть не каждый божий день, однако заглядывать к Сильвину не спешил. Тем более что прежде у себя, на Сергиевской, у ворот, украшенных жестянкой: «Татарам, Трипичнекам и протчим крикунам вход во двор строга воспрещаетца!», каждый раз невольно улыбался, читая. – У ворот этих не однажды видел пресловутое гороховое пальто (потому гороховое, что охранное отделение помещалось по Гороховой улице). Вопреки ведомственной инструкции господа филеры не отличались выдающимися способностями к маскированию, даже не слишком наметанный глаз вскорости приучался выделять их. Так недолго подвести еще незнакомого Сильвина. Однако и тянуть далее было невтерпеж и невозможно…
Осенним утром, не рано, часов этак в одиннадцать, в квартиру, где обретался Михаил Сильвин, постучались. Студент-первокурсник, подобно многим сверстникам достаточно безалаберный в самостоятельной жизни, еще изволил почивать. Его разбудила хозяйка-немка, попеняла на образ жизни постояльца, сказала, что пришел гость. Полуодетый Сильвин вышел в залу, там увидел незнакомца. Сидел, не сняв пальто, глаза насмешливые, но в тон хозяйке сказал нарочито солидным баритоном: «Однако, однако же, молодой человек, долгонько сибаритствуете». И протянул конверт с рекомендательным письмом.
Ни Сильвин, ни Ульянов не запомнили числа, знали только впоследствии, что начало октября 1893-го. И встреча, сама по себе не слишком-то заметная и содержательная, – обменялись малозначащими словами – оказалась в конечном счете исторической: через Михаила Александровича вскоре Владимир Ильич познакомился с теми, кого так жаждал повстречать в столице.
Близился второй период истории русской социал-демократии – период детства и отрочества. Социал-демократия, по словам Ленина, появлялась «как общественное движение, как подъем народных масс, как политическая партия».
1
Благовестили колокола, гремел дьяконов бас, кадили приторно-ароматным ладаном, Василий бухнулся па колени, крестился, кланялся до полу, опять размашисто крестился, рядом то же проделывал Егор Климанов, лица у них восторженно-умиленные, как и полагается в таких обстоятельствах… Молебен заказали они по случаю чудесного избавления: в прошлом, 1888 году, 17 октября, на 277-й версте от Курску, возле станции Борки, дотоле мало кому известной, случилось устроенное злоумышленниками страшное крушение царского поезда. В нем ехал Александр III со всем августейшим семейством. Газеты захлебывались: «Чрезвычайная опасность грозила России, день тот мог оказаться днем великой печали, а стал праздничным, было явлено чудо милости Божией, по воле Провидения ни Государь, ни члены Его Семьи не пострадали…» Газеты не уставали долдонить о том, как со всех концов империи стекались изъявления верноподданными чувства радости о чудном спасении, как возносятся молитвы, скрепляющие союз царя с народом… Год миновал, и снова трезвонили колокола и служили молебствия, Шелгунов осенял себя крестным знамением и чуть не расшибал высокой лоб, его примеру следовали коленопреклоненные товарищи. Список тех, кто заказывал молебен, вручили псаломщику накануне с небезосновательной надеждою, что имена, обозначенные в этой бумаге, станут известны и полиции: в числе прочих способов она и таким вот манером, как ознакомление с поминальниками и прочими церковными росписями, следила за благонадежностью и благонамеренностью государевых верноподданных.
За несколько дней до молебствия в трактире на Забалканском, у Обводного канала, сдвинув столики, прихлебывали пенистое пиво, изредка горланили песни, притом горланили поочередно, а те, кто не распевал, под шумок переговаривались вполголоса.
Мысль об этой пирушке, а затем и о церковной службе пришла в голову Шелгунову, к тому понуждали серьезные обстоятельства.








