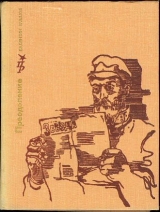
Текст книги "Преодоление. Повесть о Василии Шелгунове"
Автор книги: Валентин Ерашов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 23 страниц)
3
Время массовых стачек еще не пришло, не созрели подходящие условия. В тетрадку себе Шелгунов записал прочитанные где-то слова:
«Русский крестьянин всегда был верноподданным своего царя… Над пропагандистами посмеивался, видя в них желторотых птенцов, воодушевления их не понимал, а учения – и подавно… Русский мужик голодал, не бунтуясь, давал себя сечь сборщикам податей, не избивая их, посылал на войну своих детей, ие жалуясь».
Сказано было про крестьян, однако и многие рабочие совсем еще недавно вышли из деревни, связей с нею не рвали, по сознательности своей ушли недалеко.
Вот что довелось видеть Василию.
В Петербурге имела место торжественная процессия. Шелгунов стоял на углу Невского и набережной Фонтанки, возле Аничкова моста. Промчался в открытой карете государь с императрицей, за ними великие князья и княгини, высшая придворная челядь. Замыкал процессию градоначальник, его знал в лицо чуть ли не каждый житель столицы. Он скакал в легких санках, а на запятках, увидел Василий, стоял молодой рабочий, он – прямо-таки в телячьем восторге! – вопил: «Ур-ра государю! Ур-ра!» А градоначальник – на его лице Шелгунов ясно видел и страх, и презрение – лупил рабочего куда попадя, норовил разбить рот. Белые перчатки генерала покрывались кровяными пятнами. А рабочий знай кричал свое, пока из шеренги, выстроенной вдоль проспекта, не подскочили городовые, сбили рабочего, но и тут он исхитрился уцепитъся руками за спинку генеральских санок, волочился аа ними, а городовые лупили по рукам, покуда не отвалился, не упал в рыжий, затоптанный снег. Тотчас его подняли, поволокли, Василий не утерпел, подскочил: «Куда вы его, за что?» – «Куда надо, – сказал городовой, – а вы проходите, проходите, господин хороший, неровен час и вы туда отправитесь…» А рабочий жалко улыбался разбитым ртом, шел покорно и, утерев кровь, опять накричал: «Государю нашему – ур-ра!» – «Ты, братец, не дури, – скапал, увещевая, городовой, – себя не выказывай, не было такого приказа, чтоб ура кричать…»
4
В цеховой курильне «Нового Адмиралтейства» вели, да и не так уж редко, разговоры про социалистов. Большинство сходились на одном: люди это, кто их знает, видел, узкие, сухие уж больно. К рабочим не идут, крестьян и вовсе как бы не замечают. На хозяев, правда, вроде и замахиваются, но ведь от владельцев, если прикинуть, рабочему польза, они средства к существованию дают, кабы не фабрики, не заводы – чем бы кормились? Ну, верно, зажимают хозяева порой, ну, штрафы, начеты, в фабричных лавках обдираловка, да куда ж денешься, терпеть надо. Бывает, стачку наладят в одной месте, а проку что? Покричат-покричат, побунтуются недельку, а как животы подтянет, снова к станку, разве что и добьются прибавки пятачка, проку-то. Нет, от социалистов подальше надо, свяжешься – мигом в «Кресты» угодишь или – того страшней – в крепость. А там, в Петропавловской, слыхать, каменные мешки построены такие, что пошевельнуться нельзя. Впихнут, зажмут промеж стен, а в камеру воду пустят. Человек захлебывается, а вода все выше, выше, а надзиратель в дверной глазок смотрит. Как задохнулся арестованный, тут нажимают на рычаг, пол у камеры сам собой раздвигается – и тело прямехонько в Неву, раков кормить… Словом, социалисты – народ опасный, от речей толку мало, а дела не делают. Вот другие, как их, народники, что ли, в общем, те, которые царя убили… А они чем лучше? Мыслимо ли дело – государя-императора убивать, правителя всея Руси, помазанника божия? Он-то чем виноватый? Если казнить, так его министров, чиновников, это ихняя подлость, они царю-батюшке голову морочат, так ведь их, министров, разве перебьешь, одного ухлопают – другого поставят. Нет, от политики подальше, пускай господа эти, народники, социалисты ли, – сами по себе, а мы – сами по себе.
Шелгунов помалкивал, он и в самом деле оставался как бы сторонним наблюдателем, был сроду небоек, немногоречив, с людьми сходился туго и маялся от этого, не умея преодолеть застенчивость, ею тяготясь, и в то же время если не гордился, то как бы утешал себя именно этой свойственной ему главной чертой: пускай таков, пускай стеснителен и даже нелюдим, зато собственным умом дойду до самого что ни на есть главного в жизни. А что в жизни главное – понять как раз и не умел.
Разговоры в курильне притягивали его, он прислушивался к любому слову, сидя в сторонке, подымливал цигаркой, хотя и не курил по-настоящему, не затягивался, набирал дыму в рот, выпускал мятым клубком. Хотелось не обращать на себя ничьего внимания, однако это удавалось недолго: собою Василий стал парень видный, росту крупного, плечи вразворот; здесь, на заводе, у него вдруг увеличились кисти рук, они сделались тяжелыми, ладони широкими. Неожиданно улучшилось зрение, однако по детской привычке Василий щурился, и, должно быть, этот прищур и это постоянное молчание сделали его приметным среди остальных. Однажды к Шелгунову приблизился незнакомый мастеровой – силушкой, видно, ему под стать, смоляно-черный, с диковато-озорным взглядом – и, не обинуясь, ухватил жесткой пятерной за грудки, пустил папиросочным дымом в лицо, сказал: «Фараонам служишь, паскуда?» Василий в растерянности издал горлом какой-то слабый писк – почувствовал, как от этого жалкого звука покраснел, совестно перед людьми, – а мастеровой, распаляясь, норовил, кажется, двинуть по челюсти, но за драку можно было схлопотать изрядный штраф, и, держа Шелгунова за косоворотку, он только повторил: «Фараоново семя!» Руки у Василия оставались свободными, он тоже подавил соблазн шарахнуть обидчика в полный размах. Ухватил того за плоские широкие запястья, сжал всеми десятью пальцами, тот охнул и Шелгунова отпустил. Кругом все молчали, и молчание показалось обиднее всего: как же так, ни за понюх табаку обижают, а никто не вступился. Каждый сам по себе, подумал Шелгунов, ему хотелось сразу же уйти, но самолюбие не позволяло, закурил, ненароком затянулся, с непривычки закашлялся, словно маленький, и этот ребячий задушливый кашель обстановку разрядил, кругом засмеялись, Василия хлопнули по спине, и кто-то пробасил сзади: «Чего ты к парню привязался, прихвостней здесь нету!» Неприятный случай тем и завершился, но без следа не остался – Шелгунов еще крепче заперся в себе, без вины как бы виноватый. А Егор Климанов решил, как видно, взять быка за рога и однажды в школе вручил Василию старательно завернутый и перевязанный шпагатом тяжелый том, пояснил: эта книга важная очень, для правительства вредная, для рабочих куда как полезная, она, правда, не под запретом, однако читать в открытую не рекомендуется и гляди не потеряй ненароком, ей сорок рублей цена, куплена вскладчину на развале…
В тот вечер Василий еле дождался конца уроков и дома, в закутке, запершись на хлипкую задвижку, развернул толстый том.
Название, оттиснутое крупным, жирным шрифтом, ему не понравилось: «Капитал». Шелгунову и прежде попадались брошюрки с заглавиями вроде: «Как нажить капитал», «Как стать богатым», и поначалу он хватался за них, поскольку мысли о том, чтобы разбогатеть, одолевали, да и теперь не покинули окончательно. Вскоре, однако, сообразил: если авторы брошюрок дают всякие сонеты, взамен требуя прислать им десятиконеечную марку, то почему они вместо конеечного побирушества не воспользуются своими же рекомендациями, не станут миллионщиками… С тех пор он такие сочинения забросил и сейчас на книгу, врученную Климановым, глянул с сомнением.
Что-то было здесь не то… Да и том вовсе не похож нa дешевенькие, с крикливыми обложками брошюры. И как же он, типографский рабочий, поднаторевши в обращении с книгами, не охватил единым взором сразу и название, а подзаголовок: «Критика политической экономии». Критика! Василий стал читать далее, по титульному листу: «Сочинение Карла Маркса. Перевод с немецкого. Том первый. Книга 1. Процесс производства капитала». Выпущено было в С.-Петербурге, издание Н. П. Полякова, в 1872 году. Поглядим…
С первых же страниц сделалось ясно: речь идет вовсе не о том, как простому человеку нажить капитал, а про то, как наживают его предприниматели. Страниц десять всего за долгий вечер одолел Василий, то и дело спотыкаясь на непонятных словах, на трудных рассуждениях, и так продолжалось несколько дней, и, чем дальше, тем делалось непонятней. Окончательно же застопорился, когда начались формулы. Отчасти с формулами знакомили на уроках химии, по здесь было совсем иное, не похожее: Д – Т—Д; Т – Д – Т; Д – Т– Д + Д…
«Деньги, товар, деньги; товар, деньги, товар; деньги, товар, деньги плюс деньги». Мудрено, ох мудрено, не перешагнуть… Помаявшись, Василий отыскал Климанова и, стыдясь, буркнул: «Возьми книжищу эту, не одолеть мне». Но тот признался, что и сам ничего не понял, надеялся, что Василий разберется, вдвоем-то будет проще. «Ладно, – успокоил Климанов, – попробуем добыть, что нам по зубам».
И в самом деле, принес книгу и куда как меньшую и написанную доходчиво, просто, хотя речь шла о том нее самом, что и в «Капитале». В предисловии говорилось, что книжку «Кто чем живет?» написал польский социалист Шимон Дикштейн. Она только что, видно, вышла из типографии, не затаскана, приятно в руках держать, а главное, все понятно: кто такие капиталисты, как они эксплуатируют рабочих и кто чем живет на самой дело.
А как на самом деле жилось – этого Василий, в сущности, не знал. Он книжку Дикштейна читал как бы отвлеченно. Как бы не про него, Васю Шелгунова, говорено там. С одной стороны, жил он, Василий, не так чтоб и плохо: и зарабатывал пристойно, и жилье не хуже других, и отношение мастеров тоже подходящее. В общем, жить можно. И получается, что сам он, Василий Андреич, обретается вполне прилично, а вокруг такое творится… Голодает народ, мыкает горюшко, бедствует. И никто не указал, где и какой тут выход.
Выход искал он и в книгах, и в немногих разговорах, читал газеты, присматривался к товарищам. Путаницы становилось больше, чем: прежде.
Узнал, к примеру, что по всей России на каждые сто двадцать душ насчитывалось по кабаку или винной лавке, а доходы от винной монополии – почти две трети всех государственных доходов. Даже в реакционной газетенке «Гражданин», которую выпускал князь В. П. Мещерский, придворный камергер, прочитал: «Невозможно всегда и вечно строить бюджет страны на основе этой жертвы нравственностью и здоровьем… всего… населения… России. И разве не должен быть неизбежным последствием этого физический упадок нации, прогрессивный паралич, разжижение мозгов, идиотизм и, наконец, полная гибель?» И правда – спаивают парод. Слыхали, будто какой-то сановник сказал открыто: «Спаивали и будем спаивать!»
«Кабаков, трактиров много, чаем голову хоть мой!» – распевали возле заводов, будто хвастались. Василий сказал как-го: «Неправильная частушка, надо переменить – водкой голову хоть мой!» И думал: да где же конец подобному, неужто и впрямь будет Россия пьянствовать до скончания веку? Сам он прикладывался редко, за компанию только.
Он вглядывался в товарищей. Попадались и такие: накляузничает, к примеру, на сменщика или соседа по станку, глядишь, и получил от мастера повыгодней работенку. Но вскоре другой этого доносчика продаст, и тот покается: лучше бы не фискалить, больно уж дорогой ценой достается временное благополучие.
Забрел как-то в непотайный кружок. Думал, там услышит некую, им не осознанную истину. Нет, и там не пахло истиной, только благодушные разговоры. Интеллигент, объявившийся народником, проповедь читал, а под конец встал рабочий, говорит: «Вот слушаем вас, и думается, что вы как будто хотите нас рассердить, на что-то поднять, а на что – нам как раз и неведомо, а мы хотим узнать, откуда что берется, против чего выступать. Может, мы тогда и сами рассердимся, а науськивать нас попусту – ни к чему». И с этим согласился Шелгунов, потому что не видел выхода, блуждал в потемках и не понимал, к чему бы приложить силу, а силенок у него хватало, кажется.
5
Человек этот был необычен и внешним обликом, и одеждой, и манерою поведения. Волосы длинные по плечам лежат, как у студента (правда, вскоре укоротил и прическу, и бороду, и усы), волосы красивые, цвета воронова крыла. Обряжался наподобие рабочего – пиджак, косоворотка, но обут в опорки, даже вроде на босу ногу, подобного ни одни себя уважающий мастеровой не допускал. Обыкновенно заводской рабочий ступает медленно и в то же время сноровисто, легко, а этот двигался натужно, как бы через силу. Имел такую привычку: скрещивал руки на груди, глядел в упор на собеседника, от чего делалось неуютно. Часто впадал в хмурость, делался замкнут, сердился, мог уйти, хлопнув дверью, не объяснив, за что разобиделся, а после не показываться неделями.
Любопытный человек. Трудный. Не подступишься, не угадаешь, с какого боку подойти. Чем привлекал – так это пением. Голос глубокий, сильный, поставленный, и любимая ария – Мефистофеля, про то, как люди гибнут за металл. Вот из-за этой арии да еще из-за привычки скрещивать на груди руки, сверкать глазами, за лохматые волосы и диковатость норова его прозвали Мефистофелем, он и не думал обижаться, напротив, кажется, ему льстило.
Он был очень странный человек, Павел Варфоломеевич Точисский, и биография у него диковинная оказалась.
Как-то под веселое настроение, что с ним случалось редко, за стойкою «смирновки» в извозчицком трактире Точисский сделался откровенен и рассказал Василию о себе. Любопытная история, Шелгунов слушал и диву давался. По возрасту, выяснилось, всего тремя годами старше, родился в мае 1864-го, но успел, сумел найти себя. Отец из польских дворян, мать парижанка, там получила образование. Словом, аристократ. Но его отец пошел по тому пути, который редко выбирали российские аристократы: служил по тюремному ведомству и там преуспел, стал полковником, начальником екатеринбургской тюрьмы.
С малых лет Павел нагляделся на порядки в этом заведении (семья начальника тюрьмы жила в том же казенном помещении). Арестанты в лохмотьях, нижнее белье не всегда прикрывало наготу. В общие камеры, случалось, набивали битком и мужчин, и женщин, и детей, а одиночки – в два квадратных аршина. Окна – просто узкие щели. Во многих камерах не ставили вторых, для тепла, рам и не было печек, а иные отапливались переносными железными очагами, от них случался почти смертельный угар. Около ретирад, в коридоре, пол покрыт мерзлыми нечистотами. Полы прогнили, потолки вот-вот обвалятся. В баню заключенных не водили месяцами. Многие болели цингой. Горячую воду – пожалуйста, а вот пищу горячую давали не каждый день. Тюрьму переполняли так, что часто в одной камере содержали и закоренелых преступников, и тех, кто наказание отбывал за сущие пустяки. Даже правительственная комиссия вынужденно отмечала, что российские тюрьмы представляли собой школы и рассадники преступности, в которых «хорошему человеку достаточно пробыть три дня, чтобы окончательно испортиться».
Павел много читал, и не только беллетристику, а и литературу социалистическую – Добролюбова, Флеровского, Лассаля, Оуэна, много размышлял, благо жизнь протекала в одиночестве: местная интеллигенция сторонилась начальника тюрьмы, тем более что поговаривали, будто господин полковник подкармливается за счет изголодавшихся и полуголых арестантов. Павел в конце концов не стерпел, решительно порвал с отцом, отказался от всякой помощи, хотя мать сулила тайком посылать деньги, бросил ученье в гимназии, поступил рабочим в железнодорожные мастерские. Было это в 1883 году. А через год перебрался в Петербург, стал заниматься в ремесленном училище Технического общества и работал в Александровском заводе, после – у Берда… Тут он и познакомился с передовыми рабочими Невской заставы, Васильевского острова, Выборгской стороны. И вскоре, в 1885-м, создал группу, называлась она длинно и мудрено: «Общество содействия поднятию морального, интеллектуального и материального положения рабочего класса в России».
Длинно и мудрено, так и сказал Шелгунов, когда Павел Варфоломеевич предложил ему вступить в группу. «Оно, пожалуй, и так, – ответил Точисский, – но зато в самом названии как бы заключена и программа кружка, сразу понятно, чем занимается». – «Это вам понятно, – возразил Шелгунов, – а нашему брату нет, вот, к примеру, что значит интеллектуальный?» – «Ну, это – духовный значит, – объяснил Точисский, сразу поправился. – Духовный – не в том смысле, что божественный, а умственный, разумный». – «Мудрено, мудрено», – стоял на своем Василий. «А вы приходите на занятия, Василий Андреевич, приходите, послушайте. Только имейте в виду: группа наша конспиративная, отбираем самых надежных, но ведь за вас поручился Егор Афанасьевич…» Это Шелгунову польстило, и ума-разума понабраться он весьма хотел.
Много странного, причудливого было во внешности, в поведении, в поступках Точисского, и столь же странным показался Василию его кружок. Из «Общества содействия…» его вскоре переименовали в «Товарищество санкт-петербургских мастеровых», было это в конце 1888 года, но рабочих, считая Шелгунова, в «Товариществе» оказалось всего пятеро – Климанов, Буянов, Тимофеев, Васильев. Остальные же – их тоже было немного – интеллигенты. Почему тогда называется «Товариществом мастеровых»? – рассуждал Шелгунов. Но того удивительнее было другое: Точисский, сам дворянин, образованный человек, к интеллигенции относился почти враждебно.
Пожалуй, что на первом собрании, где был Василий, случился крупный разговор. Точисский, по обыкновению своему возбужденный, широко расхаживал по комнатам, выкрикивал сидевшим напротив троим братьям-студентам Брейтфусам: «Запомните, крепко запомните, господа, что единственный революционный класс – это промышленный пролетариат, в него надо бросить все революционные силы страны, в нем надо создавать революционный опыт, но пока российский рабочий класс еще находится на низкой ступепи политического развития, пока у него не пробудилось классовое сознание, приходится пользоваться услугами интеллигентов, а интеллигенция только случайный гость в революции, ее можно терпеть, да, именно терпеть, не более, и до тех только пор, пока рабочий класс не выработает собственную интеллигенцию, подлинно революционную…» Брейтфусы в ответ слитно кричали, Точисский не слушал, как не стал слушать и женщин-бестужевок, их в кружке было четверо. Он гнул свое: «Вы с нами до первого поворота, до первой конституции, которой добиваетесь от правительства, ну и добьетесь, быть может, а там наши пути разойдутся окончательно».
Шелгунов ничего не понимал. После собрания задержался, пошел проводить Точисского, тот еще не остыл, бормотал что-то про себя, широко размахивая руками. Василий улучил момент, сказал: «Как же так, Павел Варфоломеевич, вы-то, извините, конечно, белая кость, а на своих же кидаетесь». Точисский моментально вспылил, оборвал: «Белая или не белая, а со своей средой порвал окончательно, я не интеллигент, а рабочий, как и ты, Василий».
Водилась за ним еще и такая вот черта: все рабочие из «Товарищества» называли Точисского по имени-отчеству, а он каждому говорил ты: подлаживался под своего или свысока относился, этого Василий разгадать не мог, но всякий раз неприятно было слышать такое обращение, однако терпел, понимал, что не в том суть.
«А я, – горячился Точисский, – постоянно им слова Христа напоминаю: „Прежде чем петух пропоет три раза, вы трижды отречетесь от меня“. Запомни мои слова».
Запомнить Шелгунову было нетрудно, и сам он к интеллигентам доверия не питал, но, с другой стороны, прикидывал: как же так, чего ради уходят из обеспеченной жизни, ради чего отправляются в тюрьмы и на плаху даже, какая в том корысть? И, продолжая гнуть свое, опять сказал: «Павел Варфоломеевич, а как же народовольцы, они ведь почти все из интеллигенции, а жизней своих не жалели…»
«Ха-ха, – не засмеялся, а проговорил Точисский. – Народовольцы! Заступники страждущих! Цареубийцы! Да их террор – чистой воды рисовка, они личной славы больше всего добивались, понятно тебе? Да если бы им и удалось захватить власть – кому бы она досталась? Той же буржуазии. Народ у нас темен, власть в свои руки взять не может. И добейся народовольцы своего – власть от одних врагов парода перешла бы к другим врагам. И террор, и все потуги революционной интеллигенции – эго попытки с негодными средствами».
«Не пойму вас, – решительно сказал Шелгунов. – Не пойму, Павел Варфоломеевич, хоть убейте. Ладно, вы себя за интеллигента считать не желаете, дело ваше, перекрашивайте, извиняюсь, порося в карася, но ведь „Товарищество“ ваше, хоть и числится рабочим, а на самом деле – большинство в нем интеллигенты – и Брейтфусы, и женщины все – Лазарева, Данилова, Аркадакская, и сестра ваша, между прочим, – как это понимать?» – «А понимать надо так, – сказал Точисский, успокаиваясь, – мы отсекаем, отсеиваем от интеллигенции подлинно революционное ядро, привлекаем, ее к работе en gros». – «Что, что вы сказали?» – переспросил Шелгунов. «Фу ты, черт, – Точисский засмеялся. – Это по-французски, значит – в общих чертах». – «Вот видите, – сказал Шелгунов, – по-французски заговорили, крепко сидит у вас в натуре интеллигентская закваска, не случится ли так, что и трижды петух не пропоет, как и вы отречетесь?»
«Знаешь что, – сказал Точисский, – поди-ка ты с такими разговорами…» – «А это уж вовсе нехорошо, – сказал Василий, – с французского переходить на нижегородский. Этак и я умею, по-нижегородски, случается, меж своими запустить могу, но я на равных со своими, а ты, Павел, свысока, по-барски меня обложил. И, к слову сказать, мы тебя, Павел Варфоломеевич, вежливо всегда величаем, а ты нам – только что не Васька или Ванька». – «Извини, Василий Андреич, извини, друг, – сказал Точисский, – тут прав ты полностью, давай на ты».
Разговор этот не выходил у Шелгунова из головы, и первый, с кем он поделился, был Андрей Брейтфус, из троих братьев ему наиболее симпатичный, открытый, скромный белокурый паренек. Тот выслушал молча и заговорил первым делом о народовольцах.
«Я после казни первомартовцев до сих пор не могу в себя прийти, – признался он, – потрясен до галлюцинаций, прямо наяву я эту казнь снова и снова вижу». – «И я, – сказал Шелгунов, – и я, Андрей, тоже». – «Но все-таки эта казнь дала мне и великое счастье пробуждения, натолкнула на революционный путь, научила глубоко ненавидеть. Она революционером меня сделала. И Павел конечно же не нрав, когда единым духом отвергает всю интеллигенцию. Да он и не думает, я полагаю, так, а просто характер у него, сами знаете…»
Беседа пообстоятельней была а с кружковцем Тимофеевым.
Иван Иванович работал слесарем на Балтийском заводе. Обликом напоминал больше студента, нежели мастерового: зимой носил барашковую шапку, летом не картуз, а фуражку, на шею повязывал вязаный шарф. И всегда – под мышкой книги. Чуть не весь заработок – а жалованье получал приличное – тратил на них, много времени проводил на Александровском толчке, у книжных развалов. Гордился, что библиотеку собрал – около тысячи томов, и у образованных такая встречалась не часто.
«Мужик он своеобычный, это верно, – сказал Тимофеев про Точисского. – Но только, Вася, надо отделять зерна от плевел, как говорится. Главная-то мысль у Варфоломеича правильная: основная революционная сила – это пролетариат. И прав он в том, что интеллигенция должна помочь нам обрести знания, выработать свою, рабочую интеллигенцию. И сам он – агитатор превосходный, убеждать умеет, разъясняет очень толково. Ну, а загибы – кто из нас безгрешен. Между прочим, ты обратил внимание, что в „Товариществе“ все на равных правах – и рабочие, и студенты, и курсистки, – никого на деле Точисский не ущемляет. А покрасоваться любит, вот и заносит его. Народовольцев осуждает за рисовку, а сам в Мефистофеля играет. Однако я думаю, что касательно террора он прав: пальбой в государя толку не добьешься, не тот способ».
Шелгунов призадумался. А ведь и в самом деле Павел старается самую значительную часть работы в «Товариществе» передать рабочим, постоянно твердит: наша задача – готовить пролетарских руководителей революционного движения. И движение это направить в сторону политической борьбы, а не за пятачок…
Слушал Василий своего товарища, Тимофеева, внимательно и с ним соглашался, и в то же время его одолевали новые и новые сомнения. Интеллигенции Точисский полностью не доверяет – пускай так, с этим Шелгунов был согласен. Хочет воспитать рабочих-интеллигентов, рабочих-руководителей? Распрекрасно. Только почему он так осмотрителен и осторожен с рабочими, почему привлекает их к делу только после многократных проверок? Конспирация, конечно, важная штука, но всему есть мера. Павел не согласен с террором? Пускай тоже правильно. Однако зачем кидать черную тень и на рабочих, которые входили прежде в народнические кружки? Помнится, он прямо заявлял, что считает этих товарищей испорченными революционным авантюризмом. Сколько его пришлось уговаривать, чтобы приняли в группу Василия Буянова и Нила Васильева… Л Нил-то человек пожилой, ему за полсотни, еще в кружке чайковцев, пятнадцать лет назад, состоял и только чудом от ареста уберегся. Человек рассудительный, верный, а Точисский уперся, ни в какую. Еле уговорили. Но при каждом промахе Васильева, по каждой малости, при любой обмолвке Точисский не мог удержаться, чтобы не попрекнуть Нила: дескать, интеллигентами распропагандирован. А когда Василий Буянов пытался ввести в «Товарищество» членов своего кружка – и в самом деле, был кружок народовольческого толка, – Павел Варфоломеевич отказался наотрел, не смогли переубедить, поставил ребром: или они, или я…
Ох, трудно с ним было. Василий приглядывался к Точисскому с все большим и большим удивлением: какую штуку еще отколет? А он и в самом деле откалывал. На одном из собраний без всякого видимого повода вдруг предложил исключить из «Товарищества» всех без разбору интеллигентов. Тут Шелгунов впервые открыто схлестнулся с Павлом Варфоломеевичем.
Столкновение это рано или поздно произойти должно было, и не только потому, что Василия, как, впрочем, и многих других, раздражали странности характера и поведения Точисского, его неожиданные, непредсказуемые взбрыки, но и по другой, более глубокой и существенной причине.
6
В рабочей «пятерке» подпольной группы Василий был почти всех моложе и уступал большинству товарищей опытом и начитанностью. Понимал это, не ввязывался в открытые споры, не высказывал суждений, опасаясь показаться несмышленышем, а старательно слушал, запоминал, читал, думал, сопоставлял одни речи с другими. Он был в ту пору молчалив, замкнут, малообщителен, хотя природа наделила его нравом открытым и простодушным. Он подавлял нехитрые и понятные в его возрасте соблазны воскресным днем пройтись под гармошку по улице, заглянуть в портерную, закрутить любовь с такой же, как и сам, фабричной девахой, забить лапту, перекинуться в картишки. Все эти соблазны стояли перед ним, он искушения преодолевал, как и насмешки парней-ровесников, подковырки отца и Семена, недоумение старших сестер и братьев и малодушное намерение отринуть непонятные книги, перестать морочить себе голову, жить, как все. Поначалу это доставалось непросто. Бывали срывы, но после туманного, в одури, воскресенья, после торопливой и безлюбой любви, после карточного, пускай и в целковый всего, проигрыша он просыпался утром тягостно, хмуро, не от похмельного томления и раскаяния, а от душевной пустоты, сознания ненужности всего этого и ненужности себя, такого… Гулянки делались реже, утихало буйство плоти, смиряемое и работой, и чтением, и неосознанной брезгливостью, притуплялась и обида на поддразнивания. И еще росло в нем самолюбивое, по-молодому иестыдливое ощущение собственной непохожести на большинство тех, кто жил рядом, росла та гордыня, какую обыкновенно стараются не показывать, однако внутри себя лелеют, и, быть может, из такой гордыни не столь уж редко и случается прок.
Споткнувшись на «Капитале», он крепко рассердился на себя, приуныл, но браться за труд Маркса заново не стал, понимая, что все равно пока не одолеть, но брошюра Дикштейна не только разъяснила неясное, а и внушила уверенность в своих силах, в том, что может, может он, Васька Шелгунов, одолевать книжную премудрость. И правда, без особой натуги, в одиночку он приступом взял «Манифест Коммунистической партии», после же – «Речь Петра Алексеева на суде», брошюра показалась ему совсем легким и понятным чтением. Он выписал в тетрадку, заучил:
«Подымется мускулистая рука миллионов рабочего люда, и ярмо деспотизма, огражденное солдатскими штыками, разлетится в прах!»
Но было в речи Алексеева и другое, что заставило Василия крепко задуматься. Там говорилось: «Она одна, не опуская рук, ведет нас, раскрывая все отрасли для выхода всех наших собратьев из этой лукаво построенной ловушки до тех пор, пока не сделает нас самостоятельными проводниками к общему благу народа».
Сказано было об интеллигенции, той самой, что и притягивала к себе, и отталкивала Шелгунова и многих, подобных ему. А тут говорил рабочий Алексеев, удивительный человек, о котором вот уже почти десять лет помнила передовая Россия…
С этой листовки, с речи Петра Алексеева, пожалуй, и начался по-настоящему революционер Василий Шелгунов, и начало это оказалось связанным с двумя происшествиями – Василий запомнил их на всю жизнь, стыдясь первого из них и гордясь вторым.
Читал и думал он много и наконец решил, что не для того же обретает человек знания, дабы легли они мертвым грузом, не ради самоутверждения и самосовершенствования, но для практической цели… И ни с кем не посоветовавшись, не прикинув толком, с чего же начинать, как усвоенное чужое слово сделать своим, как от слова перейти к делу, Василий, будто мальчишкой по весне в ледяную Чероху, кинулся головой вперед.
И расшибся. Да еще как! Помнил всю жизнь и лишь впоследствии рассказал самым близким товарищам – Ивану Бабушкину и Константину Норинскому.
В заводе на перекуре, улучив момент, заговорил в сторонке с рабочим, примеченным давно: собою не старый, однако и не юнец, и грамотен, видно – частенько газета из кармана торчит, правда, неизвестно, какая газета, но все-таки… Перекур заканчивался, Шелгунов не стал тратить время на подходы и прямо – а чего бояться, не выдаст, свой же человек! – заговорил про Алексеева, про мускулистую руку, про то, что царя давно бы скинуть надо. Мастеровой слушал внимательно, даже вроде поддакивал, был он собою невысок и, кажется, не силен, и глаза внимательные, злобы в них Василий не увидел. Мастеровой слушал, кивал утвердительно, а после, не разворачиваясь, коротким, обретенным в кулачных воскресных боях тычком дал в рожу так, что Шелгунов качнулся.








