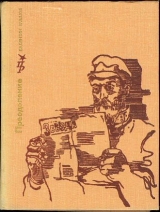
Текст книги "Преодоление. Повесть о Василии Шелгунове"
Автор книги: Валентин Ерашов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 23 страниц)
И если тот, парадный и блистательный, как бы застыл в своем почти непостижимом величии, если проспекты его, площади, дворцы и особняки, то плотно притертые друг к другу, то вольно раскинутые среди зелени, почти не менялись в неподвижности, то второй, неприглядный, краснокирпичпыи и деревянный, в девяностые годы начал расти с поразительной быстротой.
Экономический кризис восьмидесятых миновал. Наступило время небывало стремительного взлета столицы. В центральных кварталах, расталкивая плечами барские особняки, на глазах изумленных горожан возникали деловые здания промышленных фирм, банков, контор, возводились первые доходные дома только что зародившегося стиля модерн.
С 1866 по 1894 год число заводов и фабрик увеличилось в два с половиной раза, теперь здесь было 23 крупнейших предприятия, на каждом из них трудилось свыше тысячи человек. Складывался промышленный пролетариат, формировались постоянные рабочие кадры, они отличались высокой квалификацией, повышалась производительность труда.
«Среди рабочих… – писал В. И. Ленин, – выделяются настоящие герои, которые – несмотря на безобразную обстановку своей жизни, несмотря на отупляющую каторжную работу на фабрике, – находят в себе столько характера и силы воли, чтобы учиться, учиться и учиться и вырабатывать из себя сознательных социал-демократов, „рабочую интеллигенцию“… За численно небольшим слоем передовиков идет широкий слой средних рабочих».
Вместе с численным ростом пролетариата, ростом его сознательности множилось, углублялось и недовольство. Взрыв мог произойти в любом рабочем районе столицы, по всякому поводу…
4
Спускался тяжелый, мрачный питерский вечер. Был сочельник, канун рождества. В поселках на Шлиссельбургском пахло вкусной едой. На прибереженные полтинники, рубли, червонцы закупали провизию. Всенепременно полагалось к рождественскому столу подать гуся, начиненного либо кашей, либо яблоками, полагалось наварить холодца, напечь пирогов с капустой, с луком и яйцами, с грибами, с мясом, а кое-кто исхитрялся даже с вязигою, совсем как у господ. Полагалось, конечно, выставить водки столько, что ею можно бы свалить и слона. Праздник! Рождество Христово! Невская застава готовилась гулять.
Готовились, понятно, и те, кто работал на предприятии с длинным названием «Невский литейный и механический завод Семянникова и Полетики», а проще – Семянниковском. Завод этот строил военные корабли и паровозы, выпускал снаряды и чугунное литье, работало здесь до трех тысяч человек, и за пятнадцать последних лет семянниковцы не раз огорчали власти своим непокорным поведением, забастовки тут были отнюдь не редкостью. Тут Виктор Обнорский и Степан Халтурин зачинали «Северный союз русских рабочих», тут существовала затем ячейка «Народной воли». Тут стоял у станка Тимофей Михайлов, впоследствии повешенный вместе с Желябовым и Перовской… Сейчас на заводе работал Иван Бабушкин…
…Иван прибежал к Шелгунову без шапки, нараспах. «Давай поскорей, по дороге расскажу…» Сбивчиво рассказывал: «Выдали вчера книжки расчетные, отпустили по домам, велели за деньгами являться с утра… Сегодня ждали час, другой, третий, а кассу не открывают. Разговоры знаешь какие – кому провизию купить не на что, кто в деревню собирался погостить… Словом, кто про что, всяк про свое. А тут вдруг слух, что денег вовсе не дадут ни сегодня, ни завтра, дескать, после праздника только… Ну, и… В общем, давай пошибче, Вася, никак быть шуму…»
Заводской двор – яблоку негде упасть. Втиснулись кое-как. Бабушкина узнавали, уступали путь. Прислушались: ясное дело, ругают уже не конторщиков, а хозяев, словечки одно другого забористей. Кое-кто из кучи угля выбирал покрупнее куски. Шелгунов с Бабушкиным поторопились туда, стали уговаривать, их покуда что слушались, но куски прятали по карманам, за пазуху. «Листовочку бы», – шепнул Бабушкин. «Впору бы, да где взять», – отвечал Василий. Толпа медленно колыхалась, перемещалась, на дворе темнело, и слышалось, как за воротами собираются еще и еще люди. А толпа передвинулась явно в определенном направлении, к одноэтажному длинному дому, где жил ненавистный всем управляющий… «Ох, начнется, Вася, – шепнул Бабушкин, – не удержать».
Началось не здесь, а за воротами. Послышался звон стекла, деревянный треск – громили пропускную будку. В заводские ворота полетели камни, палки – метили по фонарям, в распластанного поверху гербового орла. Фонари гасли один за другим, ворота выломали, толпа загустела и теперь уже не медленно, а столь стремительно, сколь было возможно, кинулась к дому управляющего… «Керосину! Керосину давай!», «А где взять?», «И так схватится!», «А вон фонари еще целехонькие, в них керосину полно!», «Лезь на столбы!», «Постойте, ребята, этак не гожо!», «Все гожо, над нами издеваться – гожо?»
У крыльца сыпали стружки, поливали керосином. «Стой, ребята!» – просил Шелгунов. «Уйди, борода!» – отвечали ему. Василий встал у кучи стружек, вонявших керосином, кричал: «Не позволю!» Рядом громили заводскую лавку, Шелгунов знал, как она всем опостылела, везде одинаково: вместо мяса дают кости, не хочешь брать – ага, супротивничаешь, известим контору, получай расчет… Двери лавки вышибли, кидали оттуда банки варенья, они хлопались на голый, вытоптанный булыжник, разлетались, обагряя грязный снег…
«Р-р-раз-зойдись! Марш по местам! Смирно стоять!»
Теперь толпа застыла молча, и напротив – ряд, плотный, как стена, ретивые кони ноздря в ноздрю, казаки с обнаженными шашками, впереди офицер, кажется, подполковник, или, вспомнил Шелгунов, у казаков называется войсковой старшина. Шашку он держал «подвысь», вот-вот опустит, дав тем самым знак, и вся эта орда ринется топтать копытами, сечь нагайками, рубить шашками…
Но придумали другое.
В разверстые ворота влетели – дым из ноздрей, искры из-под копыт, звери зверьми, рыжие, осатанелые, – жеребцы, парами запряженые в пожарные трубы, мигом соскочили, сверкая касками, пожарные солдаты, начали разматывать поливные рукава, устанавливать помпы. Выставился вперед полицейский генерал, приставил рупором ладони, загудел: «Пра-ашу миром разойтись, пра-ашу, не то станем водой обливать». А мороз – градусов двадцать. И толпа молчала, не веря в такое зверство, и боясь его, и испытывая облегчение: вода не шашка, – но тут ударили всеми струями, сколько их было, вода сшибала с ног, моментально замерзала, одежка превращалась в ледяную, кинулись кто куда, падающих топтали… С Рождеством Христовым вас, трудящиеся-семянниковцы!
«…Пожалуй, Ивану Васильевичу лучше, он обстановку на заводе знает в подробностях». – «Что ж, Василий Андреевич, в словах ваших есть резон, однако сперва давайте сообща восстановим общую картину забастовки, а точнее сказать, волнения… Не понимаю, кстати, почему, когда события назревали, никто не известий Центральную группу, ведь с утра было ясно, что обстановка накаляется, и можно было попытаться эти волнений превратить в стачку, притом политическую». – «Да, Владимир Ильич, – согласился Шелгунов, – тут мы дали маху». – «Хорошо, упущенного не вернешь, итак, давайте сперва обрисуем общую картину. А листовку мы напишем совместно с Иваном Васильевичем, попросим Гуцула (он привычно обозначил этим прозвищем Петра Запорожца), – может, удастся оттиснуть на гектографе… Вы не против сейчас же поехать к нему, Василий Андреевич?»
Ехать Шелгунову не хотелось, жаждал тоже вместе с Ульяновым составлять листовку, но что поделаешь, надо, – значит, надо… Готового гектографа у Запорожца не оказалось, но, пока Василий ездил, на всякий случай Ульянов и Бабушкин успели переписать в четырех экземплярах. Наутро Шелгунов и Бабушкин рассовали листовки по заводу, в ретирадах, две сразу же подобрала стража, но две, сами видели, пошли по рукам. Первая листовка!
5
Август, а затем начало сентября 1895 года запомнились Шелгунову изрядными событиями, которые прямо коснулись его.
В Лондоне, совсем немного не дожив до семидесяти пяти лет, умер Фридрих Энгельс. Питерские рабочие решили собраться на траурную массовку. В кружке постановили: речь будет держать Василий Андреевич.
«Манифест Коммунистической партии» он читал и прежде и хранил у себя, вынул из тайника, выписал на листок несколько выдержек. Составил, как учил Владимир Ильич, план речи. Волновался крепко: впервые доводилось выступать главным оратором.
Сошлись на том берегу Невы, напротив Ямской слободы, в лесу позади монастыря Кеновей. Место захолустное, полиции неподглядное. Открывая массовку, Бабушкин вдруг представил Шелгунова так: голова рабочего движения. Вообще-то Василий на похвалу был падок, но тут показалось уж чересчур. После, наедине, Ивана отругал, тот посмеивался, говорил: «А что ж ты на сходке промолчал, надо бы сразу меня поправить, вижу, вижу, что радехонек». Едва не поссорились. Но Иван почуял грозу, похвалил без подначки: «Правда, Вася, я там не шутил. И речь ты сказал хорошую, жалко, народу маловато. Но это начало ведь…»
Вскоре Шелгунову досталось от центрального кружка еще одно ответственное поручение: наладить новую конспиративную квартиру для занятий. Ждали Ульянова, он весной уехал за границу. Надеялись, что после его возвращения оживится вся работа, в ней как бы наступили временные, летние вакации. Подходящая, как всем показалось, квартира нашлась в Прогонном переулке, 16, занимал ее семянниковец Семен Афанасьев. Недалеко от железнодорожной станции Обуховской, удобно добираться с Николаевского вокзала, и улица небойкая, и народ кругом свой, рабочий. Комнату сняли на имя Никиты Меркулова, он туда и переселился. Образовался как бы рабочий клуб или штаб, как для важности окрестил Шелгунов, он приходил сюда не реже двух раз в неделю. Почти всякий вечер забегал Бабушкин. Собирали сведения о положении дел на заводах и фабриках, готовились к осенним занятиям. Наведывались Глеб Кржижановский, Василий Старков, Константин Тахтарев, иногда читали короткие лекции, но это – вроде репетиций. Дожидались Ульянова – чего-то привезет из-за границы? Может, успел и Энгельса повидать? Тот, слыхали, болел недолго, почти до последних дней находился в добром здравии.
Пока суд да дело, неугомонный Кржижановский предложил, чтобы временно руководителем кружка стал студент-медик Николай Георгиевич Малишевский, привел познакомиться. Бабушкину и Шелгунову не понравился: человек, видно, деликатный, учтивый, но сразу поняли, что далек от рабочей жизни, от самих рабочих. То сыпал иностранными словами, то вдруг впадал в нарочитую простоватость, как бы азбуку втолковывал. «Мы, – сказал Шелгунов Глебу напрямую, – уже сами ходим с Марксом под мышкой…» Кржижановский спорить не стал, новый лектор больше в кружке не появлялся.
Зато активного товарища приобрели в лице хозяина квартиры, Семена Афанасьева. Правда, суматошен малость – Шелгунов не любил в мужиках суетливости, – но зато проворен, быстр на ногу, всегда готов на подъем – собрать, разузнать, раздобыть, чего надо. И любознателен – все на лету схватывает. И молчалив при этом. И не пьет вовсе.
1895 год. Организованы социал-демократические кружки в Борисоглебске и Козлове (Тамбовская губерния), Костроме, Красноярске, Ростове-на-Дону, Уфе, Шуе (Владимирская губерния), Ярославле, в Юрьевском университете (город Юрьев, он же Дерпт, Лифляндской губернии).
Полицией захвачены подпольные типографии, арестованы социал-демократы в Москве и Варшаве.
В столичный цензурный комитет доставлена отпечатанная без предварительного разрешения в типографии П. П. Сойкина книга «Материалы к характеристике нашего хозяйственного развития». Основу ее состарила работа «Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве (Отражение марксизма в буржуазной литературе)», подписанная – К. Тулин. Это была первая легально изданная печатная работа Владимира Ильича. В докладе цензора говорилось, что статья К. Тулина представляет наиболее откровенную и полную программу марксистов. Книга была уничтожена. Однако сотню (из двух тысяч) экземпляров удалось похитить из типографии, нелегально доставить в Варшаву, Казань, Томск, Архангельск и другие города.
Бастовали – с экономическими требованиями – рабочие Никольской и Резвоостровской мануфактур в Петербурге.
«Результатом… деятельности социал-демократов были… волнения на петербургских фабриках и заводах и распропагандирование многих рабочих, среди которых социал-демократы нашли себе деятельных сотрудников. В этом отношении, по данным наблюдения, в особенности гыделялись рабочие: Василий Шелгунов, Иван Яковлев (из-за Невской заставы), Василий Антушовский, Борис Зиновьев и Петр Карамышев (из-за Нарвской заставы) и Петр Кейзер (из Колпино)… 3 сентября была устроена общая сходка под видом прогулки вверх по Неве на пароходе „Тулон“, в которой деятельное участие принимал… чиновник… Пантелеймон Лепешинский. Устроитель… кружка Шелгунов… выступал в роли руководителя рабочих при противоправительственной пропаганде и участвовал на сходке на пароходе „Тулон“». – Из «Доклада по делу о возникших в С.-Петербурге в 1894 и 1895 годах преступных кружках лиц, именующих себя социал-демократами».
Глава седьмая
У полиции на примете он был с казанских еще времен, чуть не за каждым шагом следили, потому разрешения на выезд в Европу могли не дать, но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Тяжело захворал – воспаление легких, – и оказался официальный повод совершить путешествие за границу: отдохнуть и поправить здоровье. Со скрипом заработала полицейская машина, писали бумаги снизу вверх и сверху вниз, но паспорт выдали. Владимир Ильич был счастлив: давно мечтал познакомиться с Плехановым, считая его самым выдающимся российским марксистом, мечтал завязать деловые отношения с группой «Освобождение труда», полагал, что именно там, за рубежом, наладится печатание марксистской литературы… Перед отъездом на совещании у Сильвина решено было сделать наследницей Надежду Крупскую, как наиболее чистую перед полицией. Собирались у Михаила Александровича под видом празднования пасхи, говорили паки и паки о конспирации, о разграничении функций между членами группы, о связях, о явках, об отдельных даже вроде и мелочах: как писать молоком между строк, допустим.
Отправился в путь он 25 апреля, его провожали донесения петербургского градоначальника и циркуляры департамента полиции, провожали до границы и за ее пределы, но все обошлось благополучно. Первого мая рубеж России он миновал, на два часа задержался в австрийском городе Зальцбурге. Впервые он оказался на чужой земле, оглядывал ее жадно, вдыхал воздух, казавшийся непохожим на свой, родной, привычный, вслушивался в речь, понятную и при том чуждую, непривычную, с другими, не теми, выученными интонациями. Прибыл в Лозанну, далее побывал в Женеве, Цюрихе, Париже, Берлине… Познакомился с Георгием Валентиновичем Плехановым, тот вскоре сообщал в частном письме: «Приехал сюда молодой товарищ, очень умный, образованный и даром слова одаренный. Какое счастье, что в нашем революционном движении имеются такие молодые люди!..»
Себя Плеханов ощущал, видимо, старым: ему шел сороковой год… Встречался с членом группы «Освобождение труда» Павлом Борисовичем Аксельродом, с зятем Маркса Полем Лафаргом, с Вильгельмом Либкнехтом… Беседовал с русскими социал-демократами А. М. Воденом и А. Н. Потресовым, договорился о постоянных контактах с плехановской группой, загрузил нелегальной литературой чемодан с двойным дном… На обратном пути завернул в Вильно, затем Москву и Орехово-Зуево. О возвращении его на родину отрапортовало Вержболовское пограничное отделение полиции: «По самому тщательному досмотру его багажа ничего предосудительного не обнаружено». Господа полицейские обмишурились: в чемодане предосудительное было.
1
Под вечер тридцатого сентября – только Шелгунов пришел с завода, еле успел помыться и поесть, собирался к Меркулову – объявился Анатолий Ванеев, с одышкой, лицо в нехороших пятнах (не знали еще, что у него начинается чахотка). Сбросил студенческую шинель на табурет, принялся выкладывать новости.
Вчера приехал Ульянов и чуть не прямо с вокзала – к Ванееву, там сидел уже технолог Яков Пономарев. Владимир Ильич долго расспрашивал, что было тут за пять месяцев, прежде всего интересовался рабочими кружками. Сказал, что на квартиру в Казачий ехать не решился, в поезде обыскивали, там обошлось, но рисковать не стоит, надо менять обитель. Пономарев предложил комнату своих знакомых, угол Садовой и Таирова переулка, тут же наняли извозчика, перевезли вещички. А сегодня с утра Ульянов с Пономаревым ходили по рабочим Жилищам, были в доме 139 по Невскому, и Владимир Ильич просил передать, чго со дня на день должен быть у вас, доложит о поездке, так что надо готовиться, предупредить товарищей…
…Глядя на Владимира Ильича, пока тот здоровался с остальными, обменивался первыми фразами, Шелгунов примечал, как изменился за эти месяцы Ульянов. В нем окончательно, кажется, окрепла твердая, глубокая уверенность в себе. Если прежде Василий примечал, будто волжанин держится среди рабочих с некоторой приглядкой, как бы нащупывая линию поведения, примериваясь, иногда помалкивая больше, чем говоря, – теперь было совершенно ясно: этот человек полностью оформился, ему чужды колебания и сомнения, силой и волей веяло от каждого слова, жеста, от всей фигуры.
Был Владимир Ильич в превосходном настроении, речь начал шутливо. Рассказал, что при встрече с Полем Лафаргом объяснил ему, как после популярных лекций наши рабочие принимаются штудировать Маркса. Собеседник очень удивился: «Русские рабочие – Маркса? И понимают?» – «Представьте себе, да». – «Ну, знаете, – отвечал ехидный француз, – вот в этом, коллега, вы ошибаетесь, ничего не понимают они, у нас после двух десятилетий социалистического движения Маркса никто не понимает».
«А я, – продолжал Ульянов, – ему привел ваши, Василий Андреевич, слова, в том смысле, что вы ходите с Марксом под мышкой».
Посмеялись. «Кстати, – сказал Владимир Ильич, – поскольку, Василий Андреевич, вы у нас за Невской заставой вроде чрезвычайного и полномочного посла, вот и прошу известить нас о положении дел».
К сообщению о положении дел Василий приготовился после беседы с Ванеевым, знал и не только о своей заставе, загодя переговорил с товарищами, имел сведения по всем районам, картина получалась внушительная: опорные пункты агитации созданы на семидесяти фабриках и заводах города. Ульянов попросил предприятия перечислить, что-то быстро прикидывал на бумажке, и, едва Шелгунов закончил, Владимир Ильич, извинившись, его остановил. «Вот, – сказал он, – что получается, товарищи. Под нашим воздействием из перечисленных Василием Андреевичем сейчас двадцать три предприятия-гиганта с числом рабочих в тысячу и более. А вся главная сила нашего движения – в организованности рабочих именно крупных заводов, и дело тут не в одной лишь численности, а в том еще, что именно там занята самая преобладающая по влиянию, по развитию, по способности к борьбе часть рабочего класса. Это весьма и весьма отрадно, товарищи!»
А потом Владимир Ильич подробно рассказывал о поездке, о встречах с марксистами, говорил о том, что поездка за границу дала ему очень многое… Повстречался со значительными людьми. По мере сил уча здесь своих товарищей-рабочих, он и сам учился у них и, кажется, это знание среды в какой-то мере передал и Плеханову, оторванному от Родины, и в разговорах с Георгием Валентиновичем имел возможность проверить свои мысли, оценить их как бы со стороны, и это еще и еще укрепило его в убеждении: мы идем правильной дорогой!
Слушали внимательно, как и всегда, нет, с большим, разумеется, интересом – впервые видели русского человека, побывавшего за границей, в Европе! И даже зубной врач Михайлов, в общении говорливый, а па собраниях молчун, и тот вдруг взял слово и горячо поддержал Владимира Ильича. Редко выступал Михайлов, и Василий порадовался, что даже его Ульянов расшевелил.
2
Вскоре у Степана Радченко, на Выборгской стороне, по Симбирской улице, состоялся другой поворотный разговор. Миша Сильвин это собрание назвал однажды конституционным, он любил давать всякие определения.
Идя на Симбирскую улицу – Радченко туда переехал недавно, после женитьбы, – Василий знал, о чем предстоит беседа: объединение с одной из социал-демократических групп, а именно с группой Мартова. Как и остальные, Шелгунов, естественно, помнил критику Владимира Ильича виленской брошюры «Об агитации», но понимал и то, почему сейчас Ульянов настаивает на сближении с Мартовым (тот после ссылки вернулся в Петербург). Прежде всего, литературы не хватало! Доходило до того, что вместо нужных, пропагандистских, книг раздавали рабочим рассказы детской писательницы Елизаветы Водовозовой, поскольку там хоть что-то говорилось о горемычном житье-бытье, а то и книгу историка Петрушевского, прямого отношения к вопросам социализма вообще не имеющую. Силы для того, чтоб написать собственные брошюры, конечно, имелись, но все упиралось в технику. А Мартов располагал прочными связями с заграницей, оттуда получал и книги, и журналы, и газеты. Далее, Владимир Ильич считал необходимым объединять все социал-демократические группы столицы. И наконец, рассказывали Сильвин и Надежда Константиновна, при личном знакомстве Мартов понравился Владимиру Ильичу, и приглядчивый, осторожный Ульянов, говорили, теперь испытывал к недавнему оппоненту прямо-таки нежную симпатию, а Мартов, до крайности впечатлительный, моментально подхватывал мысли нового товарища, умел развивать их, притом талантливо.
Как водится у новоселов, Степан Иванович и Любовь Николаевна каждому приходящему показывали жилье – две светлые высокие комнаты, просторная кухня. И, как водится, на узорчатой скатерти накрыто к чаю. Квартиру хвалили, хозяйка цвела маковым цветом, радовалась, что выбор одобрили.
Тут Шелгунов познакомился с Мартовым. Очень подвижный, непоседливый. Удлиненное лицо, несколько необычная прическа – на лоб кинута челочка, в тонких золоченых очках, с аккуратной, квадратиком, бородкой, он и в самом деле производил благоприятное впечатление. Шелгунов подсел поближе. Мартов говорил: «За мною и Ляховским – большая группа интеллигентных сил, они вполне могли бы составить свою организацию, но при этом мы, так же как Ульянов, противники кружковой раздробленности, предпочли бы слиться с более старой и зрелой группой». Шелгунова резануло выражение: «За мной и Ляховским». Как-то не принято было у них подчеркивать собственное Я. Но, подумал Василий, у каждого свои особенности, надо мириться с ними, тем более что Мартов, похоже, всем по душе пришелся и ратует за объединение.
Разговаривали, покуривали, тут Шелгунов обратил внимание: вот какая странность – собрались только интеллигенты! Радченко, Запорожец, Старков, Ванеев, Сильвин, Якубова, Зинаида Невзорова, Пономарев, Александр Малченко, Кржижановский… Из новых – Мартов и Ляховский, еще двое, фамилий не знал, спросил у Михаила, тот шепнул: Гофман и Тренюхин, фамилии ничего не говорили… Ждали еще Ульянова, он против обыкновения запаздывал… Итак, пятнадцать интеллигентов налицо, придет еще один. А из рабочих – Шелгунов, и точка! Как понимать прикажете?
Первое побуждение было встать, хлопнуть дверьми. Василий знал за собой особенность – человек он мягкий, но, случается, во гневе как бы теряет рассудок на секунды, ничего не соображает, не помнит себя. Однажды мастер-немец стал придираться, мол, деталь вытачиваешь неправильно, Шелгунов знал, что работает по чертежу, но смолчал, мастера это подчеркнутое пренебрежительное безмолвие взбеленило пуще любого возражения, процедил: «Russisches Schwein». Уж эти слова всякий рабочий знал:
«Русская свинья!» А дальше Василий помнит вот что: белая стена, к ней прилепился мастер, лицо белее стенки, а в толстом слое штукатурки, словно молотком вбитая, застряла та самая деталь, которую вытачивал, еще бы вершок правее – и торчала бы она в голове мастера, и греметь бы Васе кандалами…
Но иной раз приближение таких припадков гнева Шелтунов чувствовал, одергивал себя. Преодолел и теперь. Пошел в прихожую, по дороге попросил хозяина квартиры выйти на два слова.
Спросил Степана в упор: «Что происходит? Почему такой состав совещания? Почему одни вы?» – «Кто это – вы?» – переспросил Радченко. «Не придуряйся, господин инженер, – сказал Василий, – отлично понимаешь, отвечай напрямую, без уверток». Тут и Степан закусил удила: «Изволь, отвечу напрямую. Я и прежде не скрывал свою позицию. Считаю, что, если ввести рабочих в руководящий центр, это может привести к провалу. Интеллигентов мы знаем лучше, сумеем надлежаще оценить и вовремя разгадать. И прошу запомнить: порядочность я считаю первейшим качеством истинного интеллигента. Порядочность и отсутствие национальных предрассудков».
Вот как заговорил. И в самом деле, напрямик, подумал Шелгунов, огрызнулся: «Выходит, провокаторы только из рабочих? По-твоему, порядочность лишь интеллигентам присуща? Лихо закручиваешь, не зря тебя господином сейчас назвал. Барство это, Степан, и чистоплюйство. Если так, я поворачиваю оглобли».
Радченко покашлял, сбавил тон: «Послушай, Василий, ссориться ни к чему. На занятия рабочего кружка вы же не зовете всех нас, а только единственного лектора. Так и здесь». – «Здесь не занятие, – возразил Шелгунов, – насколько понимаю, будет решаться вопрос принципиального характера, и представительство надо бы иметь равное. Иначе получается: вы наверху, а мы – в повиновении, опять нам второстепенная роль».
Звякнул звонок. Ульянов, возбужденный, принялся, раздеваясь, рассказывать: «Увязался, знаете ли, за мною хвост. Да так увязался, каналья, ни на шаг не отступает. Я петлял-петлял в переулках, вроде бы оторвался наконец и тут же увидел спутника в глубокой подворотне, он там затаился. Я тотчас – в подъезд того же дома. Вижу – выскочил мой хвостик наружу, мечется бедняга: упустил. А я сел в кресло швейцара и за ним, за гороховым пальто, наблюдаю. Спускается по лестнице человек и, вполне вероятно, принял меня за рехнувшегося: помилуй бог, сидит некий господин в кресле швейцара и хохочет-заливается. Чем не приключение, а?»
Шелгунов улыбнулся, Радченко же строго выговорил: «Владимир Ильич, сколько можно вам напоминать об осторожности…» – «В данном случае, батенька, я был, напротив, архиосторожен, – виновато возразил Ульянов, – настолько, что, прошу покорно извинить, опоздал непозволительно…» Отшутился и стал моментально и собранным и серьезным. Удивительный человек, в который раз подумал Василий.
И за столом Ульянов был предельно деловит. «С кустарщиной, с кружковщиной требуется покончить решительно и бесповоротно, – говорил он. – Архиважная задача – централизация всей работы, создание руководящего центра, четкое распределение обязанностей между его членами, организационное оформление нового наисущественнейшего звена – районных рабочих групп, ибо Центральный рабочий кружок, созданный Вруспевым, давно потерял прежнее значение, он лишь рудиментарный остаток… Нужны единое руководство, отчетность, дисциплина, конспирация!»
Вот сейчас – не то, что в разговоре с Радченко! – Василий не мог бы возразить ни словом, пускай Ульянов не слишком-то уважительно их кружок назвал рудиментарным. А и в самом деле, думал Шелгунов, оно так, ведь кружок остался лишь в памяти, давно большинство его членов занимается работой по своим районам, притом каждый сам по себе, наподобие лебедя, рака и щуки.
Разгорались дебаты.
То и дело запуская пятерню в могучую шевелюру; кипятясь, по обыкновению начал Радченко: «При такой организации, как предлагает Владимир Ильич, районы – а иными словами, наши рабочие – будут простыми исполнителями, а не равноправными участниками движения, они окажутся разобщены, вся реальная власть очутится в руках предлагаемой Владимиром Ильичей руководящей тройки, это похоже на диктатуру вождей, а не истинную демократию, каковой мы добиваемся в государстве и которая прежде всего должна появиться в наших собственных рядах».
От изумления Шелгунов едва рот не разинул: ведь полчаса назад Степан выражал недоверие к рабочим, а теперь противоречит себе же. Ишь, разошелся, голубые глаза стали аж зелеными от злости.
Ульянов слушал спокойно, только изредка выдавал свое гм-гм, Василий знал этот признак его волнения. И тут Шелгунова опять осенило, как в прошлый какой-то раз: вот в чем главная сила Владимира Ильича, преимущество перед остальными – твердо понимает, чего хочет, как достичь. Ясность цели. Понимание средств к достижению цели. Невероятная воля в борьбе. И – к борьбе. Вот он – Ульянов! Долго, слишком долго, думал Василий, мотались мы «без руля и без ветрил»… У Лермонтова там «хоры стройные» в океане, а у нас какой там к черту хор, сплошная разноголосица. Корабль без капитана был, да еще с неопытными матросами…
«Вы кончили, Степан Иванович? – спросил Ульянов с учтивостью, слегка насмешливой, поднял сшибленную Радченкой со стола чайную ложку. – Оно конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать? В России, в наших условиях, Степан Иванович, ваш, извините, первобытный демократизм немыслим и невозможен. Демократия, конечно, вещь хорошая и необходимая, однако в зависимости от места и времени. В обстановке преследований, в условиях кружковщины и раздробленности нам требуется организация! А организация, как таковая, еще отнюдь не обозначает недоверия к кому бы то ни было… Немыслимо движение без организации, немыслима организация без руководства, невозможно руководство без дисциплины».
«К слову, а сам-то наш борец за демократию весьма привык к порядочному единоначалию», – шепнула Надежда Константиновна сидевшей рядом Зинаиде Невзоровой, услыхали многие, Радченко поднял руки, сказал: «Ich kapituliere». – «А точнее, – все еще сердито поправил Ульянов, – подчиняетесь дисциплине, ибо капитуляция есть действие вынужденное, мы же требуем дисциплины сознательной. Ваше мнение, Василий Андреевич?»
Не колеблясь Шелгунов сказал: «Предложение правильное. Меня, правда, не уполномочили говорить от имени товарищей-рабочих, но, я думаю, сумеем убедить, если кто засомневается».
Без прений выбрали руководящую тройку: Кржижановский, Старков, Ульянов (вскоре в этот центр кооптировали Мартова и Ванеева). Утвердили районные группы: Невскую, Московско-Нарвскую, Заречную. Распределили другие поручения: финансовые дела, ответственность за технику подполья, за связи с типографией народовольцев. Решили, что районы каждую неделю отчитываются перед тройкой, а раз в месяц собираются все, обмениваются сообщениями.








