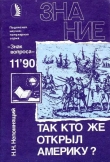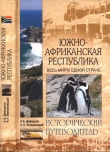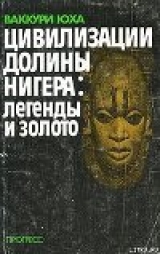
Текст книги "Цивилизации долины Нигера"
Автор книги: Ваккури Юха
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 13 страниц)
Мали при Сундиате
После битвы при Кирине Сундиата, как рассказывают, напал на столицу Coco, которая состояла из 188 укрепленных поселений. После многих месяцев осады город сдался, и государство Coco перестало существовать. Часть его населения ушла с пути Сундиаты далеко на запад. Сусу, живущие в наши дни на побережье Гвинейского залива, считаются их потомками.
Убрав с дороги главного врага, Сундиата взял под свою власть вассалов Coco, во всяком случае Багану, северную часть Беледугу, Бакуну и Кумби. С завоеванием последнего связана одна историческая проблема, а именно: Делафосс утверждает, что Сундиата уничтожил Гану или Кумби, и относит это событие к 1240 г. Теперь большинство историков с осторожностью относится к датировке Делафосса (источника Делафосс не указывает). Есть сомнения и в том, уничтожал ли Сундиата Гану вообще. Устная традиция не упоминает об уничтожении города, и, кроме того, Дж. Т. Ниань напоминает, что правившие в Гане династии Сисе и Тункара на самом деле были союзниками Сундиаты.[42]42
Выдвигалось предположение, что Фаринг Бурема Тункара, царь Мемы, который предоставил Сундиате убежище, мог быть на самом деле царем Ганы. – Прим. авт.
[Закрыть] Ибн Халдун также не говорит об уничтожении Ганы, а только упоминает, что Мали выросло столь великим, что взяло власть над всеми соседними народами, и она простиралась также на Гану и далее до побережья Атлантики.
Четкого представления о границах Мали при Сундиате нет. Согласно устной традиции, государство простиралось «от великого черного леса», то есть гилей, до «белой реки», под которой подразумевается, очевидно, Сенегал. К важнейшим областям, подвластным Сундиате, относятся золотоносные земли Бамбука, которые позже стали величайшим источником богатств Мали.
Для придания своей власти должной законности Сундиата собрал всех своих союзников в Куру-Кан-Фуга близ Кангабы. Так гласят предания из Диома. На этом собрании было решено считать Мали империей, а Сундиата был официально провозглашен мансой, то есть верховным властителем. На этом же собрании Сундиата заложил основы центрального и местного управления: каждому вассалу была определена его территория, куда был назначен верный Сундиате руководитель. Ва Камисоко рассказывает, что Сундиата организовал Центральный совет Мали, который собирался каждый второй день каждого года. На совете, куда созывали представителей со всех концов страны, рассматривали дела, касающиеся хозяйства всего государства, а также утверждали «план действий на начинающийся год».[43]43
Новый год в Мали, согласно Ва Камисоко, начинался после сбора щавеля, то есть на рубеже декабря – января. – Прим. авт.
[Закрыть]
Важнейшей реформой Сундиаты был перенос столицы в Ниани, который был объявлен местом его рождения. О местоположении Ниани идут споры, но предполагается, что он находился на берегах реки Санкарани.[44]44
Начатые в 1965 г. работы польско-гвинейской археологической экспедиции под руководством Владислава Филиповяка позволили установить местоположение Ниани более или менее точно: на реке Санкарани, у границы Гвинеи и Мали. – Прим. ред.
[Закрыть]
Хотя об экономической политике Сундиаты легенды знают немного, известно все же, что он покровительствовал хлопководству, разведению земляных орехов, а также скотоводству. Несмотря на наличие золотых россыпей, Мали было в первую очередь аграрной страной. Внешняя торговля оживилась, как предполагают, только в XIII в.
Социальная структура Мали при Сундиате, как ее рисуют историки, состояла из трех основных групп (причем только мужчин, женщины, очевидно, не принимались в расчет):
свободные граждане, к которым относилось 16 кланов;
марабуты – религиозные учителя, которые происходили из пяти кланов и образовывали группу Мандинг-Мори-Канда-Лолу – «стражи веры Мандинга»;
девять каст, к которым принадлежали люди различных профессий, в том числе ремесленники, гриоты и воины.
Сундиата точно определил права и обязанности людей всех групп общества. Победоносные войны сильно увеличивали касту рабов,[45]45
Отсюда ясно, что Сундиата не отменял рабства, хотя Ва Камисоко и говорит об этом. – Прим. авт.
[Закрыть] а также некоторые касты ремесленников (coco, между прочим, работали в Мали кузнецами).
Побежденные народы оказывались отделенными от «истинных» мандингов законами эндогамии. Человек из покоренного народа мог вступать в брак только внутри своего народа. Только властитель мог дать разрешение на брак, нарушающий рамки касты.[46]46
Браки с иноплеменницами в те времена считались – во всяком случае, среди старшего поколения – нежелательными. – Прим. авт.
[Закрыть]
Победоносное войско Сундиаты было разделено на отряды – келе-болон, – которыми командовали преданные Сундиате начальники келе-куни. Командующего армией называли келе-тиги, но Ж. Ки-Зербо свидетельствует, что практически Сундиата сам руководил сражениями. Однако легенды знают и многих полководцев Сундиаты. Войска состояли из всадников, вооруженных саблями, и пехоты, оружием которой были луки со стрелами и длинные копья. Знать Мали происходила из тех кланов, которые первыми признали Сундиату вождем, когда он вернулся из изгнания. К их числу относились кланы Конде, Корома, Камара, Траоре.
О духовной атмосфере времен Сундиаты надежных сведений мало. Его героический образ легенды дополняли самыми различными чертами, соответствующими, как правило, представлениям исполнителей этих легенд, то есть гриотов.
В последнее время дискутируется даже вопрос о том, был ли Сундиата мусульманином. Ибн Баттута говорит, будто он принял ислам; Ва Камисоко, напротив, утверждает, что он был анимистом. Истина заключается, вероятно, в том, что Сундиата только внешне был мусульманином, поскольку извлекал из этого политические и торговые выгоды, но можно быть уверенным в том, что его мусульманство было достаточно поверхностным: даже в приведенных легендах он пользуется наряду с мусульманскими учеными услугами предсказателей из среды своего народа.
По некоторым сведениям, Сундиата «принес в страну мир и отогнал войну от врат Мандинга». Очевидно, превосходство устрашающего войска Сундиаты действовало в Западном Судане как успокаивающий элемент. С другой стороны, легенды рассказывают о многочисленных военных походах Сундиаты и его полководцев.
Одно предание – оно добавляет к образу Сундиаты определенные черты – рассказывает, что он прервал один из походов и повернул войско домой потому, что внутренний голос говорил ему, что его брат посягает на его любимую жену Диурунди. Это событие заставило гриотов сочинить как насмешливые, так и прославляющие романтическую любовь Сундиаты песни.
О смерти Сундиаты существуют две версии. По одной, он умер от стрелы, которая попала в него случайно, когда он вместе со своим двором смотрел театральное представление. По другим сведениям, он утонул в реке Санкарани во время войны против вождя области Васулу Фульбе и в конце концов превратился в гиппопотама, который по сей день остается священным животным клана Кейта.
Хотя в верховьях Санкарани все еще приносят жертвы в память Сундиаты, Ва Камисоко отрицает мысль о том, что Сундиата утонул, но не поддерживает и версию о случайной гибели Сундиаты от стрелы. Однако и своей версии смерти легендарного царя у него нет, он утверждает только, что могила Сундиаты находится в Дакадиалани.
Преемники Сундиаты
Идет спор как о причинах смерти Сундиаты, так и о числе его сыновей. По Ибн Халдуну, у него было пять сыновей, а именно: манса Ули, Уати, Халифа, Мамаду и Гао. Все они в свое время царствовали в Мали. По преданиям из Диома, у Сундиаты было только четыре сына, а именно: Йерелинкон (который, по мнению Нианя, в списке Ибн Халд у на мог значиться как манса Ули), Ко Мамаду (возможно, тот, что называется Гао), Бата Манде Бори (который мог править под именем Абу Бекр) и Ниани Мамаду (который у Ибн Халдуна значится как Мамаду).
Некоторые знатоки преданий из Диома считают, однако, что у Сундиаты был всего-навсего один сын, манса Ули, он же Йерелинкон. То же самое говорят легенды из Ниани и Кангабы, согласно которым Сундиата усыновил сына одного из своих военачальников. Между прочим, Табо Вана Фран Камара и, конечно, Факоли были столь близки Сундиате, что адаптация была возможной. И как бы для того, чтобы еще более запутать дело, некоторые историки склонны считать, что у Сундиаты было шесть законных сыновей и великое множество побочных, которые официально не признавались принцами.
Причиной этого может быть то, что в Западном Судане много влиятельных родов, которые возводят свою генеалогию к Сундиате, что, конечно, само по себе не может считаться веским доказательством. По одному из преданий, имя младшего сына Сундиаты было Бемба Канда, а ранее родились Накоман и Фадиугу.
Другая легенда рассказывает, будто из-за наследства Сундиаты вышла ссора, поскольку его сыну по имени Коман-Диан не хотели дать ничего, кроме маленького поля, засеянного сезамом. Из-за этого он так рассердился, что ушел из Мандинга в область Конг. Там местные мусульмане помогли ему собрать армию в 40 тысяч, с которой он вернулся в Мандинг требовать свою долю наследства. Вместе с ним вернулись его братья Диби и Сейан.
Согласно преданиям из Диомы, упомянутый Бата Манде Бори был сыном не самого Сундиаты, а его сестры, которого Сундиата в какой-то момент усыновил.
Хотя сведения о числе детей Сундиаты сильно расходятся, но все едины в том, что царем Мали после Сундиаты стал манса Ули, который был самым могущественным из государей Мали. Ибн Халдун рассказывает, что манса Ули совершил хаджж в Мекку, когда в Египте правил мамелюкский султан аз-Захир Бейбарс. Он стоял там у власти в 1260–1270 гг. Более точной даты хаджжа мансы Ули нет. Обычно считают, опираясь на Делафосса, что манса Ули правил в Мали в 1255–1270 гг. Делафосс не указывает своего источника, и никто не смог подтвердить эту датировку. По некоторым сведениям, именно манса Ули, а не Сундиата завоевал золотоносные земли Бамбука.
После мансы Ули престол наследовал Уати, которого обычно считают сыном Сундиаты. Он правил с 1270 по 1274 г., после чего царем стал его брат Халифа. Ибн Халдун сообщает, что это был слабоумный правитель, который развлекался тем, что убивал своих подданных, стреляя из лука. Этот сын Сундиаты, уронивший достоинство царского рода, правил не более года (1274–1275). Подданные, насытившись его произволом, убили его.
После Халифы старейшины Мали провозгласили царем Абу Бакра,[47]47
Согласно Нианю, этот Абу Бакр был братом Сундиаты, и назначение его царем в условиях народного бедствия выглядит возможным. Ниань считает, что Бата Манде Бори был Абу Бакр II, правление которого Ш. Монтей относит к 1310–1312 гг. Если Бата Манде Бори был братом Сундиаты – или сыном его дочери, то данные традиции Ниани и Кангабы о том, что у Сундиаты был только один сын (Йереликон или манса Ули), подтверждаются. – Прим. авт.
[Закрыть] который мог быть, как говорилось, сыном дочери Сундиаты. Он сохранял власть до самой своей смерти, до 1285 г., после чего власть захватил вольноотпущенник по имени Сакура или Оабкара.
Считают, что он правил 15 лет, с 1285 по 1300 г., и что он расширил пределы Мали. Ибн Халдун пишет, что все страны Судана боялись Мали, которое укрепилось не только войнами, но и торговлей: в страну в то время стали поступать товары из Северной Африки. Сакура присоединил к Мали на востоке область Маси-на, которая была ранее вассалом Гао, а на западе Текрур – вассала Диара.
Власть Сакуры прервалась насильственным путем: разбойники с большой дороги убили его в Таджуре, примерно в 20 км от Триполи, когда он возвращался домой из хаджжа. Спутники высушили его труп, зашили в бычью шкуру и отвезли в город Кука, расположенный в Борну, куда пришли посланцы из Мали, с тем чтобы перенести прах царя на родину.
Преемником Сакуры был манса Гао, который правил, видимо, с 1300 по 1305 г. По поводу места этого государя в родословной потомков Сундиаты историки выражают много различных мнений. Чаще всего его считают сыном Сундиаты, опираясь на Ибн Халдуна, хотя Ибн Халдун в другой связи пишет, что Гао был сыном мансы Ули, то есть внуком Сундиаты.[48]48
Кажется более вероятным, что речь идет о внуке Сундиаты, хотя Делафосс и пишет, что манса Гао был в момент прихода к власти уже стар, а это говорит скорее о том, что он был сыном Сундиаты. Н. Левцион, изучавший родословное дерево Сундиаты, возможно, и прав, предполагая, что манса Ку – это тот же Гао, упоминаемый Ибн Халдуном. Тогда он был той личностью, которая в устной традиции Диомы звалась Ко Мамади; если же он был, как считает Левцион, сыном мансы Ули, то это подтверждают сведения устной традиции Ниани и Кангабы, что у Сундиаты был только один сын – Йереликон, он же манса Ули. – Прим. авт.
[Закрыть]
За мансой Гао последовал его сын Мухаммед. Согласно устной традиции, он носил имя Ниани Мамаду. По Монтею, он стоял у власти с 1305 по 1310 г. По Ибн Халд у ну, его правление закончилось только в 1312 г., с другой стороны, Ки-Зербо упоминает, что в 1303 г. Мухаммеда сменил на престоле Абу Бакр II, который, вероятно, был сыном сестры или брата Сундиаты. Н. Левцион стремился доказать, что этот Абу Бакр II был на самом деле Манде Бори, брат Сундиаты, он же Манде Бакари, который никогда не правил в Мали. Согласно Левциону, после Мухаммеда власть перешла от слабых потомков Сундиаты (если исключить мансу Ули) к потомкам брата Сундиаты Абу Бакра, он же Маиде Бори, из которых первым, то есть после Мухаммеда, правил внук Манде Бори по имени Муса, он же Канку М, уса. Левцион упоминает, что это утверждение опирается на устную традицию, согласно которой у Абу Бакра (Манде Бори) был сын по имени Фага Лайе, который в свою очередь был отцом мансы Мусы. То обстоятельство, что Фага Лайе нет в арабских хрониках, Левцион объясняет тем, что он не сыграл значительной роли в истории Мали. Упоминание же Абу Бакра вызвано тем, что он был предком этой ветви рода и братом Сундиаты.
Был ли предшественником мансы Мусы Абу Бакр II, как полагает в настоящее время большинство историков, или Мухаммед (Ниани Мамаду), как считает Левцион, – с этим связано интересное историческое сообщение. Арабский хронист ал-Омари рассказывает, что, когда Амир Хаджиб, который предоставил Мусе во время хаджжа приют в Каире, спросил у мансы Мусы, как он стал царем, последний ответил, что принадлежит к династии, в которой власть передается по наследству, и рассказал, что царь, который правил до него-то есть Абу Бакр или Мухаммед, – не хотел верить, что Атлантический океан не имеет границ, и приказал поэтому исследовательской экспедиции из двухсот кораблей, плывя под парусами, достичь противоположного берега. Кормчим было запрещено возвращаться прежде, чем они это сделают.
Только один корабль вернулся обратно, и его команда рассказала предшественнику мансы Мусы, что после длительного пути флот попал в сильное морское течение, которое затянуло все остальные корабли на дно. Услышав это, царь снарядил две тысячи новых кораблей, половина из которых была загружена провизией и водой, и лично отправился руководить этим плаванием. После этого о царе ничего не было известно. Перед отплытием царь назначил мансу Мусу регентом, и, поскольку он не вернулся, манса Муса продолжал править и благодаря огромным богатствам и золоту со временем стал известен даже в Европе.
Манса Муса
Манса Муса, или Канку Муса (Канку, или Конго, было именем его матери), был, несомненно, самым прославленным царем Мали. Несмотря на это, в западносуданской устной традиции о нем меньше песен и преданий, чем о Сундиате, хотя последний и не был известен в Европе.
В арабских хрониках манса Муса и время его правления, особенно его хаджж в Мекку, освещены довольно хорошо. Наиболее надежные и чаще всего цитируемые хронисты – это Ибн Фадлаллах ал-Омари, Ибн Баттута и Ибн Халдун.[49]49
Ал-Омари, который писал свою хронику в 1342–1346 гг., очевидно, сам не встречался с мансой Мусой; среди его информаторов был, видимо, шейх Абу Сайд Усман ад-Дуккали, который, как известно, прожил в Мали 35 лет. Ибн Баттута путешествовал по Мали в 1352–1353 гг., то есть спустя 15 лет после окончания правления мансы Мусы. Ибн Халдуна часто считают наиболее авторитетным источником по истории Мали. Он объездил Северную Африку и реконструировал царские генеалогии Мали так хорошо, что и сегодня хронология этой страны по большей части основана на его сведениях. Наиболее сведущими его информаторами о мансе Мусе были ал-Хаджж Йунус, переводчик (может быть, посол Египта в Мали), и ал-Му'амар Абу Абдаллах ибн Хадиджа ал-Куми, который встретился с мансой в Гадамесе и даже примкнул к его свите, когда царь возвращался из хаджжа. Ибн Халдун родился в Тунисе в 1332 г., то есть за пять лет до конца правления мансы Мусы. Его исторические произведения, которые считаются самыми выдающимися для того времени, он писал в Египте в 1387–1400 гг. – Прим. авт.
[Закрыть]
Наиболее важные сведения о правлении мансы Мусы мы находим у его современников. Тем не менее время его правления датируется по-разному. Его начало чаще всего относят к 1312 г., но об окончании у историков различные представления. По мнению большей их части, период власти мансы Мусы продолжался до 1337 г., но некоторые указывают 1332 г.
Время мансы Мусы обоснованно считается временем расцвета малийской империи. Важнейшей причиной распространения славы мансы Мусы за пределы Черной Африки, вплоть до Европы, был хаджж, который он совершил в Мекку в 1324 г. Историки единодушны в том, что манса Муса для того и совершил это путешествие, чтобы показать внешнему миру, и, прежде всего, арабским правителям побережья Средиземного моря, сколь богаты он и его страна. Несомненно, что черный царь, проделавший путешествие из далекой страны внутренней Африки через Сахару, произвел впечатление на народы и государей, через земли которых он шел. Его свита поражала своей численностью. По данным хроники «Тарих ал-Фатташ», в ней было 80 тысяч человек![50]50
Хроника «Тарих ал-Фатташ» говорит не о 80, а о 8 тысячах человек в составе свиты мансы Мусы; но даже такое число представляется преувеличенным по крайней мере втрое в сравнении с обычным размером каравана через Сахару. – Прим. ред.
[Закрыть]
Другая хроника, «Тарих ас-Судан», называет число на 20 тысяч меньше. Устная традиция повествует о 777 сотнях мужчин и 400 сотнях женщин. Поскольку царь знал, что путешествие с подобной свитой обойдется дорого, он взял с собой соответствующую дорожную казну: говорят, он вез тонны золота, частью в виде золотых посохов, частью золотым песком.
Хотя более или менее точные сведения о путешествии мансы Мусы можно получить из арабских хроник, устная традиция сохранила удивительные подробности об этом историческом событии.
Традиция, между прочим, упоминает по именам многих знаменитых людей из ближайшего окружения мансы Муссы.[51]51
По фольклорным данным, к ближайшему окружению мансы Мусы принадлежали, между прочим, Тунку Магнума, любимый слуга жены мансы Мусы, Ниерибы Конде, женщина-рапсод, «сладкоголосая» Тунку Маниан, царские марабуты Кан Туре, Кан Кисе и гриот Сиримамбан; согласно Нианю, это был тот самый Сильман Бана, который, по данным хроники «Тарих ал-Фатташ», вел авангард в царском хаджже, и толмач Мамаду Куяте. – Прим. авт.
[Закрыть] О снабжении каравана и расписании его передвижения имеются необычайно точные сведения.
Авангард под предводительством гриота Силмана Бана состоял, по преданиям, из 500 рабов, в личное снаряжение каждого из которых входил наряду с прочим золотой посох. С начала путешествия расстояние между этим авангардом и основной частью путешественников сильно растянулось: авангард уже входил в Томбукту, а царь еще пребывал в своем дворце. Дело было не в медлительности мансы Мусы, а в том, что некоторые из его советников убеждали его покинуть столицу в субботу, которая приходилась бы на двенадцатый день месяца, а такая суббота наступила лишь после девятимесячного ожидания. И другой день недели памятен в связи с путешествием мансы: в каждом городе, куда он прибывал в пятницу, он приказывал строить мечеть.
Собираясь в путь, манса Муса взимал со своего народа как деньги, так и съестные припасы. Но в пути он питался не только тем, что увез из родной страны. Хронисты рассказывают, что даже в центре Сахары царь лакомился свежей рыбой и овощами, которые получал благодаря хорошо налаженной почтовой службе. Но не трапезы царя были наибольшей роскошью во время его путешествия: больше фантазии проявляла в использовании своего положения жена мансы Ниериба Конде. Ее расточительные капризы упоминаются как в хрониках, так и в устной традиции.
Едучи долго по песчаной пустыне, Ниериба Конде в один прекрасный вечер заявила мужу, что страдает ужасным зудом и ей во что бы то ни стало надо выкупаться, причем предпочтительно в проточной воде. Несколько обескураженный неуместной просьбой царь вышел из своего шатра и пошел совещаться с фама – начальником группы. Мигом было разбужено 8700 человек царской прислуги, и они принялись копать бассейн для царственной супруги!
Согласно хронике, на следующее утро первые лучи солнца могли уже играть в воде этого бассейна, выкопанного среди песчаной пустыни. К общему восторгу, в нем были даже такие же водовороты, как в Нигере, о котором так мечтала царица. Водовороты возникали, когда в водоем лили воду из бурдюков.
Фама, выполнивший эту строительную задачу, сиял довольный и возносил славу Аллаху и царице. Возможно сильно преувеличивая, Махмуд Кати сообщает в «Тарих ал-Фатташ», что царица въехала в бассейн на спине мула и вместе с нею туда с восторженными криками бросились купаться 500 девушек ее свиты.
Устная традиция рассказывает об этом эпизоде несколько иначе, хотя и в ничуть не более достоверной форме: супруга мансы Мусы выкупалась не в бассейне, выкопанном людьми, а в озере, которое появилось по воле Аллаха в ответ на молитвы царя!
Манса Муса пересек Сахару, пройдя через соляные копи Таоденни, то есть через Валату, Туат и Тегаззу. Важнейшим местом остановки в пути был Каир, и именно оттуда распространились по всему миру рассказы о богатстве мансы Мусы. Как сообщает ал-Омари, даже через 12 лет после хаджжа в Каире хорошо помнили его щедрость.
«Этот человек волной излил свою щедрость на весь Каир. Во всем султанате не было ни одного придворного или другого чиновника, который не получил бы от него подарка золотом. Как славно он держал себя, какое достоинство, какая скромность!»
Манса Муса отличался воистину царским достоинством, хотя не умел ни читать, ни писать по-арабски и на советы всегда ходил с переводчиком. При каирском дворце мансу Мусу засыпали вопросами. Он успел рассказать египтянам и о плавании своего предшественника, и о границах своей земли, которые он несколько преувеличивал: он сказал, будто земля его столь огромна, что нужен целый год, чтобы пересечь ее. Он говорил также о ее золотых и медных приисках и о соседних народах. Когда один из придворных назвал его по ошибке царем Текрура, он несколько рассердился, сказав: «Текрур – это лишь часть моих владений».
И каирскому султану манса Муса сумел продемонстрировать свое достоинство: он отказался совершить челобитие. «Почему я должен делать так?» – рассердился он, но тут же проявил находчивость, с тем чтобы сохранить свой престиж и вместе с тем исполнить требования этикета. Оказавшись перед султаном, он коснулся лбом пола, но при этом воскликнул, что кланяется Аллаху, сотворившему его, и владыке мира.
Каирские купцы бесстыдно спекулировали на доброжелательности мансы Мусы и его свиты, их прямой неосведомленности: за товары, которые хотели приобрести малийцы, купцы заламывали непомерные цены, а те безропотно платили. Малийское золото, которое шло на покупку тканей, рабынь и певиц, подорвало экономику Каира, поскольку неожиданное его изобилие поколебало установившуюся систему цен. Ухудшились и отношения малийцев с каирцами, поскольку манса Муса в конце концов понял, что его и его спутников водят за нос.
Царская щедрость к добру не привела: деньги Мусы и деньги, накопленные поколениями его предшественников, кончились, и ему пришлось брать в долг у одного каирского купца. Тот, впрочем, ничего не имел против: доверие к черному царю в Каире было велико. Всего своего состояния манса Муса в Каире, однако, не растратил. И поныне в Мали живы предания о том, как манса Хадж Муса, то есть царь-паломник Муса, позже, в Мекке, покупал дома и земли для черных пилигримов.
Как по устным преданиям, так и по арабским хроникам, у мансы Мусы была репутация правоверного мусульманина. Но наряду с этим легенды из Диомы и Хаманы рассказывают, что по возвращении из Мекки он вез с собой 1444 фетиша,[52]52
Число 1444 нельзя принимать буквально, это просто указание на большое количество. Оно повторяется и в других местах устной традиции Западного Судана, в частности в легендах о Сундиате. Почти все цифры устной традиции, особенно большие, следует принимать условно. – Прим. авт.
[Закрыть] а это значит, что он не полностью отказался от анимизма. Ниань, правда, подчеркивает, что «фетишами» могли быть и те священные книги, которые он во множестве приобрел в Каире и Мекке. Во всяком случае, есть основания верить, что, хотя манса Муса и был законопослушным мусульманином, большая часть малийского народа сумела сохранить своих анимистических богов. Рассказывается, что сын мансы Мусы в конце концов отказался от веры отца и вернулся к старым богам своего народа.
Согласно рассказу ал-Омари, манса Муса, у которого было войско из 100 тысяч пехоты и 10 тысяч всадников, ни на каком этапе не пытался начать священную войну против живущих на юге «неверных». Он, видимо, пришел к выводу, что мирное сосуществование с племенем дьялонке, стерегущим золотые россыпи, наилучшим образом обеспечивает непрерывность золотого потока.
И с племенами, живущими в зоне лесов тропических дождей, манса Муса вел выгодную торговлю, привозя оттуда в числе прочего орехи кола и пальмовое масло. Некоторые соседние страны, и прежде всего государство народа моси, занимавшее земли в излучине Нигера, могли бы, по всей вероятности, и дать должный отпор в случае, если бы манса Муса начал войну за веру.
Хотя манса Муса и придерживался веротерпимости, он видел в исламе важный фактор подъема уровня культуры народа. Арабские хронисты так превозносят стойкость мансы Мусы в вопросах веры, что историки считают это основанием полагать, что при нем учение Корана было обязательным в столице.
Манса Муса вернулся из Мекки в Мали в 1325 г. Обратный путь шел через Гадамес и Агадес. Царя, который, экономя носильщиков, путешествовал на спине верблюда, сопровождали учителя ислама, ученые и знатоки шариата. Человеком, который проводил в этом обществе многие часы, был уроженец Гранады, архитектор Абу Исхак, более известный под именем ас-Сахели.
Будучи на службе у мансы Мусы, он построил в Томбукту, который в этот блестящий период истории Мали стал важнейшим центром изучения ислама, мечети Джингеребер и Санкоре, а также мадугу – королевский дворец. Ас-Сахели положил начало новому стилю строительства в Западном Судане – «сахельскому», или «стилю мансы Мусы», от которого, правда, мало что уцелело, потому что войны, особенно в XVI в., погубили эти здания. Но несомненно, что ас-Сахели был первым в Западном Судане архитектором, который пользовался при строительстве обожженным кирпичом.[53]53
Обожженный кирпич не получил широкого распространения в Западном Судане; для так называемого «суданского стиля» в архитектуре характерны как раз постройки из сырцового кирпича. – Прим. ред.
[Закрыть]
Когда манса Муса еще только возвращался из Мекки, он получил известие, что его младший военачальник Сагаманджа завоевал город Гао – центр народа сонгай. Услышав это, царь изменил маршрут, чтобы ознакомиться со своими новыми владениями и укрепить там свое положение. В Гао в то время правила династия За, или Дья.
Чтобы заручиться верностью нового вассала, манса Муса забрал с собой двух сыновей дья Ассибоя – Али Колена и Сулеймана Нари.[54]54
По более заслуживающим доверия сведениям, взятие заложниками Али Колена и Сулеймана Нари имело место полувеком раньше, около 1275 г., когда и был подчинен власти малийских правителей город Гао. – Прим. ред.
[Закрыть]
Отправляясь в Мекку, манса Муса назначил регентом своего сына – мансу Магана. Согласно данным ал-Омари, манса Муса намеревался по возвращении домой отказаться от короны в пользу сына и вновь уехать в Мекку, чтобы жить поближе к святым местам ислама, но этот замысел остался неосуществленным, поскольку, согласно тому же ал-Омари, манса Муса умер прежде, чем успел отречься от престола.
Это краткое сообщение ал-Омари возбудило среди ученых много споров, так как находилось в противоречии с другими сведениями о кончине мансы Мусы. Обычно говорится, что царь вернулся из хаджжа в 1325 г. и, следовательно, он, согласно ал-Омари, умер в то же время.[55]55
Сведения ал-Омари подкрепляют сообщение Ибн Халдуна, что манса Муса умер прежде, чем успел заплатить свои долги каирским купцам. Однако и это сообщение нельзя считать неоспоримым, так как Ибн Баттута и ал-Омари дают понять, что долг был все же уплачен. – Прим. авт.
[Закрыть] Но Ибн Халдун со своей стороны утверждает, что манса Муса хотел установить контакт с султаном Феса в Марокко, Абу-л-Хасаном, чтобы поздравить его с победой в битве при Тлемсене, а так как битва произошла лишь в 1337 г., значит, манса Муса в это время был жив.
Но, отправив посланцев в Фес, манса Муса, видимо, скоро умер, ибо посланцы Абу-л-Хасана, которые отправились в Мали с ответным визитом, встретились уже не с Мусой, а с мансой Сулейманом.[56]56
Ибн Халдун сообщает, что посланцы Абу-л-Хасана встретились с мансой Сулейманом, который был, по его мнению, сыном мансы Мусы. Это ошибка: манса Сулейман был братом, а не сыном мансы Мусы. Некоторые утверждают, что речь идет не о мансе Сулеймане, а о Магане, действительно сыне мансы Мусы, который царствовал после его смерти четыре года. Но более вероятным представляется, что хронист ошибся в определении родственных отношений, а не в имени царя, поэтому считается, что речь идет все же о мансе Сулеймане, а не о Магане. – Прим. авт.
[Закрыть]
Между этими визитами, однако, прошло по меньшей мере пять лет, так как мансе Мусе наследовал его сын Маган, и только после четырех лет его правления царем стал брат Мусы – манса Сулейман, который и дал аудиенцию посланцам марокканского султана. Таким образом, упоминание ал-Омари о смерти мансы Мусы сразу после хаджжа недостоверно, и знаменитый царь Мали умер только в 1337 г.