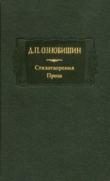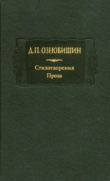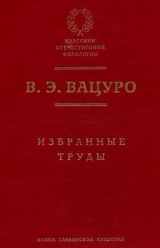
Текст книги "С.Д.П. Из истории литературного быта пушкинской поры"
Автор книги: Вадим Вацуро
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 17 страниц)
В пятидесятые годы он уже не мог мыслить категориями начала двадцатых годов, когда он был начальником исполнительного стола в Комиссии духовных училищ, титулярным советником, лишь в 1823 году получившим чин коллежского асессора, и недосягаемой начальственной величиной для него был А. И. Тургенев, приятельствовавший с молодыми «лицеистами». Он уже не мог – да и не должен был – помнить, что Карамзин, Дмитриев и Жуковский, сдержанно-поощрительно отнесшиеся к его первым опытам, и были теми «корифеями», которые баловали молодых людей не очень похвального поведения. И они вряд ли тогда нуждались в его особой приязни и тем более покровительстве.
Здесь была какая-то психологическая аберрация, очень понятная в его положении. Но и это еще не все.
Знал ли Панаев, что Софья Дмитриевна Пономарева, урожденная Позняк, была знакома с лицеистами через своего брата ранее, чем познакомилась с ним? И помнил ли он, когда писал свои воспоминания, что П. Л. Яковлев, брат лицеиста первого, пушкинского выпуска, вовсе не «подружился» с Кюхельбекером и Дельвигом, а был дружен с ними еще до своего отъезда в Бухару, что он в 1818 году жил вместе с Дельвигом на одной квартире и тогда же узнал Пушкина, а немного позднее – Баратынского? И что «унтер-офицер, разжалованный в солдаты за воровство», привлек к себе внимание хозяйки салона ранее, чем он сам, «русский Геснер», Владимир Панаев?
Осмысляя события через тридцать лет, он не мог сознаться себе, что летом 1821 года он уже не контролировал положения. Новые литературные силы уже стояли у порога, и хозяйка, при всей своей любви к Панаеву, собиралась открыть для них дверь. Удержать ее не мог даже его авторитет. Панаев предпочел считать все происшедшее случайностью.
«Случилось, что в это самое время, пользуясь летнею порою, отлучился я на месяц в одно из загородных дворцовых мест. Приезжаю назад – и что ж узнаю? Приятели Яковлева введены им в дом…» [138]138
Вестн. Европы. 1867. № 9. C.▫265–267.
[Закрыть]
Что значит «в это самое время»?
12 августа он присутствует на заседании общества. Накануне, 11 августа, было заседание Общества любителей словесности, наук и художеств, которое он также посетил и слушал там «лицеистов»: Кюхельбекер читал «Отрывок из путешествия во Францию», Илличевский – «Хлою и мотылька» и «Домового (подражание Лессингу)», Дельвиг – «К ресторатору Талону» Баратынского, – стихи, нам неизвестные [139]139
Архив Общества в ЛГУ.
[Закрыть]. Следующее заседание – чрезвычайное собрание 16 августа, как мы знаем, проходит уже без него. Он пропускает еще два заседания – 25 августа (его стихи «К Кальпурнию» читает Измайлов) и 1 сентября – и появляется только 22 сентября. Между 16 августа и 26 сентября имя его ни разу не упоминается и в дневнике Княжевича, – зато 26-го он является к Княжевичу с Остолоповым, Измайловым и другими, а 27-го с Княжевичем же проводит вечер у Деларю [140]140
Княжевич Д. М.Мой журнал // ЦГАЛИ, ф. 337, оп. 1, № 102, л. 118–124 об., 125.
[Закрыть].
Нет сомнения, что его не было в городе в течение месяца – со второй половины августа до второй половины сентября 1821 года.
Глава VI
Делия
Мало новых идей, и новые идеи поражают только умного: посредственность все видела, все слышала.
Летом 1821 года Нейшлотский полк, в котором служил унтер-офицер Евгений Баратынский, был назначен нести караульную службу в столице.
Баратынский радовался, как ребенок. Служба в Петербурге создавала иллюзию освобождения.
16 мая в обществе «соревнователей» читались его стихи «Водопад» и «Элегия», – и он спешит записать «Водопад» в альбом Пономаревой.
В августе месяце вернулся из-за границы Кюхельбекер. Он видел Германию, Италию, охваченную революционными настроениями; из Парижа он следил, как разворачивались события в Пьемонте, где была свергнута королевская власть и провозглашена конституция. Он сочувствовал восставшим и писал стихи о «ненавистных тудееках» – австрийских войсках, подавивших затем пьемонтскую революцию. В Германии он разговаривал с Гете и Тиком, в Париже – с Бенжаменом Констаном. Констан был автором знаменитого «Адольфа» и вождем либеральной партии; он устроил выступления Кюхельбекера в парижском «Атенее», и тот читал о свободе и деспотизме так, что старые якобинцы покачивали головой, опасаясь за судьбу молодого человека. Эти лекции действительно испортили отношения Кюхельбекера с патроном его, Нарышкиным, а русский посланник потребовал его выезда. Кюхельбекер вернулся с репутацией отчаянного либерала.
Осторожность была не в его характере. Он читал в обществе «михайловцев» свои отрывки из путевого дневника и адресовал друзьям эллинофильские стихи.
Разрозненное «святое братство» вновь собирается вместе. Кюхельбекер, Яковлев, Баратынский являются к Дельвигу. Он пишет в честь этой встречи «Дифирамб (на приезд трех друзей)»:
О радость, радость, я жизнью бывалою
Снова дышу! <…>
Пришли три гостя в обитель поэтову
С дальних сторон:
От финнов бледных,
Ледяноволосых,
От Реина-старца
От моря сыпучего
Азийских песков.
Три гостя, с детства товарищи, спутники,
Братья мои!
Баратынскому Дельвиг тогда же посвящает особое послание:
Ты в Петербурге, ты со мной,
В объятьях друга и поэта!
В этом послании он упоминает и о литературных недругах «союза поэтов»: о Цертелеве – «жителе Острова», «невеже злом и своевольном», и об Оресте Сомове:
В 1819–1820 годах Сомов печатал в «Благонамеренном» свой перевод сочинения Жанлис «О надписях» [142]142
Благонамеренный. 1819. № 7. C.▫44; № 12. C.▫393; 1820. № 18. C.▫389.
[Закрыть].
В августе 1821 года «союз поэтов» чувствует себя в кружке «Благонамеренного» чуть что не во враждебном окружении. И именно в это время он почти в полном своем составе входит в дом Пономаревой.
У Панаева были все основания рассматривать его появление здесь как маленькую революцию, чреватую большими опасностями. Его не было в Петербурге, – и он не мог ничему помешать, а Измайлов, кажется, был слишком послушным рыцарем дамы и слишком родственно относился к своему племяннику.
Мог ли Панаев предотвратить вторжение, если бы вовремя узнал о нем? Трудно гадать об этом, – но слишком велик был соблазн общения с этой богемой, талантливой, образованной и артистичной. Она умела то, что не умел никто более. Сомов, вернувшись из Парижа, не мог бы рассказать и десятой доли того, что знал Кюхельбекер.
В августе 1821 года листы альбомов начинают заполняться записями не вполне обычного содержания. Они сохраняют следы бесед – непринужденных, иногда шуточных, чаще серьезных; вспышек неподдельного остроумия или мгновенных характерологических наблюдений. В этих застольных беседах слышится голос и Софьи Дмитриевны.
Августом помечена запись ее в яковлевском альбоме об уме и посредственности, и с ней словно перекликается рассуждение Кюхельбекера о собственном его характере, также записанное для Яковлева.
«Кюхельбекер странная задача для самого себя – глуп и умен, легковерен и подозрителен: во многих отношениях слишком молод, в других – слишком стар, ленив и прилежен. Главный порок его – самолюбие: он чрезвычайно любит говорить, думать и писать о самом себе, вот почему его пьесы довольно однообразны. Он искренно любит друзей своих, но огорчает их на каждом шагу. Он во многом переменился и переменится: но в некоторых вещах всегда останется одним и тем же. Его желание, чтобы друзья о нем сказали: он чудак, но мы охотно бываем с ним; мы осуждаем его за многое, но не перестаем быть к нему привязанными. 1821 года августа 21. СПб.» [143]143
Медведева И. Н.Указ. соч. C.▫128.
[Закрыть].
В день именин Софьи Дмитриевны он записывает в ее альбом:
Ниже этих строк выписаны стихи из послания Баратынского Дельвигу, – недавно сочиненного и в январе только читанного в «ученой республике»:
Дух анализа, философского размышления, скептического неприятия вторгался в привычную игру. Это было необычно, неожиданно и привлекательно. Быть может, впервые хозяйка салона переставала быть простым предметом обожания. Для этих людей творчество было их органической жизнью, а не занятием в свободные от службы часы, и поле интеллектуального напряжения, созданное ими, было неизмеримо выше прежнего. И как знать? быть может, Панаев не до конца представлял себе возможности и стремления своей возлюбленной? Быть может, не Яковлев и его друзья, – а сама Пономарева была инициатором сближения, о чем она по понятным причинам остерегалась сказать Панаеву? И, быть может, оплошность ее вовсе не была оплошностью, а маленькой хитростью, приведшей к желанному результату?
Баратынский собственной рукой записывал в альбом Яковлева «Bon mots de M-e de P.» – «остроты г-жи П.»:
«M-r Baratinsky s’étant avisé de dire à table que lorsqu’il aurait des cheveaux blancs il viendrait faire sa cour à Madame, elle répondit:
– Monsieur, vous serez plutôt gris que blanc».
(Г-н Баратынский однажды сказал за столом, что, когда у него побелеют волосы, он явится ухаживать за г-жой П.; на что она отвечала:
– Милостивый государь, прежде чем быть белым, вы будете серы.) Каламбуру мог бы позавидовать присяжный бонмотист. «Etre gris»
означает также «быть пьяным».
«Elle disait aussi que l’écume du champagne ressemblait à une illusion». (Она также говорила, что пена шампанского напоминает иллюзию.)
«Шампанское похоже на хвастуна, в нем часто более пены, чем вина».
Да, она действительно была остроумна в самом точном смысле слова. Как-то она заметила о Крылове: «…писал как Лафонтень, а превзойти его ему мешала лень».
«Яковлев, – сказала Софья Дмитриевна, – расположился жить в свете, как будто у себя дома, и позабыл, что жизнь есть одно мечтание пустое».
Она знала Державина и иронически перефразировала строку из «Водопада».
«Бог так милосерд, что всякому дает по куску говядины. 10 октября».
«Говоря об Аркадине, на слова, что он молод, С. Д. возразила тем, что зато он идиллиями своими равняется Геснеру – по времени» [146]146
Медведева И. Н.Указ. соч. C.▫121: ИРЛИ, ф. 244, оп. 1, № 32, л. 14 об. – 17.
[Закрыть].
Геснер выпустил первую книгу идиллий в возрасте 26 лет. Софья Дмитриевна помнила и это.
Удивительны эти записи, – читая их, словно слышишь обрывки разговоров стосемидесятилетней давности, видишь возбужденные слегка лица собеседников, – но до слуха доносятся лишь отдельные фразы, а память запечатлевает мгновенные снимки:
«Quelqu’un ayant dit un bon mot, Ma-me se mit à rire pour le faire sentir, on sent que la rire était fort éloquent».
«Некто сострил, и г-жа П. принялась смеяться, чтобы это стало понятным; понятно было, что смех очень красноречив…»
На ваших ужинах веселых,
Где любят смех и даже шум,
Где не кладут оков тяжелых
Ни на уменье, ни на ум.
– так будет писать Баратынский, – вероятно, по свежим следам этих вечеров.
Где для холопа иль невежды
Не притворяясь, часто мы
Браним указы и псалмы.
Среди записей яковлевского альбома – «Bon mot de М. Baratinsky»: «Quelqu’un parlant du despotisme du gouvernement Russe. Monsieur dit qu’il planait au dessus de toutes les lois».
Дух времени, заставлявший умы клокотать, властно врывался в дружеский кружок Пономаревой. Вспомним Ореста Сомова, писавшего стихи на свободу, которые ему советовали не давать списывать.
Старшее поколение не напрасно пыталось поставить границы разговорам против правительства и не доверяло «баловням-поэтам», в которых видело рассадников «либерального духа».
Ни в чем не следуя пристрастью,
Даете цену вы всему:
Рассудку, живости, уму,
И удовольствию, и счастью;
Свет пренебрегши в добрый час
И утеснительную моду,
Всему и всем забавить вас
Вы дали полную свободу;
И потому далеко прочь
От вас бежит причудниц мука,
Жеманства пасмурная дочь,
Всегда зевающая Скука… [148]148
Боратынский Е. А.Полн. собр. соч. СПб., 1914. Т. 1. C.▫54.
[Закрыть]
Салон перерастал в литературный кружок. Таких стихов не писали, вероятно, никому из многочисленных хозяек петербургских и московских салонов.
Эпоха неуклюжих полушуточных, полуканцелярских протоколов, надуманных прозвищ, архаических мадригалов оканчивалась для дома Пономаревой.
Наступала эпоха дружеских посланий.
Послания, однако, были обращены к «Калипсо», «Хлое», «Дориде». Два года назад Баратынский обронил в одном из мадригалов галантное замечание, что дружба с прекрасной девушкой «всегда похожа на любовь». Теперь он мог поверить свое юношеское глубокомыслие собственным зрелым опытом. Дружеские послания были как нельзя более похожи на любовные циклы.
Если бы Баратынский имел обыкновение выставлять даты под своими стихами, мы могли бы по ним восстановить некий абрис его внутренних взаимоотношений с Пономаревой и выстроить своего рода естественно сложившийся любовный «цикл». Но мы не знаем точно даже последовательности обращенных к Пономаревой посланий Баратынского и должны датировать их по шатким и косвенным признакам.
Мы знаем, однако, что два первых послания – «В альбом» («Вы слишком многими любимы…») и, что особенно важно, – «К…о» – существовали уже к марту 1821 года, – в первый приезд Баратынского в Петербург.
Когда написаны два следующих стихотворения, о которых пойдет речь ниже, – мы не знаем. Они были записаны в альбоме Пономаревой и были опубликованы впервые через пятьдесят лет после смерти поэта [149]149
Вестн. Европы. 1894. № 3. C.▫437–438.
[Закрыть]. Их датируют условно, как и большинство записей альбома, – 1821 годом, иногда 1822-м. Это стихи «В альбом» («Когда б вы менее прекрасной…») и «Слепой поклонник красоты…».
Лирическая тема этих стихов уже несколько иная.
Полгода назад Баратынский в изящных мадригальных строчках выражал недоверие искренности чувства красавицы, привыкшей к легким победам. Сейчас он не доверяет себе. Его лирический герой разочарован; отвергнутый «молодыми волшебницами» в дни юности, он заменил любовь поэзией:
Эта тема любовного успокоения, купленного прошлыми страданиями, проходит по нескольким стихотворениям Баратынского начала 1820-х годов, и, конечно, ее нельзя понимать как буквальное автопризнание. Но нечто подобное Баратынский полушутя говорил и самой Пономаревой: когда волосы его побелеют, он станет в ряды ее поклонников. Любовный поединок продолжался, и в нем поэт надевал на себя маску элегического героя.
Второе стихотворение еще более интересно, и нам следует прочесть его целиком.
В АЛЬБОМ
Когда б вы менее прекрасной
Случайно слыли у молвы;
Когда бы прелестью опасной
Не столь опасны были вы…
Тогда б еще сей голос нежный
И томный пламень сих очей
Любовью менее мятежной
Могли грозить душе моей;
Когда бы больше мне на долю
Даров послал Цитерский бог, —
Тогда я дал бы сердцу волю,
Тогда любить я вас бы мог.
Предаться нежному участью
Мне тайный голос не велит…
И удивление, по счастью,
От стрел любви меня хранит [151]151
Там же. C.▫47–48.
[Закрыть].
Баратынский привык анализировать чувство. Он делал в стихах то, что Сомов – в своих письмах. Он открывал для литературы психологическую элегию, и наблюдения над самим собой давали ему неоценимый материал. Это делало его стихи несколько холодными, – недаром он был выученик французских моралистов, расчленявших и рационализировавших душевную жизнь и как бы отчуждавших ее от ее носителя. Как и в первом стихотворении, «верить» ему здесь было бы наивно, – но поворота темы нельзя не заметить. Лирический герой колеблется; он потерял прежнюю психологическую устойчивость и определенность. Он увлечен.
И сам поэт увлечен тоже.
Было бы соблазнительно угадать в этих строках следы устных бесед. «Предаться нежному участью…» Вспомним строчки послания к Коншину: «Счастливцы мнимые! способны ль вы понять Участья нежного сердечную услугу?» Что это? Элегическая формула, поэтическое клише, нередкое в стихах пушкинской поры, – или отсылка к своему прежнему стихотворению, и как раз к тому его месту, которое должно было особенно затронуть тонкую и глубоко чувствующую женщину? Мы не знаем и никогда не узнаем этого, – но не случайно эта формула повторится еще раз, уже не у Баратынского, а у Дельвига в стихах, обращенных к Пономаревой.
Но, быть может, еще любопытнее, что на эти стихи существует лукавый и своеобразный современный отклик.
В собрании Пушкинского дома сохранился альбом, состоящий полностью из шаржированных изображений. Он вышел из недр измайловского кружка; подписями под рисунками в нем служат стихи Баратынского и Измайлова, причем последние – иногда в допечатных редакциях. Сюжеты, избранные анонимным рисовальщиком, – те же самые, что были в пародиях и сатирических баснях Измайлова.
Среди этих шаржей есть один, который должен остановить наше внимание. На нем изображен молодой франт, галантно изогнувшийся перед темноволосой красавицей. Справа от его фигуры, дышащей какой-то комической важностью, записаны стихи: «Блажен, кто на тебя взирать украдкой смеет» – и далее, до конца.
Это были те самые стихи из антологии, которые, как мы помним, записал Панаев в альбом Пономаревой 28 марта 1821 года и которые теперь (по-видимому, в 1824 году) были прочитаны как прямое любовное послание.
Красавица не смотрит на франта; она сложила руки на животе и всем своим видом демонстрирует равнодушие. Над ней надпись: «Предаться нежному участью Мне тайный голос не велит И удивление по щастью От стрел любви меня хранит».
Это слегка искаженные стихи Баратынского, только что прочитанные нами. Они попали сюда из альбома Пономаревой, ибо в печати не были известны.
Автором карикатур был Яковлев.
Мы можем утверждать это, почти не рискуя ошибиться, потому что на одном из соседних листов есть шаржированные акварельные портреты Кюхельбекера и Дельвига и тот же рисунок с легкими изменениями повторен на дошедшем до нас листе из утраченного альбома Пономаревой. Этот последний рисунок принадлежал Яковлеву, как и несколько других, например изображение корзины, наполненной пылающими сердцами. Подпись гласила: «Игрушки Софьи Дмитриевны» [152]152
ИРЛИ, отд. пост., № 9665. См.: Вацуро В. Э.Литературные альбомы в собрании Пушкинского дома (1750–1840-е годы) // Ежегодник Рукописного отд. Пушкин. дома на 1977 г. Л., 1979. C.▫15–16. Барановская М.Летучие листки альбома… // Пушкинский праздник. 1977. 2–8 июня. C.▫10–11.
[Закрыть].
Яковлеву было отлично известно, чьими сердцами играла Софья Дмитриевна, ибо в их числе было, кажется, и его собственное. Но рисуя свою злую карикатуру, он, быть может, с умыслом, лишил действующих лиц прямого портретного сходства. Красавица на ней крупна и мужеподобна и не слишком похожа на известный нам миниатюрный портрет Пономаревой, а в ее поклоннике при желании можно узнать черты и Панаева, и Баратынского, и, возможно, еще третьих и четвертых лиц, нам неизвестных.
И подписи под шаржами сделаны не Яковлевым, а кем-то другим, чей почерк не совпадает полностью ни с одним известным нам почерком посетителей кружка.
Этот кто-то, однако, близко знал его внутреннюю жизнь и прояснил адрес яковлевской карикатуры или дал ей свое истолкование. Нет сомнения, что он намеренно выбрал стихи двух соперников – Панаева и Баратынского, – обращенные к Софье Дмитриевне, и сконструировал из них диалог, представя отношения Панаева и Пономаревой как историю отвергнутых домогательств.
Звездный час Владимира Панаева шел на убыль.
Он вернулся, как нам уже известно, в конце сентября и, по-видимому, уже не застал Баратынского: Нейшлотский полк возвращался на зимние квартиры в Финляндию. Баратынский уезжал, вспоминал Коншин, «с сердцем, разбитым и тоской, и чувствами» [153]153
Коншин Н.Воспоминания о Боратынском, или Четыре года моей финляндской службы с 1819 по 1823 // Краевед. зап. Ульяновск, 1958. Вып. 2. C.▫397.
[Закрыть].
* * *
Тем временем новые рыцари являлись на ристалище, чтобы принять участие в поэтическом турнире за благосклонность дамы.
Осенью 1821 года в альбоме Пономаревой появляются записи Дельвига.
Нам неизвестно точно, когда он впервые вошел в пономаревский салон, и датировки его стихов почти столь же неопределенны, как и стихов Баратынского. Нужно думать, однако, что Пономарева слышала о нем еще до знакомства с ближайшим его другом; вспомним, что брат ее учился в Царскосельском лицее, – да и в измайловское, «михайловское», общество Дельвиг вступил давно, еще в январе 1818 года, а затем жил на одной квартире с П. Л. Яковлевым. Может быть, даже вполне вероятно, что он был знаком с Пономаревыми, как был знаком между собою почти весь узкий петербургский литературный круг.
Тем не менее у нас есть только одна твердая дата: 22 ноября 1821 года в обществе «соревнователей» читается стихотворение Дельвига «На смерть собаки Мальвины» и, вероятно, несколько ранее вписывается в альбом Пономаревой.
Когда были написаны эти стихи?
В «сказке» «Вор и собака» Измайлов упоминал «Гектора и Мальвину», «имена собак г-жи П-ой», которые, «конечно, с радостью умрут за госпожу» (в первой редакции было: «едва ль умрут за госпожу», но, видимо, сомнение было сочтено неуместным). В автографе означено время написания: «нач. <ато> 6 авг. 1820, оконч.<ено> 14 и 17 апр. 1821» [154]154
ГПБ, ф. 310, № 2, л. 127–131.
[Закрыть]. Стало быть, еще в середине апреля эпитафия Мальвине не могла появиться.
Не была ли Мальвина той самой раненой собакой, которой Орест Сомов вечером 7 июня уступил свое ложе? Если это было так и бедное животное погибло в середине июня, то сомнительно, что поэтическое воспоминание о нем писалось в конце ноября. Скорее всего, оно относится к концу лета, когда горесть хозяйки уже притупилась, а память о преданном спутнике еще не исчезла. Как раз в это время, как мы помним, молодые поэты входят в дом Пономаревой.
Много позже, печатая эти стихи в «Северных цветах» с заменой «Мальвины» на «Амику», а Софии – на Лидию, – Дельвиг снабдил их примечанием: «Эта шутка была написана в угодность одной даме, которая желала, чтобы я сочинил на смерть ее собачки подражание известной оде Катулла „На смерть воробья Лесбии“, прекрасно переведенной Востоковым».
Итак, стихи были заказаны, – совершенно так же, как заказывались они Сомову, Панаеву или Измайлову, – они должны были включиться в длинную цепь литературных шуток, мадригалов на дни рождения, куплетов на заданные слова. Разница была в одном: Дельвигу предлагалось создать стилизацию, «подражание древним». Хозяйка салона явно следила за его творчеством и знала его поэтические вкусы. Она не ошиблась.
По прошествии ста шестидесяти лет мы не можем уже оценить в полной мере грациозность дельвиговской «шутки». Но мы в состоянии оценить то обстоятельство, что она дожила до нашего времени как литературное произведение, а не как факт массовой салонной поэзии. И вместе с тем она была порождением именно этой последней.
Смысл шутки заключался в том, что «подражание», стилизация была преднамеренной, подчеркнутой – и вместе с тем слегка тронутой иронией. Комнатная собачка, с лаем кидавшаяся на гостей, была памятна всем посетителям дома, но ее нехитрая жизнь вдруг неожиданно облеклась в одежды поэтические и мифологические; она заняла место подле псов Дианы и заливалась лаем на Марса и Зевса. То, что для похвал ее шелковистой шерсти и привязанности к хозяйке был мобилизован весь реквизит поэзии века Августа, – было забавно, как забавны были и античные эвфемизмы. «А она и пол-люстра, невинная! Не была утешением Софии». Неизбежное жеманство салонной поэзии здесь даже не преодолевалось; оно стало органическим элементом художественной шутки; оно превратилось в слегка пародийную стилизацию. Но поэту было этого мало: он приуготовлял своим читателям новый эффект. В конце своей «унылой песни» он вдруг вернулся к подлинному тексту Катулла:
Уж Мальвина ушла за Меркурием
За Коцит и за Лету печальную,
Невозвратно в обитель Аидову.
Так птенчик Лесбии, некогда живой и резвый, бредет мрачной стезей – «per iter tenebricosum» – туда, откуда никто не возвращается. Это почти цитата, где сквозь общий шутливый тон пробивается грустная интонация древнего поэта.
…В те сады, где воробушек Лесбии
На руках у Катулла чирикает [155]155
Дельвиг А. А.Указ. соч. C.▫155, 305. Об этом стихотворении см.: Шервинский С.In mortem passeris Lesbiae и «На смерть собачки Амики» // Рус. архив. 1915. № 11/12. C.▫306–314; Кибальник С. А.Катулл в русской поэзии XVIII – первой трети XIX века. // Взаимосвязи русской и зарубежной литератур. Л., 1983. C.▫62–63.
[Закрыть].
Вот где заключалось подлинное искусство! В двух завершающих строках полупародийного стихотворения вдруг с полной неожиданностью развертывался образ, излюбленный Батюшковым и его молодыми учениками: образ вечно продолжающейся жизни в античном Элизее, где живой Катулл держит на руках живого же, воспетого им некогда воробышка. «Подражание Катуллу» было окончено, – и оно далеко оставило за собой свой образец – востоковский перевод.
Салонная поэзия становилась поэзией в точном и высоком смысле этого слова.
Рядом с элегией на смерть Мальвины в рабочей тетради Дельвига поместилось еще одно стихотворение – «О сила чудной красоты!», оканчивающееся словами:
Эти стихи были написаны приблизительно тогда же, когда и элегия, и также вписаны в альбом Пономаревой.
Итак, в конце 1821 года Дельвиг также оказывается в числе поклонников «Калипсо». Но будем осторожны; не станем искать в первом же мадригальном посвящении следов реального и глубокого чувства. Стихи Дельвига искусны и слегка холодны; в них – след не индивидуального, но общего эмоционального опыта, какой уже накопила элегическая поэзия. Разочарованный герой, пробуждающийся к новой жизни «мощной властью красоты», как скажет потом Пушкин, – для стихов 1820-х годов – уже общее место; большой поэт может силой таланта придать ему индивидуальное обличие, но при сравнении с другими подобными же героями иллюзия рассеется или, во всяком случае, поколеблется. Современный читатель, знающий биографию Пушкина, вычитывает в его стихах к Керн («Я помню чудное мгновенье…») историю пылкой и трогательной любви, – но в них этой истории нет; они – лишь мадригал, написанный рукой гениального мастера, и, если сравнить их с другими, выстраданными пушкинскими стихами, такими, как «Храни меня, мой талисман…» например, – сразу видно, что в них меньше лирического напряжения, что они – мастерская аранжировка общего лирического сюжета, – кстати, того же самого, что в интересующих нас сейчас стихах Дельвига.
Дельвигу предстоит еще пережить увлечение и написать о нем совсем иные стихи, – но это произойдет несколько позже.
Между тем Нейшлотский полк, в котором служит унтер-офицер Баратынский, вновь прибывает в Петербург.
Дельвиг приветствовал товарища стихотворением «Музам»:
Это стихи зимы 1821/22 года: в них есть упоминание о «вьюгах и морозах».
16 января 1822 года Баратынский явился на заседание Вольного общества любителей российской словесности и читал там стихотворение «К другу». Это было, конечно, то стихотворение, которое мы знаем сейчас как послание «К Дельвигу»:
Ты помнишь ли, в какой печальный срок
На дружбу мне ты руку дал впервые —
И думая: по сердцу мы родные —
Стал навещать мой скромный уголок?
Ты помнишь ли, с какой судьбой суровой
Боролся я, почти лишенный сил?
Не ты ль тогда мне бодрость возвратил?
Не ты ль душе повеял жизнью новой?
Ты ввел меня в семейство добрых Муз… [158]158
Боратынский Е. А.Указ. соч. C.▫41–42.
[Закрыть]
Да, это было правдой. Многие годы спустя Баратынский не мог говорить спокойно о том волнении, с каким он увидел свои первые напечатанные стихи, – стихи, отданные в «Благонамеренный» Дельвигом без его ведома.
«Союз поэтов» собирался вместе.
Может быть, в этот свой приезд Баратынский пишет уже знакомые нам стихи «О своенравная София…» – о веселых ужинах, где смеются над указами и псалмами. На них-то поэт «основал свои надежды И счастье нынешней зимы». Это могла быть, конечно, и зима 1822/23 года, когда Баратынский задержался в Петербурге на четыре месяца, – но, как мы увидим, за год произошли события, несколько изменившие и характер отношений, и самую тональность посвящений Баратынского. Сейчас же все сложности еще впереди, а в настоящем – радость встречи, легкое кокетство, amitié amoureuse – полудружба-полулюбовь – и те же темы, те же сюжеты, которые начинались в стихах, написанных до пятимесячной разлуки:
О своенравная София!
От всей души я вас люблю,
Хотя и реже, чем другие,
И неискусней вас хвалю…
Иной порою, знаю сам,
Я вас браню по пустякам.
Простите мне мои укоры:
Не ум один дивится вам,
Опасны сердцу ваши взоры:
Они лукавы, я слыхал,
И, все предвидя осторожно,
От власти их, когда возможно,
Спасти рассудок я желал.
Я в нем теперь едва ли волен,
И часто, пасмурный душой,
За то я вами недоволен,
Что недоволен сам собой [159]159
Там же. C.▫54–55. Автограф – в альбоме Пономаревой // ИРЛИ, № 9668, л. 12.
[Закрыть].
Шестнадцатого января, как сказано, он присутствует на заседании «соревнователей». Далее имя его из протоколов исчезает. Он не появляется ни на одном заседании, вплоть до середины апреля.
Он болен.
Сохранилась его записка, без даты, обращенная к Гнедичу: «Почтеннейший Николай Иванович, больной Боратынский довольно еще здоров душою, чтоб ему глубоко быть тронутым вашей дружбою. Он благодарит вас за одну из приятнейших минут его жизни, за одну из тех минут, которые действуют на сердце, как кометы на землю, каким-то электрическим воскресением обновляя его от времени до времени.
Благодарю за рыбаков, благодарю за прокаженного, Вы сделали, что все письмо состоит из одних благодарностей.
Еще более буду вам благодарным, ежели сдержите слово и навестите преданного вам Боратынского.
Назначьте день, а мы во всякое время будем рады и готовы» [160]160
Боратынский Е. А.Указ. соч. C.▫234–235.
[Закрыть].
В этой записке идет речь о двух произведениях: «Рыбаках» Гнедича и «Прокаженном города Аосты», переведенном Баратынским из Ксавье де Местра.
«Рыбаки» были напечатаны в восьмой книжке «Сына отечества» за 1822 год; при следующей, девятой книжке подписчикам раздавался пятый номер литературных приложений – «Библиотеки для чтения», где был перевод Баратынского. Вероятно, Гнедич прислал больному книжки со своим и его сочинением, что могло произойти после 13 марта, когда «прибавления» с «Прокаженным…» вышли из типографии.
Письмо, стало быть, относится к середине марта 1822 года. Оно объясняет, почему Баратынский исчез на время из литературных кружков [161]161
Сын отечества. 1822. № 8 (25 февр.). C.▫22–28 («Рыбаки») № 9 (4 марта). C.▫96 (объявление о раздаче № 5 «Б-ки для чтения»); ЦГИА, ф. 777, оп. 1, № 370.
[Закрыть].
И оно говорит нам о крепнущих дружеских отношениях с Гнедичем, о чем в свое время еще будет речь.
* * *
В начале марта болезнь Баратынского, впрочем, уже идет на убыль. Он уже может выходить и даже обедает у Пушкиных, где приехавший И. П. Липранди рассказывает об Александре. Пьют шампанское за здоровье изгнанника [162]162
Цявловский М. А.Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. М., 1951. Т. 1. C.▫331–332.
[Закрыть]. А девятого марта в «михайловском» обществе Измайлов читает три его стихотворения: «Догадка», «Возвращение» и «Поцелуй» [163]163
Архив Общества в ЛГУ.
[Закрыть].
Сей поцелуй, дарованный тобой,
Преследует мое воображженье;
И в шуме дня, и в тишине ночной
Я чувствую его напечатленье.
Случайным сном забудусь ли порой, —
Мне снишься ты, мне снится наслажденье;
Блаженствую, обманутый мечтой,
Но в тот же миг встречаю пробужденье, —
Обман исчез, один я, и со мной
Одна любовь, одно изнеможенье.
Все стихи были напечатаны в одиннадцатом номере «Благонамеренного», получившем билет на выпуск 16 марта. «Поцелуй» носил подзаголовок: «К Дориде».


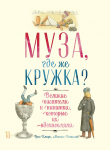

![Книга Писательницы пушкинской поры [историко-литературные очерки] автора Михаил Файнштейн](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-pisatelnicy-pushkinskoy-pory-istoriko-literaturnye-ocherki-195320.jpg)