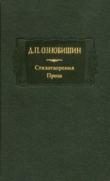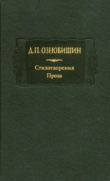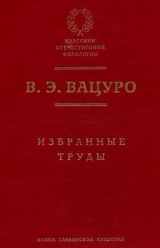
Текст книги "С.Д.П. Из истории литературного быта пушкинской поры"
Автор книги: Вадим Вацуро
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 17 страниц)
Никому из биографов Баратынского не приходило в голову комментировать это стихотворение, – и нельзя не признать, что само по себе оно не предмет для толкований. Стоит ли за ним какой-то реальный эпизод или нет, – для понимания его, в сущности, безразлично. Мы вправе предположить здесь мотив чисто литературный, тем более, что концовка «Поцелуя» явно перефразирует строчки очень известной элегии Парни – одиннадцатой в четвертой книге его «Любовных стихотворений»; той самой, которую когда-то перевел Батюшков:
На свете все я потерял,
Цвет юности моей увял:
Любовь, что счастьем мне мечталась,
Любовь одна во мне осталась!
(Элегия, 1804 или 1805).
Все это так, – и вместе с тем в «Поцелуе» есть некая любовная тайнопись, которую сам Баратынский слегка приоткрыл. Она заключается в подзаголовке «К Дориде». «Дорида» – имя литературное, условное, означающее «прелестницу», «возлюбленную», реальную или вымышленную. Им можно было обозначить и Пономареву, наряду с другими именами, столь же условными: «Климена», «Хлоя», «Лидия», – но на короткий срок в посланиях 1822–1823 годов Баратынский и Дельвиг, как мы увидим далее, закрепят за Пономаревой два условных имени – «Дорида» и «Делия».
«К Дориде» – так будет называться стихотворение Баратынского, вышедшее в свет в том же 1822 году и обращенное к Софье Дмитриевне. Перепечатывая его в своем сборнике в 1827 году, он назовет его «К Делии».
Делией назовет Пономареву Дельвиг в послании к Баратынскому.
Но этого мало.
Если мы пробежим мысленно дневники Сомова, мы убедимся, что однажды уже встречались с такой психологической ситуацией.
Вспомним запись от первого июня. «Конечно же, мстя за мое равнодушие, она удержала меня у изголовья своей постели. Я потерял власть над собой… она даровала мне поцелуи, которые проникали все мое существо, с того момента я посвятил себя ей…» Этого момента совершенной победы добивалась петербургская Армида. Чем сильнее, талантливее, привлекательнее был противник, чем дольше он сопротивлялся обольщению, тем более напряженным и страстным становился поединок ума и чувства. «…Все это было лишь притворством; она видела, что оно – единственное средство приковать меня к своей победной колеснице…» Два месяца надежд, разочарований, мучений и ревности понадобилось Сомову, чтобы понять это, – и, даже лишившись иллюзий, он уже не смог справиться с наваждением.
Если бы Орест Сомов сублимировал свои чувства в аналитических элегиях, как Баратынский, он бы написал нечто подобное:
Сей поцелуй, дарованный тобой,
Преследует мое воображенье.
Если бы Баратынский вел дневник, подобно Сомову, мы, вероятно, нашли бы в нем запись, свидетельствующую, что в его взаимоотношениях с Пономаревой настал некоторый поворотный момент.
Но Баратынский не вел дневника, а писал стихи, которые сами собой складывались в не предусмотренный заранее любовный цикл, где канвой служила подлинная история его увлечения, очищенная от случайностей и обобщенная искусством. Этот-то цикл и интересует нас сейчас, и «Поцелуй» важен нам как поворотный момент поэтического романа.
Ибо все то, что записал потом Сомов в дневнике, не исключая побочных наблюдений и размышлений, стало предметом поэтической рефлексии в одном из превосходных любовных стихотворений Баратынского, в первой редакции названном «Дориде», во второй – «Делии», а современному читателю известном без названия, по первой строке: «Зачем, о Делия, сердца младые ты…»
Жена Баратынского, Анастасия Львовна, знала или предполагала, что эти стихи обращены к Пономаревой. В копии, сделанной ее рукой, проставлены инициалы: «С. Д. П.».
Послание «Дориде», в отличие от «Поцелуя», было напечатано не в «Благонамеренном». В узком литературном кружке, где каждый участник был вхож за кулисы, оно могло читаться как чуть что не памфлет. В воейковских «Новостях литературы», где оно появилось впервые, таких ассоциаций возникнуть не могло. «Дорида» было, как уже сказано, условное имя, а самая тема обычна – хотя бы для французской поэзии. Первые комментаторы послания указывали – и не без оснований, – что оно напоминает несколько стихотворение Пушкина «Прелестнице» (1818).
И вместе с тем Дорида Баратынского – это не прелестница, предлагающая любителям наслаждений «златом купленный восторг», – это опасная очаровательница, неотразимая и недоступная. Вероятно, впервые такой образ являлся в русской поэзии.
Зачем, о Делия, сердца младые ты
Игрой любви и сладострастья
Исполнить силишься мучительной мечты
Недосягаемого счастья?
Так начинается поздняя редакция стихотворения, освобожденная от всего конкретного и случайного, созданная через два с лишним года после того, как сама Дорида-Делия отошла в царство теней.
В 1822 году Баратынский писал иначе, и в начальных строках его послания-инвективы легко улавливаются те самые сцены, которые уже знакомы нам по поздним воспоминаниям Свербеева. Через несколько десятилетий его мысленному взору представала Софья Дмитриевна, бабочкой порхавшая в толпе вздыхателей, «возбуждая своим утонченным участием и нескромными телодвижениями чувственность каждого». Он запомнил и Баратынского в этой толпе, и тогда же, как мы знаем, его поразили мягкая элегантность и благородство его движений и разговора. Внимательный наблюдатель литературной жизни, он, без сомнения, знал и стихи «Дориде», – не приходили ли они ему на память, когда он писал свои мемуары?
Зачем нескромностью двусмысленных речей,
Руки всечасным пожиманьем,
Притворным пламенем коварных сих очей,
Для всех увлаженных желаньем,
Знакомить юношей с волнением любви,
Их обольщать надеждой счастья
И разжигать, шутя, в смятенной их крови
Бесплодный пламень сладострастья?
Он не знаком тебе, мятежный пламень сей;
Тебе неведомое чувство
Вливает в душу их, невольницу страстей,
Твое коварное искусство.
Судьба Свербеева, «несчастного Поджио младшего», Ореста Сомова и других, неизвестных нам по имени, вставала перед Баратынским.
Я видел вкруг тебя поклонников твоих,
Полуиссохших в страсти жадной;
Достигнув их любви, любовным клятвам их
Внимаешь ты с улыбкой хладной.
Не верь слепой судьбе, не верь самой себе: —
Теперь душа твоя в покое;
Придется некогда изведать и тебе
Любви безумье роковое! [164]164
Боратынский Е. А.Указ. соч. C.▫34–35.
[Закрыть]
Остановимся перед этим, быть может неосознанным, пророчеством, – о нем еще будет речь. Испокон веку отвергнутые поклонники призывали кары бога любви на головы своих неблагодарных кумиров. Но здесь пророчеству суждено будет сбыться: «любви безумье роковое» не минует и Софью Дмитриевну. Однако сейчас оно явно угрожает самому поэту.
Сей поцелуй, дарованный тобой,
Преследует мое воображенье…
В «Дориде» есть след пережитого и перечувствованного; строки, которые мы прочли сейчас, почерпнуты и из наблюдений над самим собой. Годом позже он напишет в послании Гнедичу:
Он не остался нечувствительным к «коварному искусству» своей «Дориды» и «Делии». Послание, написанное к ней, появилось в печати в августе; одиннадцатого числа было подписано цензурное разрешение восьмого номера «Новостей литературы». Впечатления полугодовой давности не выветрились еще из памяти поэта, – а может быть, самые стихи были написаны ранее. Еще в середине апреля он был в Петербурге; 17 числа он читал в обществе «соревнователей» свое стихотворение «Весна», где упомянул об увядающей красавице, для которой прошла пора любви. Эту же тему он развил в заключительной части своего обращения к «Дориде», где предсказывал жестокой обольстительнице такое или почти такое будущее. В конце лета он вернулся с полком в Финляндию, где его посетили Дельвиг, Эртель и Павлищев, будущий муж Ольги Сергеевны Пушкиной. Дельвиг был, вероятно, единственным, кто мог по достоинству оценить положение вещей, – и у нас есть все основания думать, что именно в это время Софья Дмитриевна занимает особое место в их откровенных беседах.
Мы можем говорить об этом с некоторой уверенностью, потому что существует послание Баратынского «Д<ельвиг>у», сохранившее следы этих бесед:
Я безрассуден – и не диво!
Но рассудителен ли ты,
Всегда преследуя ревниво
Мои любимые мечты!
«Не для нее прямое чувство;
Одно коварное искусство
Я вижу в Делии твоей;
Не верь прелестнице лукавой:
Самолюбивою забавой
Твои восторги служат ей».
Не обнаружу я досады,
И проницательность твоя
Хвалы достойна, верю я,
Но не находит в ней отрады
Душа смятенная моя.
Эти стихи появились в печати только в 1825 году в «Полярной звезде»; написаны же они были никак не позднее 1823 года, – и, по некоторым косвенным признакам, именно в 1822 году. Нам придется убедиться вскоре, что Дельвигу также выпало на долю пережить увлечение Софьей Дмитриевной, – и не шуточное; оно падает как раз на 1823 год, и в это время ему было, нужно думать, не до рассудительных остережений; да и разговоры подобного рода в условиях любовного соперничества были бы лукавством непростительным, и даже более того. Но этого мало: в 1823 году самые отношения Баратынского с Пономаревой рисуются совершенно иначе, нежели в стихах, которые занимают теперь наше внимание:
Я вспоминаю голос нежный
Шалуньи ласковой моей,
Речей открытых склад небрежный,
Огонь ланит, огонь очей.
Так писал Баратынский в «Догадке» 1822 года, описывая «любви приметы»:
Медовый месяц взаимного увлечения – и переливающиеся из стихотворения в стихотворение поэтические формулы и темы. Одну из них мы уже отметили в «Весне», также 1822 года. Вторая – в «Догадке». Третья – и самая важная – в стихах «Дориде»: «коварное искусство», – не просто формула, но поэтический лейтмотив.
Я вспоминаю день разлуки,
Последний долгий разговор,
И полный неги, полный муки,
На мне покоившийся взор.
Разлука – перед отъездом Баратынского в Финляндию.
Я перечитываю строки,
Где, увлечения полна,
В любви счастливые уроки
Мне самому дает она.
И говорю в тоске глубокой:
«Ужель обманут я жестокой?
Иль все досель в безумном сне
Безумно чудилося мне?
О, страшно мне разуверенье
И об одном мольба моя:
Да вечным будет заблужденье,
Да век безумцем буду я…» [167]167
Там же. C.▫78–79.
[Закрыть]
Здесь – не просто поэтическая вольность. Переписка продолжалась, – в этом трудно сомневаться: Софья Дмитриевна писала Сомову, Измайлову, возможно, Яковлеву, почти наверное – Панаеву. Но переписка была закономерной фазой литературного романа; увлечение Софьи Дмитриевны проходило, и ей хотелось больше анализировать чувство, чем взращивать его в себе. Для анализов же нельзя было найти лучшего партнера; психологическую проницательность и литературные дарования Баратынского она не раз имела случай оценить. Мы можем еще и еще раз пожалеть, что не сохранилось ни одного из ее писем; быть может, с ними утрачена для нас русская Аиссе двадцатых годов девятнадцатого века.
* * *
Баратынский оставался в Петербурге еще в июле 1822 года. Полк должен был вернуться в Финляндию к концу августа [168]168
Хетсо Г.Евгений Баратынский: жизнь и творчество. Oslo, 1973. C.▫584.
[Закрыть], но если Баратынский и уехал, то лишь на короткий срок. 21 сентября он получил отпуск, длившийся до 1 февраля 1823 года [169]169
Боратынский Е. А.Указ. соч. С. LVI. Хронология событий жизни Боратынского в 1820–1824 гг. была уточнена уже после выхода книги «С. Д. П.» – сначала в истинной повести «Боратынский» (М., 1990), затем в «Летописи жизни и творчества Е. А. Боратынского» (М., 1998). – Примеч. сост.
[Закрыть]. Таким образом, у него было время посетить Пономаревых, и, нужно думать, неоднократно. Ничего об этих посещениях мы не знаем и можем лишь предполагать, что он бывал там вместе с Дельвигом и что Дельвиг был тем предметом, на который теперь обратилось заинтересованное внимание Софьи Дмитриевны. Капризы «своенравной Софии» подчинялись строгому закону, который мы уже не раз имели случай наблюдать и который с художнической проницательностью схватил Баратынский в послании «к Делии»:
Зачем, о Делия, сердца младые ты…
«Игра любви и сладострастья», затем поклонники, «полуиссохшие в страсти жадной», затем – охлаждение:
Достигнув их любви, моленьям жалким их
Внимаешь ты с улыбкой хладной…
Так было с Сомовым. Так было с самим Баратынским, – и он оставил в превосходных стихах опасный, коварный и манящий портрет Дон Жуана в женском обличье.
Он не принял во внимание лишь одного обстоятельства, которое будет важно для его, Баратынского, «читателя в потомстве». Его собственные стихи были порождением некоей духовной связи с петербургской цирцеей.
И не только эти стихи. Нечувствительно для себя он создавал целый цикл, посвященный Пономаревой. В нем было все – и острый первоначальный интерес, и влюбленность, и любовь, и постепенное угасание чувства, перерождающегося в дружескую связь. И цикл был еще не окончен.
Баратынский мог не думать об этом, – Пономарева, без сомнения, думала. Меньше всего в ней было от неистовой вакханки. И меньше всего ее привлекали блестящие кавалергарды, первые красавцы Петербурга. Ее коварное искусство обращалось на поэтов и художников, которые летели к ее дому, как мотыльки на огонь.
И в их числе был флегматичный, бледный, одутловатый и болезненный юноша, слишком полный и мешковатый для своих лет, с тонкими золотыми очками на близоруких глазах, – обладавший мягким британским юмором и абсолютным поэтическим чутьем.
Барон Дельвиг, которого Измайлов с грубоватым добродушием называл «Бар… Дель…» и преследовал шуточками в своем «Благонамеренном».
Среди стихов Дельвига есть любовный сонет с пейзажной картиной, где упоминается о созревшей жатве. Он начинается словами:
Я плыл один с прекрасною в гондоле.
Эта экспозиция, вероятнее всего, не вымышлена. Вспомним поездки на дачу водой, о которых писали и Измайлов, и Сомов. Тогда это конец лета или осень 1822 года.
Я не сводил с нее моих очей,
Я говорил в раздумье сладком с ней
Лишь о любви, лишь о моей неволе.
Брега цвели, пестрело жатвой поле,
С лугов бежал лепечущий ручей,
Все нежилось. Почто ж в душе моей
Не радости, унынья было боле?
Что мне шептал ревнивый сердца глас?
Чего еще душе моей страшиться?
Иль всем моим надеждам не свершиться?
Иль и любовь польстила мне на час?
И мой удел, не осушая глаз,
Как сей поток, с роптанием сокрыться?
Если этот сонет действительно посвящен Пономаревой, то он говорит об уже начавшихся отношениях. В том же, что адресат его – Софья Дмитриевна, сомневаться почти не приходится.
Он был вписан в альбом Пономаревой вместе с тремя другими сонетами Дельвига и с шутливым посвящением хозяйке. Все остальные сонеты Дельвиг читал 11 декабря 1822 года у «соревнователей» и отдал в их журнал и в «Полярную звезду», – и только этот сонет он не читал публично и напечатал отдельно в «Новостях литературы», где уже не раз печатались стихи, посвященные Пономаревой.
Автографы всех этих сонетов идут в рабочей тетради Дельвига один за другим, и рядом с ними поместились автографы «Розы», которую Дельвиг сразу же вписал в альбом Пономаревой, и «Жалобы»:
Воспламенить вас – труд напрасный,
Узнал по опыту я сам;
Вас боги создали прекрасной —
Хвала и честь за то богам.
Но вместе с прелестью опасной
Они холодность дали вам…
Мадригальное посвящение – десятистишие на одну пару рифм, явно рассчитанное на преподнесение и, вероятно, на узнавание. «Опасная прелесть» – выражение Баратынского – из стихов «В альбом», о которых у нас уже шла речь. Это была своеобразная лирическая тайнопись, язык кружка посвященных, быть может, след каких-то разговоров.
Возникал новый любовный «цикл». По нему можно проследить, как крепло увлечение поэта, – пока только увлечение, более или менее серьезное, производящее на свет изящные полулюбовные полумадригальные стихи.
Они создаются и записываются в альбом в то самое время, когда страницы «Благонамеренного» буквально пестрят пародиями и памфлетами, в которых упоминается имя автора и его ближайших друзей.
* * *
Самые основы литературного единения и в большом – «михайловском» и в малом – «пономаревском» обществах были потрясены, и причины тому лежали не в истории личных взаимоотношений, а гораздо глубже.
Новое, молодое поколение поэтов вступило в конфликт с «классиками». Измайлов ценил молодежь; он даже испытывал к ней нечто вроде симпатии, но с литературой их никак не мог примириться. Она была вызовом всему его литературному воспитанию. Его раздражал и язык новой поэзии, и ее темы – воспевание, как ему казалось, сладострастия и вина, – и вольнодумство поэтов – политическое и религиозное, и самая независимость их поведения, и даже дружеские послания, в которых они именовали друг друга Горацием и Тибуллом, – как всем представлялось, всерьез. Против всего этого он повел войну в своем журнале. Он ратовал сам и собирал сторонников. Не далее как полтора года назад он посмеивался над Орестом Сомовым, готовым поднять руку на Жуковского; сейчас Сомов был в числе желанных критиков и полемистов, атаковавших «новую школу». Князь Цертелев, к которому Измайлов относился неизменно иронически, был тоже допущен им в журнал и печатал в нем педантические критики и «отрывки», в которых нападал то на Жуковского, то на Дельвига, то на Баратынского, тщательно выискивая неточности словоупотребления, подлинные или мнимые. В октябре в «Благонамеренном» и почти одновременно в «Вестнике Европы» появился памфлет «Союз поэтов», подписанный «Д. Врсвъ»:
Сурков Тевтонова возносит;
Тевтонов для него венцов бессмертья просит;
Барабинский, прославленный от них,
Их прославляет обоих.
Один напишет: мой Гораций!
Другой в ответ: любимец граций!
И третий друг,
Возвыся дух,
Кричит: вы, вы, любимцы граций!
А те ему: о наш Гораций! [171]171
Поэты 1820-х – 1830-х гг. Т. 1. C.▫202–203.
[Закрыть]
Имена были зашифрованы настолько прозрачно, что в раскрытии не нуждались. Сурковым называли Дельвига за сонливость. Тевтонов – был немец Кюхельбекер, Барабинский – Баратынский, и самая формула «наш Гораций» была прямо взята из его послания к Дельвигу 1819 года.
Под той же подписью: «Д. В.р. ст-въ» – позднее появится в «Благонамеренном» статья «Разговор о романтиках и о Черной речке», – памфлетный разбор элегии Василия Туманского [172]172
Благонамеренный. 1823. № 15. C.▫169.
[Закрыть].
Критики, пародисты меняли имена и обличия, скрывались за мудреными псевдонимами и анаграммами, иногда выступали анонимно. В собраниях «михайловского общества» эти пьесы не читались и не вносились в протоколы поступивших сочинении. Подпись – или отсутствие подписи – становились полемическим приемом. Почти одновременно с «Союзом поэтов» в «Благонамеренном» появляются две эпиграммы. Одна называлась «Эпитафия баловню-поэту»:
Его будили – нынче нет.
Теперь-то счастлив наш Поэт!
Под стихами стояла подпись: «Б. А. А. Д.» – «барон А. А. Дельвиг». Другая эпиграмма – «К портрету N. N.» – гласила:
Подписано было «Д.» – Дельвиг. Расчет был на комический эффект – читатель должен был счесть Дельвига и автором, и адресатом. Когда через тридцать лет историки литературы стали приводить в порядок поэтическое наследие Дельвига, подпись ввела их в заблуждение. В. П. Гаевский был первым, кто попытался установить подлинного автора. «…Можем утвердительно сказать, – писал он, – что надпись к портрету сочинена не Дельвигом, что нам известно из самого достоверного источника, т. е. от самого автора; эпитафия же принадлежит или Измайлову, или, что гораздо вероятнее, тому же автору».
Имя этого автора Гаевский назвал в последних частях своего труда: им был Борис Михайлович Федоров [174]174
Гаевский В. П.Дельвиг. Ст. 2 // Современник. 1853. № 5. C.▫17; Ст. 4 // Там же. 1854. № 9. C.▫43.
[Закрыть]. И он же был «Д. Врсвъ» или «Д. В.р. ст-въ».
Борис Федоров, «Борька», один из активнейших участников общества и журнала в 1822–1823 годах, автор нескольких десятков представленных и напечатанных сочинений в стихах и прозе. «Хвост» партии «положительного безвкусия», как писал Бестужев Вяземскому, – партии, у которой «тела нет», а голова – князь Цертелев.
Борис Федоров, сочетавший журнальный задор с благонамеренностью и богобоязненностью так, что его била дрожь, когда он читал «Негодование» Вяземского.
В 1814–1817 годах он служил в департаменте министерства юстиции, вместе с Панаевым; он стал вначале знакомым, потом приятелем, а затем, когда Панаев стал двигаться на социальные высоты, – его биографом и почтительным ценителем. Панаев не остался в долгу, посвятив Федорову несколько строк в своих мемуарах. «Наделенный от природы поэтическим талантом, страстный к занятиям литературою, исписавший бездну бумаги, бездну перечитавший, одушевленный любовью к отечеству, стремлением к добру, человек безукоризненной нравственности, нежного сердца, он пользовался покровительством Державина, Дмитриева, Карамзина, Тургенева, Шишкова и постоянно был преследуем журналистами» [175]175
Вестн. Европы. 1867. Сент. C.▫262; ЦГИА, ф. 1349, оп. 4, № 27 (1825 г.), л. 38 (формулярный список Федорова).
[Закрыть]. Как мы видим, он не только «был преследуем», но и преследовал сам.
Дельвиг не отвечал печатно, но по рукам ходили его стихи, обращенные к Измайлову:
Мой по Каменам старший брат,
Твоим я басням цену знаю,
Люблю тебя, но виноват —
В тебе не все я одобряю.
Зачем за несколько стихов —
За плод невинного веселья —
Ты стаю воружил певцов,
Бранящих все в чаду похмелья.
Твои кулачные бойцы
Меня не выманят на драку… [176]176
Дельвиг А. А.Указ. соч. C.▫166.
[Закрыть]
Он сдержал обещание и ни разу не вступил в печатную полемику. Но он не мог отказать себе в удовольствии вывести своих противников в рукописной сатире.
Это были куплеты «Певцы 15-го класса», написанные им совместно с Баратынским.
Пятнадцатого класса не было в табели о рангах. «Певцы» опускались ниже предельной черты.
Каждый из них получал слово, чтобы представить себя и свои творения, дающие ему право на «пятнадцатый класс». Полемический прием был, таким образом, подхвачен, – а может быть, напротив, изобретен, – и подхватили его уже критики «Благонамеренного». Дело в том, что мы не знаем точно, когда написаны «Певцы», – это произошло, по-видимому, во второй половине 1822 года – после 10 июля, когда впервые был поставлен «пролог» Шаховского «Новости на Парнасе», упомянутый в первой строфе.
Первым «говорил» Измайлов – «председатель и отец певцов пятнадцатого класса». «Председатель» – не просто метафора: Измайлов был именно председателем Вольного общества любителей словесности, наук и художеств. Помощником председателя был Н. Ф. Остолопов.
Второй куплет был посвящен как раз Остолопову. «Пятнадцатый класс» тоже знал субординацию, – и она была такой же, как в «михайловском обществе», которое обрисовывалось за строчками памфлета.
«Я перевел по-русски Тасса, Хотя его не понимал». Это был намек на переведенные Остолоповым еще в начале века «Тассовы ночи» Дж. Компаньони; произведение это считалось принадлежащим самому Тассо и не далее как в 1819 году вышло вторым изданием. Тогда же, во второй половине 1819 года, он читал свой «буквальный перевод» «Части дня и ночи, описанные Т. Тассом в поэме его „Освобожденный Иерусалим“». Он и позже не оставил своих занятий Тассо, – и в заседании 12 января 1822 года прочел «Сравнение Франции с Италией (перечень письма Тасса к гр. Контрари в 1572 г.)» [177]177
Архив ВОЛСНХ (ЛГУ). № 216.
[Закрыть]. Но, конечно, не эти переводы обеспечили ему звание «певца пятнадцатого класса».
Многолетний приятель Измайлова, сатирик, баснописец и критик, он был явным, а более тайным участником его войны против «новой школы поэтов». О роли его в полемических схватках мы знаем немного, – и отчасти потому, что он скрывался за многочисленными анаграммами и инициалами: «Никост», «Н. О.», «−но−» и другими, частью, вероятно, нам неизвестными. Изредка он выступал, впрочем, и с открытым забралом; еще в 1821 году он читал в обществе басню «Нерешимость» – об осле, «баловне природы», умершем от голода перед ворохами ячменя [178]178
См.: Русская басня XVIII–XIX веков. Л., 1977. C.▫403, 601–602 (примеч. В. П. Степанова).
[Закрыть]. Ему же, скорее всего, принадлежала пародия «К баловню-поэту», напечатанная в начале октября 1822 года и подписанная «О. Н.», – в ней повторялись ставшие уже обычными словечки из стихов Дельвига и Кюхельбекера – из «Видения» и «Поэтов» [179]179
Благонамеренный. 1822. № 40. C.▫8: ср.: Русская стихотворная, пародия (XVIII – начало XX в.). Л., 1960. C.▫164–165, 700.
[Закрыть].
Он собирал и рукописные сатиры, – в том числе и на Измайлова, и на себя самого, – и, как мы увидим далее, пускал по рукам свои отклики.
Это был второй по значению и влиятельности противник. Третьим был Панаев – цензор Вольного общества.
Во сне я не видал Парнаса,
Но я идиллии писал
И через них уже попал
В певцы 15-го класса.
Если бы мы не знали закулисной истории взаимоотношений, выпад против Панаева был бы непонятен. В печатной полемике он ни разу не принял участия, и ни одна рукописная сатира или эпиграмма на «баловней-поэтов» не вышла под его именем. Но позиция его известна. Это противник – ожесточенный и непримиримый. За ним следуют Сомов, Княжевич и еще некто, «конюх Пегаса», подбиравший «навоз Расинов» и попавший в когорту заштатных певцов «по Федоре».
Обычно этим «певцом» считают М. Е. Лобанова, автора перевода «Федры» Расина, имевшего некоторый успех и встреченного восторженной рецензией Сомова. Но речь все же идет, по-видимому, о другом лице.
Лобанов был приятелем Гнедича и Крылова, сослуживцем их и Дельвига по Публичной библиотеке, и Дельвиг и Баратынский сохранили с ним отношения вполне лояльные. Да и перевод его вышел только в 1823 году.
В окружении Измайлова был человек, принятый в его общество исключительно «по Федоре».
Это был Иван Богданович Чеславский, в 1822 году инспектор театрального училища, затем служивший под начальством Измайлова в департаменте государственного казначейства. Он начал печатать свои переводы сцен «Федры» в «Благонамеренном» в 1820 году, продолжал в 1821 году [180]180
Благонамеренный. 1820. № 17. C.▫316; № 22. C.▫240; 1821. № 7–8. C.▫10.
[Закрыть], и второе же январское заседание общества (26 января) за 1822 год вновь огласилось стихами той же «Федры». У измайловцев Чеславский ничего, кроме «Федры», не читал, и этого оказалось достаточно, чтобы стать действительным членом – со второй половины 1820 или с начала 1821 года. В декабре 1822 года его приняли и в «ученую республику», – также «по Федоре»; все, что он печатал помимо нее, было совершенно случайным. Через год с лишним Измайлов будет рекомендовать его И. И. Дмитриеву как молодого литератора, которого «чуть не прокляли здесь за то, что осмелился после Лобанова переводить „Федру“» [181]181
Pуc. архив. 1871. № 7/8. C.▫981 (письмо от 1 февр. 1824 г.).
[Закрыть]. Не имел ли он в виду «Певцов 15-го класса»?
Граф Хвостов и цензор Бируков завершали перечень [182]182
См.: Дельвиг А. А.Сочинения. Л., 1986. C.▫272–273, 407–408.
[Закрыть].
Куплеты стали известны довольно быстро, и «певцы пятнадцатого класса» отреагировали на них по-своему.
* * *
Известно лишь два списка этой сатиры, идентичных по тексту. Один из них сделан рукою Измайлова.
Старый журнальный боец, переписав сатиру, еще раз воспользовался ее полемическим приемом. Он дописал к ней им же и сочиненные «Куплеты, прибавленные посторонними», – уже от имени авторов.
Барон я, баловень Парнаса.
В Лицее не учился, спал
И с Кюхельбекером попал
В певцы 15-го класса.
Это было то, что Пушкин называл «сам съешь». «Остроумный человек показывает шиш и говорит язвительно: „съешь“, а догадливый противник отвечает: „сам съешь“. „Сам съешь“ есть ныне главная пружина нашей журнальной полемики. Является колкое стихотворение, в коем сказано, что Феб, усадив было такого-то, велел его после вывести лакею за дурной тон и заносчивость, нетерпимую в хорошем обществе, – и тотчас в ответ явилась эпиграмма, где то же самое пересказано немного похуже, с подписью: „сам съешь“» [183]183
Пушкин А. С.Полн. собр. сочинений. [М.; Л.], 1949. Т. 11. C.▫151.
[Закрыть].
Пушкин писал о полемических схватках тридцатых годов, – но за десять лет немногое изменилось, разве что был утрачен патриархальный, домашний тон перебранок. В двадцатые годы литературная жизнь была плотнее и теснее; не всегда было понятно, где сталкиваются люди, а где – идеи, и рукописные сатиры поминутно соскальзывали на «личности». То, что Дельвиг «не учился» в лицейские годы, было выпадом принципиальным: поэзия требовала «учености», – а то, что он «спал», – было вместе с тем и «личностью»: осмеивались и мотивы его лирики, и сам автор как частное лицо. Но здесь насмешка была еще довольно добродушной; зловещие, оскорбительные нотки социального пренебрежения проскальзывали там, где речь заходила о Баратынском:
Я унтер, но я сын Пегаса;
В стихах моих: былое, даль,
Вино, иконы… очень жаль,
Что я 15 класса.
Это был смягченный вариант. «Вино, иконы, б…» – записал Измайлов в своем рукописном авторском сборнике и сразу же заменил: «вино, иконы, девы». Для куплетов, пускаемых по рукам, даже это сочетание оказывалось слишком кощунственным. Но этот вариант высветляет общее направление критического удара. «Вакхические и либеральные стихи». Либертинаж, вольномыслие во всем – в этике, в мышлении, в поведении, вызов общественному мнению, религии и нравственности – вот что видело в «новой школе» старшее поколение.
«Унтер»… «Разжалованный в солдаты за воровство», – напишет Панаев о Баратынском в своих мемуарах.
Измайлов мягче. Он просто не умеет шутить иначе как грубовато, – и в литературе, и в жизни. Его ролевая маска – добродушного и «мужиковатого», как скажет потом Кюхельбекер, ругателя, режущего правду-матку, но без камня за пазухой. Он даже готов признать за противником известные достоинства:
Остер, как унтерский тесак;
Хоть мыслями и не обилен,
Но в эпитетах звучен, силен —
И Дельвиг сам не пишет так.
Этот куплет Измайлову, видимо, казался удачным: он вписал его в свое рукописное собрание стихотворений как отдельную эпиграмму. Под ней он поставил дату: «1822» [184]184
Баратынский Е. А.Полн. собр. стих. Л., 1936. Т. 2. C.▫298; Вацуро В. Э.Мнимое четверостишие Баратынского // Pуc. лит. 1975. № 4. C.▫156.
[Закрыть].
Дата очень важна: она показывает, что вся эта полемика развертывается во второй половине 1822 года. Более точной хронологии мы установить не можем, а стало быть, не совсем ясно, что было выпадом, а что – ответом; может быть, памфлеты и эпиграммы Бориса Федорова, напечатанные в «Благонамеренном» в конце года, были вызваны к жизни «Певцами 15-го класса» и ответными куплетами Измайлова. Впрочем, не исключено, что вся эта полемика шла синхронно: и объекты, и самый предмет споров были известны заранее.
В этой словесной войне, без сомнения, принимали участие и другие лица, кроме названных; до нас дошло не все.
Еще в начале нашего века в руках В. Брюсова была тетрадь с полемическими сочинениями, в которой была записана эпиграмма «Завещание Баратынского» с подписью: «N. N.».
Стихотворенья – доброй Лете,
Мундир мой унтерский – царю,
Заимодавцам я дарю
Долги на память о поэте.
Эти стихи, под названием «Завещание», сохранились и в другом рукописном источнике.
Павел Лукьянович Яковлев, в конце 1824 года уехавший по служебным делам в Вятку, поместил ее в своем рукописном журнале «Хлыновский наблюдатель», который он посылал Измайлову, – в девятнадцатом номере за 1826 год [185]185
Петряев Е. Д.Литературные находки: Очерки культурного прошлого Вят. земли. Киров, 1981. C.▫26, 247. Ср.: Брюсов В.Эпиграммы и пародии на Е. А. Баратынского // Pуc. архив. 1901. № 2. C.▫347–349; Баратынский Е. А.Указ. соч. Т. 2. C.▫248.
[Закрыть].
Конечно, четверостишие не было плодом вятских вдохновений Яковлева – оно возникло в разгар полемик, где на все лады варьировалась тема «унтерства» Баратынского. При всем том оно было довольно остроумным и не слишком враждебным поэту. Автор его неизвестен, – может быть, это был и сам Яковлев.
Он не был участником войны, – во всяком случае, мы не знаем ни одного его прямого выпада против прежних своих друзей. Но связи его с Измайловым и его журналом за эти годы стали достаточно прочными. Он помещал у него свои нравоописательные сатирические очерки, и в переписке Измайлов подробно рассказывал ему, как близкому человеку, о своих друзьях и недругах. И Яковлев, быть может, не чувствительно для себя, проникался духом кружка.


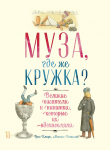

![Книга Писательницы пушкинской поры [историко-литературные очерки] автора Михаил Файнштейн](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-pisatelnicy-pushkinskoy-pory-istoriko-literaturnye-ocherki-195320.jpg)