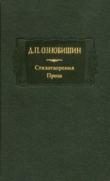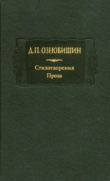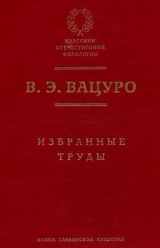
Текст книги "С.Д.П. Из истории литературного быта пушкинской поры"
Автор книги: Вадим Вацуро
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 17 страниц)
Но молодежь не входила в «Сословие друзей просвещения» и не подчинялась его уставу. Она составляла ему род оппозиции – литературной и политической.
* * *
Летом 1823 года роман Дельвига достиг апогея. Софии был посвящен едва ли не лучший из его сонетов. Он был прислан ей вместе с книгой Фаддея Булгарина «Воспоминание об Испании», которую Пономарева хотела прочесть: книга была в моде. Посылка ее была для стихов чистым поводом; Испания, классическая страна пылких любовников и страстных любовниц, становилась пышной декорацией, на фоне которой рисовался портрет прекрасной северянки, питомицы Амура:
Не он ли дал очам твоим блистанье,
Устам коралл, жемчужный ряд зубов,
И в кудри свил сей мягкий шелк власов,
И всю тебя одел в очарованье! [220]220
Дельвиг А. А.Полн. собр. стихотворений. C.▫174. О «петраркизме» в этих сонетах см. в нашей статье «Русский сонет 1820-х годов и европейская романтическая традиция» // Гармония противоположностей: Аспекты теории и истории сонета. Тбилиси, 1985. C.▫96–98.
[Закрыть]
Возник слух, что дама не осталась нечувствительной к песням своего трубадура.
Через тридцать лет биограф Дельвига В. П. Гаевский пометил на полях своей рукописи: «Н. Геннади, знавший лично Пономареву, говорит, что она была в связи с Дельвигом» [221]221
Дельвиг А. А.Полн. собр. стихотворений. Л., 1934. C.▫443 (примеч. Б. В. Томашевского).
[Закрыть].
Н. Геннади не мог этого знать. Он так думал, – и думал, быть может, на основании дельвиговских стихов и петербургских разговоров. Много позднее, уже после смерти Дельвига, Сомов напечатал под его именем стихи «К Морфею», где содержалось признание в любви некоей красавице, посетившей поэта во сне. В примечании он сообщал, что элегия «сочинена была еще до 1824 года». Это могло означать только одно: Сомов относил стихи к Пономаревой, умершей в 1824 году. Более прозрачно он изъясниться не мог.
Стихи были не Дельвига, а Гнедича, – но Сомов даже не предполагал возможности ошибки: настолько он был уверен в принадлежности их к «пономаревскому циклу» [222]222
См. подробнее в нашей статье «История одной ошибки» // Рус. речь. 1988. № 5. C.▫17–23.
[Закрыть].
Блестящие кавалергарды вновь были вынуждены отойти в тень – на этот раз перед Дельвигом.
В октябре 1822 года в «Новостях литературы» послышался жалобный стон одного из отвергнутых:
Стихи написал Н. П. Богданович, племянник поэта. Он вступил в соперничество с Дельвигом, и его поражение было предрешено.
Среди бумаг Измайлова сохранилось забавное стихотворение, датированное 24 июня 1823 года.
ПОСЛАНИЕ Н. П. Б. к С. Д. П.
(написано у Н. А. Шленева)
О вы, что лучше всех на улице Фурштадской,
Вы, Софья Дмитриевна, вы… вы… кровь с молоком;
Я, офицер кавалергардский,
От вас дурак стал дураком.
Ах! часто думаю, на вас в молчанье глядя,
Зачем я не поэт?
Зачем не так умен, как дядя? [224]224
И. Ф. Богданович, автор «Душеньки» (Примеч. Измайлова).
[Закрыть]
Имею лошадей, ума же вовсе нет.
Я не был в корпусе, в гимназии, в лицее;
Не знаю, как сказать, что страстно вас люблю —
Особенно при Дельвиге злодее…
Умнее он меня; его я не терплю
И застрелю!
Да, застрелю из пистолета.
И что за грех убить поэта?..
Нет, не убью – меня посадят под арест.
Какая прибыль мне, что будет он покойник,
Когда не буду я полковник
И не дадут мне крест.
Не знаю, делать что! О ревность! О мученье!
Простите: время мне явиться на ученье [225]225
ГПБ, ф. 310, № 2, л. 30 об.
[Закрыть].
Итак, летом 1823 года Дельвиг еще может торжествовать над будущим полковником, и Измайлов готов смириться с его первенством. Но и его ждет судьба всех прочих: он уже завоеван, и интерес к нему ослабевает. «Испанский» сонет был последним стихотворением, в котором звучала радостная нота разделенной любви. Неизвестно точно, когда он написан: книга Булгарина вышла из печати в мае, но продаваться стала позднее, не ранее начала августа [226]226
Билет на выпуск получен 14 мая; билет на объявление о продаже «вновь вышедшей книги „Воспоминание об Испании“» – 31 июля 1823 г. // ЦГИА, ф. 777, оп. 1, № 370.
[Закрыть], – и, вероятно, тогда же Дельвиг и послал ее Пономаревой со своим посвящением. Если бы мы знали точную хронологию стихов Дельвига, мы могли бы проследить по ним, когда мажорные интонации начинают уступать место элегическим, – но мы знаем лишь, что это происходит на протяжении того же 1823 года:
Но и над Софьей Дмитриевной сбывалось предсказание Баратынского.
Было ли это «роковое безумие» любви или что-либо иное, – кто сейчас может сказать? – но последние увлечения не вытеснили из ее памяти Владимира Панаева, и, когда он вновь появился перед ней, уже просто как старый знакомый, она перестала владеть собой.
Глава VII
Классики и романтики
Проснулся я, – и мне легко, поверь,
Тебя забыть, как ты меня забыла.
«Я оставался тверд в моей решимости, – продолжал Панаев свой рассказ, – наконец, уступил желанию ее видаться со мною в Летнем саду, в пять часов, когда почти никого там не бывало. Она приезжала туда четыре раза. Мы ходили, говорили о первом времени нашего знакомства, – и я постепенно смягчался, даже – это было пред отъездом моим в Казань – согласился заехать к ней проститься, но только в одиннадцать часов утра, когда она могла быть одна. Прощание это было трогательно: она горько плакала, целовала мои руки, вышла провожать меня…»
Ледяным холодом веет от этих правильных, протокольных строк, написанных рукою идиллика, воспевавшего нежные чувства. В них говорит не ревность, не оскорбленная страсть, но мертвенное равнодушие, еще усиленное старостью и давностью лет. Во всей русской мемуарной литературе мы вряд ли найдем что-либо подобное. «Я постепенно смягчался… согласился заехать к ней проститься… целовала мои руки…» Так могла бы писать женщина о своем поклоннике, – это написал поклонник о своей прежней возлюбленной.
Блажен, кто на тебя взирать украдкой смеет…
«…Вышла провожать меня в переднюю, на двор, на улицу. (Они жили близ Таврического сада, в Фурштадской улице, тогда мало проезжей, особливо в такое раннее время.) Я уехал совершенно с нею примиренным, но уже с погасшим чувством прежней любви» [228]228
Вестн. Европы. 1867. № 9. C.▫266–267.
[Закрыть].
Он уехал, по-видимому, в сентябре; во всяком случае, 13 сентября, за отбытием его из Петербурга, как значится в протоколах «измайловского» общества, Булгарин был избран замещать его в должности цензора [229]229
Архив Общества в ЛГУ, № 161.
[Закрыть].
В Казани его ожидало новое знакомство. Казанской губернией управлял тогда вице-губернатор Александр Яковлевич Жмакин. В его-то круг и вошел коллежский асессор Панаев и, как он вспоминал впоследствии, «очень полюбил его за его необыкновенный ум, отличные по службе способности и очаровательную любезность».
Пушкин, как рассказывал Вяземский, хохотал над строчкой чьих-то стихов «Все неприятности по службе С тобой, мой друг, я забывал», – называя их чисто русской элегией. Панаев, вероятно, не увидел бы в ней ничего смешного. «Отличные по службе способности» Жмакина в ряду прочих его достоинств настолько очаровали приезжего из столицы чиновника и поэта, что он осуществил на практике чисто русскую идиллию.
«А как старшая дочь его была девица замечательной красоты, первая невеста в городе, то и не мудрено, что к концу пребывания моего в Казани я на ней помолвил» [230]230
Вестн. Европы. 1867. № 12. C.▫78, 492 II. С. Д. П.
[Закрыть].
Пророчество Баратынского оборачивалось сбывшимся проклятием. Если бы он был суеверен, он не написал бы своих стихов к Делии-Дориде.
Все складывалось само собой, по установленному порядку, и винить было некого. Ни Панаев, ни Пономарева не помышляли о возможности соединения, и силою вещей жестокая красавица должна была однажды попасть в свои собственные сети и пасть жертвой своей опасной игры. Но расплачивалась она жестоко: поздней неразделенной любовью, отвергнутыми мольбами, унижением – и наконец разлукой. Ей предстояло еще узнать, что разлука эта будет вечной.
В 1816 году двадцатичетырехлетний Панаев писал своему приятелю, будущему известному прозаику Сергею Тимофеевичу Аксакову: «Кто женится более по рассудку, нежели по любви, тот сберегает для переду много лишних удовольствий. Что нового откроет в супруге своей любовник, прострадавший два или три года? И пламенное желание чего-либо достигнуть не оставляет ли по достижении некоторой в сердце пустоты? Такова натура человеческая» [231]231
ИРЛИ, ф. 3, оп. 13, № 52, л. 1–1 об.
[Закрыть].
Но мы не можем и не должны судить о том, было ли это письмо теоретическим рассуждением или жизненной программой, которая осуществилась наконец весной 1824 года.
* * *
«Михайловское общество» разваливалось.
Лучшие силы из него давно уже перенесли основную свою деятельность в «ученую республику» – к «соревнователям»: там издавалась «Полярная звезда», «Труды» общества, там готовились торжественные собрания, кипела жизнь и создавались партии.
Гнедич, Федор Глинка, Дельвиг, Плетнев составляют особенно тесную группу в «ученой республике», – и к ней, конечно, примыкает Баратынский. Они печатаются теперь почти исключительно в трудах этого общества, в «Полярной звезде» и в «Новостях литературы» у Воейкова. В «михайловское» же общество они не ходят и не дают своих сочинений в «Благонамеренный». И общество хиреет день ото дня.
Оно не распадается буквально: в 1823 году оно проводит двадцать пять обычных и одно чрезвычайное собрание, – но совершенно оскудевает литературными именами. Баратынский не посещает его ни разу; Дельвиг, Плетнев, Василий Туманский – по одному разу, Булгарин – дважды,
Сомов – трижды. Постоянный вкладчик измайловского журнала, он в 1823 году отдает в него лишь один незначащий анекдот, – а в «Соревнователе» печатает обширный трактат «О романтической поэзии», – той самой поэзии, с которой так упорно боролся Измайлов. Это было почти ренегатство.
Рылеев, принятый в 1823 году в общество, посещает четыре заседания.
Измайлов мужественно руководит оставшимися: он присутствует на двадцати четырех собраниях из двадцати шести. Теперь ближайшие его помощники – старики, заставшие еще прежнее, первое общество: Остолопов, Востоков. Они присутствуют на тринадцати заседаниях. Но Востоков участвует одним своим присутствием, как казначей общества: он не подает ни одной статьи и ни разу не появляется на страницах журнала. Остолопов изредка печатает басни.
Цензор общества Панаев успевает до своего отъезда побывать на пяти заседаниях, но также не представляет ни одной пьесы.
Едва ли не самыми активными сотрудниками оказываются Борис Федоров и князь Цертелев. Первый из них в 1822 году побывал на семи заседаниях из пятнадцати, в 1823-м – на пятнадцати из двадцати шести. Он читал и печатал исторические документы, критические статьи, переводы басен Эзопа, отрывки из комедии «Ротмистр Громилов», альбомные мадригалы, сатирические и лирические стихи. Он предлагал предпринять издание трудов общества, входил с проектами правил для них, составлял тексты извещений, и общество благодарило его за неусыпную деятельность. Цертелев, «житель Васильевского острова», соревнует ему, но с меньшим успехом: он посещает шесть заседаний и дает для чтения также шесть критических и филологических статей; правда, сверх того он продолжает ратовать в журнале против «новой школы словесности». «Соревнователи» отказали ему в трибуне, и он жаждет реванша.
На этих людей теперь вынужден опираться Измайлов, да еще на Павла Лукьяновича Яковлева, который снабжает его корреспонденциями из Прибалтики и нравоописательными очерками «Записки москвича».
В 1823 году «Певцы 15-го класса» уже были бы анахронизмом; нужно было бы изобретать шестнадцатый и семнадцатый.
Эта «задняя шеренга» оказывалась, однако же, весьма активной.
* * *
В третьем (февральском) номере «Благонамеренного» «житель Васильевского острова», князь Цертелев, поместил очерк «Немногое для многих (Отрывок из моего журнала)», где вывел романтического поэта, расхваленного приятелями. Хвалили его цитатами из бестужевского обзора в «Полярной звезде». Почти все цитаты были выбраны из тех характеристик, которые Бестужев давал поэтам «романтической школы», – и в этом был умысел. В пародийном поэте приятели находили «талант вымысла», как Бестужев в Дельвиге; подобно Батюшкову и Жуковскому, он разгадал «тайну» романтической поэзии; в его стихах видна «душа воспламеняемая и доступная всему высокому» – так Бестужев писал о Гнедиче; «по меткому употреблению языка» он мог стать «в ряду» с первыми нашими поэтами, – характеристика Баратынского в отношении к Пушкину; «сквозь полупрозрачный покров» его поэзии мелькают живые впечатления жизни – из описания поэзии Ф. Глинки. В текст были вкраплены стихотворные пародии – с парафразами из Жуковского, Ф. Глинки, Баратынского [232]232
Благонамеренный. 1823. № 3. C.▫210–216.
[Закрыть].
Цитаты и пародии очерчивали совершенно определенный круг имен. В 1823 году он повторился еще раз – в сатирических куплетах Ореста Сомова. Здесь также были строфы о Гнедиче, который «глазом лишь одним Отличен от Амура», о Федоре Глинке – покровителях молодых поэтов и о «союзе поэтов» – Дельвиге, Баратынском, Кюхельбекере:
Хвала вам, тройственный союз!
Душите нас стихами!
Вильгельми Дельвиг, чада муз,
Бард Баратынскийс вами!
Собрат ваш каждый – Зевса сын
И баловень природы,
И Пинда ранний гражданин,
И гений на все роды!
Хвала вам всем: хвала, барон,
Тебе, певец видений!
Тебе, Вильгельм, за лирный звон,
И честь тебе, Евгений! [233]233
Поэты 1820-х – 1830-х годов. Т. 1. C.▫227.
[Закрыть]
В «Сатирической газете» третьего номера «Благонамеренного» объявлялось об отдаче напрокат в «Галиматическом магазине» «первого сорта отобранных пиитических выражений, как-то: баловень, сладострастие, упоенье, чаши, былое…».Речь шла более всего о Дельвиге и Баратынском. Тут же сообщалось, что «некто из литературных баловней, недавно вышедший из училища» просит известных поэтов написать ему послание «в эротическом или элегическом роде, с чашами бытия, или с отцветшею душою, или по крайней мере борьбою с рокоми т. п., обязуясь ответить двумя посланиями на каждое» [234]234
Благонамеренный. 1823. № 3. C.▫237–238.
[Закрыть]. «Чаша бытия» была взята из «Элегии» Дельвига.
В пятом номере Измайлов напечатал «Макарьевнину уху», а некто «П…ъ» из Порхова напал – уже в который раз! – на обзор Бестужева и элегию Кюхельбекера.
В шестом появился очередной «отрывок из журнала» «жителя Васильевского острова» Цертелева; «Новая школа словесности». В нем говорилось, что «пиитическая нагота(по старой школе неблагопристойное), дивное(по ст. шк. вздорное)и таинственное(по ст. шк. бестолковое)составляют главнейшие красоты поэтов новой школы». Примеры приводились из Жуковского, Батюшкова, Вяземского, Баратынского, Дельвига, – и Пушкина. Пушкина «Благонамеренный» до сих пор избегал задевать, – но Цертелев, раз начавши, уже договаривал до конца. В пример поэтической «наивности» или «пиитической наготы» он приводил «Руслана и Людмилу»:
‹‹О страшный вид! волшебник хилый
и проч.
Это отрывок из поэмы, посвященной девицам! Желал бы знать, что скажут об нем пииты старой школы и все поклонники патриархальной нравственности?›› [235]235
Там же. № 6. C.▫440–441.
[Закрыть]
Цертелев говорил, по крайней мере, искренно; так же думали и другие патриархальные моралисты, начиная с критиков вроде Воейкова, напавших на «безнравственность» молодого поэта, и кончая теми, кто возмущался устно, а не печатно. Нужно думать, в числе последних было немало и «измайловцев», а может быть, и сам «председатель и отец», – все они забрасывали критическими стрелами «вакхические, сладострастные» стихи Баратынского и Дельвига.
В седьмом номере обнаружился новый «житель» – на этот раз «Петербургской стороны», – выражавший свое недовольство посланием Кюхельбекера «А. С. Грибоедову при отсылке моих „Аргивян“» [236]236
Житель Петербургской стороны. Non plus ultra. Письмо к господам собирателям литературной кунсткамеры // Там же. № 7. C.▫53–59.
[Закрыть]. Там же граф Дмитрий Иванович Хвостов, не подписавший своей статьи, хвалил издателя за басенку «Макарьевнина уха» и поощрял «унимать» молодых шалунов [237]237
<Хвостов Д. И.>Отрывок из собственной записки N. N. // Там же. C.▫62–64.
[Закрыть]. Измайлов досадливо отмахивался от похвал «старшего из наших баснописцев», – но на следующих страницах предупреждал «пылких наших молодых писателей», что цензуре «строжайше запрещено пропускать сочинения, не имеющие нравственной и полезной цели; особенно содержащие в себе сладострастные картины или так называемые либеральные, т. е. возмутительные мысли…» [238]238
И<змайлов А. Е.>От издателя // Там же. C.▫75–76.
[Закрыть].
Измайлов объяснял, почему он не печатает присылаемых к нему дилетантских сочинений, – но он не кривил душой, ссылаясь на цензуру. Пушкин вспоминал, что в последние годы александровского царствования благодаря ей вся литература сделалась рукописной. Отыскивались не только политические аллюзии, – запрещались и любовные стихи, если цензор Бируков или Красовский подозревали, что любовь недостаточно нравственна. 15 марта – почти в то время, когда Измайлов печатал свое извещение, – он рассказывал в письме Яковлеву: «Цензурный комитет в чистый понедельник имел рассуждение и положил, дабы в журналах помещаемо было чтение, приличное времени.Вследствие того цензор мой А. С. Бируков просил меня, чтобы я не оскоромилего (он говел на первой неделе) и не давал ему ничего о любви.А Красовский не схотел на первой неделе пропустить у Княжевичей окончание повести „Заблуждение любви“, не запрещая, однако, вовсе сего окончания. Итак, теперь выдет 8 № „Лит. приб<авле-ний>“, а 7-й после 8-го. Вот что делают наши гг. цензоры! Впрочем, я своим доволен.
Из „Сатирической газеты“ все ваши статьи, кроме одной (которая уже напечатана), вымарали, сочтя за личности» [239]239
Левкович Я. Л.Литературная и общественная жизнь пушкинской поры. C.▫157.
[Закрыть].
Хотел этого или не хотел Измайлов, но в таких условиях нападки на «сладострастные» и «вакхические» стихи становились почти что указанием на неблагонамеренность авторов. Отсюда приобретала права гражданства формула: «вакхические и либеральные». Между тем нападки не прекращались.
В восьмом номере еще один «житель» – на этот раз уже «Выборгской стороны» – помещает окончание растянувшейся статьи «О переводах», – в том числе о переводах «романтических», в которых надобно как можно чаще употреблять слова «таинственный, сладострастный, былое, туманная даль, молодая жизнь – глаза, не зря смотрящие»… [240]240
Благонамеренный. 1823. № 8. C.▫106.
[Закрыть]
Набор становился дежурным блюдом «Благонамеренного», как и маски авторов – обитателей разных частей Петербурга.
Вслед за статьей «выборгского жителя» опять появился «житель Васильевского острова» с «отрывком из журнала» «Хорошие стихи». Одобрение Цертелева вызвало, в частности, «Послание к Людмилу» Загоскина, – последнее потому, что в нем содержались привычные для его критического слуха банальности:
До конца лета 1823 года голос «жителя Васильевского острова» назойливо слышался со страниц измайловского журнала, бесконечно повторяя одни и те же мысли и слова. «…Романтическою поэзиею, которую противополагают обыкновенно классической, называются стихотворения, писанные без всяких правил, утвержденных веками и основанных на истинном вкусе» [242]242
Житель Васильевского острова. <Цертелев Н. А.>Отрывки из моего журнала // Благонамеренный. 1823. № 13. C.▫66.
[Закрыть]. Наконец он умолк. «Князь Цертелев уехал в Тамбов, – сообщал Измайлов Яковлеву 24 августа, – он определен смотрителем училищ тамошней губернии. Как романтики на него сердиты! И мне за них достается» [243]243
Левкович Я. Л.Литературная и общественная жизнь пушкинской поры. C.▫158.
[Закрыть].
Цертелев вел основную партию; другие лишь аранжировали. Сам Измайлов ограничивался мелкими уколами, вроде объявления о подписке на книгу Аполлона Галиматьина, малолетнего члена общества литературных баловней [244]244
Благонамеренный. 1823. № 14. C.▫133.
[Закрыть]. Остолопов напечатал сказку «Мелководие Леты»: в ней рассказывалось, что вздор Бавия не мог утонуть в реке забвения, потому что она была засорена сочинениями «новошкольников романтиков-поэтов» [245]245
−но− <Н. Ф. Остолопов>. Мелководие Леты. Сказка // Там же. № 11. C.▫341.
[Закрыть]. Один Федоров взял на себя функции Цертелева в стихах: он написал сатирическое послание «К некоторым поэтам», напечатанное, впрочем, позже [246]246
Календарь муз на 1826 год. СПб., 1826.
[Закрыть], – и ему же принадлежало анонимное «Сознание», где он скромно выводил себя из числа шумных поэтов, прославляющих друг друга:
Не постигал, невежда, я,
Как можно, дав уму свободу,
Любви порхать по огороду,
Лить слезы в чаше бытия!
Как конь взвивался над могилой,
Как веет матери крыло
Знакомое, как бури силой
Толпу святую унесло!
Здесь были задеты те же поэты и почти те же произведения, что и в «союзе поэтов», – Дельвиг с «Моим домиком», «Элегией» и «Романсом»; Баратынский, – но к ним добавился и Василий Туманский, чье «Видение» и «Черная речка» на некоторое время приняли на себя критический удар «Благонамеренного».
Одна цитата была взята из послания Баратынского Пономаревой:
Федоров приоткрыл свое авторство, когда поместил в августовском номере «Разговор о романтиках и о Черной речке», где разбирал стихи Туманского и перефразировал те же стихи, что и в «Сознании». «Шиллер, Байрон, Мур, Жуковский и Пушкин, почитаемые образцовыми писателями в романтическом роде, – замечал он, – скорее отказались бы от славы своей, чем согласились считаться однороднымипевцами любви кипящей, Гетери проч., окружающим свои „он, она, ее“ сплетением бессмыслиц и противоречием понятий: беспокойством тихих дум, говорящим молчаньем, веющим сном, знакомыми незнакомцами» [248]248
Благонамеренный. 1823. № 15. C.▫172–173.
[Закрыть].
Этот «разговор» был подписан почти так же, как «Союз поэтов»: «Д. В.р. ст-въ».
Нет, все же Федоров был не Цертелев. Ему не хватало примитивной откровенности «жителя Васильевского острова». Тот поднимал руку и на Пушкина, и на Жуковского, и на Батюшкова; этот уже отделяет «истинных» романтиков от «самозванцев» и готов отдавать должное первым. Здесь была и дипломатия, – но не только она: Федоров сам испытал влияние романтической поэзии. С другой стороны, в нем говорил и чиновник: все же он был секретарем при директоре департамента духовных дел иностранных исповеданий, – а директором этим был А. И. Тургенев, ближайший друг Жуковского и покровитель Пушкина, – и вряд ли он был доволен цертелевскими художествами. Как бы то ни было, Федоров соблюл некоторую осторожность в суждениях, – и это должно было удовлетворить и самого Измайлова, который отдавал должное поэзии молодого Пушкина еще при начале его деятельности. Судьба сыграла, впрочем, с Федоровым забавную шутку: через три года он будет собирать альманах, и Жуковский даст ему свой отрывок «Невыразимое», написанный еще в 1819 году; весь этот отрывок будет построен на той самой идее «говорящего молчанья», которую Федоров объявлял ложно-романтической и противоречащей поэтическим принципам Жуковского; именно в издании Федорова впервые появится строчка:
И лишь молчание понятно говорит.
Но это случится уже в другую эпоху: время идет быстро. Сейчас мы находимся в середине лета 1823 года, когда «новая школа поэтов», доселе молчавшая или отшучивавшаяся, готова принять бой.
* * *
Баратынский приехал в Петербург летом и сразу же попал в самый кипяток чернильной войны. Литературные его связи к этому времени очень укрепились. Рылеев и Бестужев предложили ему стать издателями книжки его стихов. Из других литераторов за пределами «союза поэтов» он особенно тяготел к Гнедичу, которому написал большое послание:
С тобой желал бы я беседовать опять,
Муж дарованьями, душою превосходный,
В стихах возвышенный и в сердце благородный!
Эти стихи – «Н. И. Гнедичу» – появляются в шестой книжке «Новостей литературы» за 1823 год.
Гнедич втянул его в совместный перевод трагедии Александра Гиро «Маккавеи». Переводить собирались впятером – каждый по акту – Дельвиг, М. Е. Лобанов, Рылеев, Баратынский, Плетнев. Гнедич хотел поставить эту новинку с Семеновой в главной роли. Из замысла, впрочем, ничего не вышло: Дельвиг перевел небольшой фрагмент и оставил работу. Баратынский взялся было, но так, кажется, ничего и не перевел и потом извинился перед Лобановым, ссылаясь на перемену места пребывания, недосуг и неспособность. Один Плетнев выполнил обещание и аккуратно представил второе действие в конце ноября 1823 года [249]249
См.: Дельвиг А. А.Полн. собр. стихотворений. Л., 1934. C.▫499–500; Боратынский Е. А.Стихотворения. Поэмы. Проза. Письма. C.▫470; Дельвиг А. А.Соч. C.▫398.
[Закрыть].
Зато все трое написали по посланию к Гнедичу; Плетнев – еще в 1822 году, Дельвиг – почти одновременно с Баратынским, в августе 1823 года [250]250
Дельвиг А. А.Соч. C.▫29, 384–385.
[Закрыть].
«Союз поэтов», Гнедич, Глинка – это была именно та группа, которую иронически чествовал Сомов своими куплетами на манер «Певца во стане русских воинов».
По стихам Баратынского, обращенным к Гнедичу, – посланию «Н. И. Гнедичу» и другому, о котором далее пойдет речь, – мы можем предположительно представить себе, как проходило их литературное общение. При всей своей близости к «союзу поэтов» Гнедич оставался «классиком», и собственно лирическая поэзия «новой школы» казалась ему недостаточно значительной. «Возвышенную цель поэт избрать обязан» – так определял Баратынский содержание советов, полученных от Гнедича, – и это вполне соответствовало тому, что провозглашал Гнедич еще в 1821 году. Баратынский готов был согласиться с этим, – но «цель» Гнедич понимал как социальную дидактику, для Баратынского же она заключалась в философской идее. Поэтому, когда Гнедич стал побуждать его обратиться к сатирическому жанру, он ответил философским рассуждением, – и оно было тронуто тем общественным скептицизмом, который как раз в 1823 году стал охватывать самые передовые круги русского общества. Сатира не исправляет нравы, как иной раз думали в прошлом веке. Она способна вызвать лишь раздражение, не говоря уже о том, что сам сатирик должен ощущать в себе право поучать общество. Талант – не порука за беспристрастие.
Да и сами предметы сатирического осмеяния далеко не всегда заслуживают общественного обличения. Так, дурные поэты пусть останутся при своих слабостях – как частные лица они могут быть даже привлекательны.
Баратынский написал сатиру о невозможности писать сатиры.
Эту мысль высказывал когда-то еще Буало, учитель русских сатириков нескольких поколений, и она сохранялась в старинных образцах жанра со времени Сумарокова. Но время наполняло ее обновленным содержанием. Вместе с тем – и это также был излюбленный и проверенный прием – Баратынский включил в свое рассуждение полемический пассаж, в котором набросал портреты литературных врагов. Он все же ответил «Благонамеренному» и в этом смысле последовал полученному совету. И Гнедич знал, что говорил и кому говорил: после высылки Пушкина Баратынский был единственным настоящим сатириком-полемистом в «союзе поэтов»; Дельвиг, охотно писавший шутливые эпиграммы, печатной полемики не любил. Он прохладно относился и к сатирам Баратынского «в несчастном роде дидактическом», как он определял годом позднее его послание «К Богдановичу». Он находил в них «холод и суеверие французское», свидетельствовавшие, что Баратынский не изжил в себе классическое воспитание [251]251
Письмо Пушкину 10 сент. 1824 г. // Там же. C.▫285.
[Закрыть]. Тем не менее он отправил Пушкину новое сочинение общего их приятеля – «Гнедичу, который советовал сочинителю писать сатиры».
Мы знаем об этом по письму Пушкина к Дельвигу от 16 ноября 1823 года. Стало быть, сатира была послана ему самое позднее в октябре месяце.
Именно о ней идет речь в письме Рылеева Баратынскому, написанном 6 сентября:
«Милый Парни! Сатиры твоей не пропускает Бируков. На днях пришлю ее к тебе с замечаниями, которые, впрочем, легко выправить. Жаль только, что мы не успеем поместить ее в „Звезде“, в которую взяли мы „Рим“, „К Хлое“ и „Признание“» [252]252
Рылеев К. Ф.Соч. Л., 1987. C.▫300–301. Датировка этого письма 1822 г., восходящая к первой публикации (автограф не сохранился), ошибочна; по содержанию оно может относиться только к 1823 г., ибо в нем идет речь о подготовке второго выпуска «Полярной звезды» (на 1824 год).
[Закрыть].
В это время Баратынского уже нет в Петербурге: он уехал опять в Финляндию. Неделей позже к нему отправился Дельвиг [253]253
См. письмо А. А. Бестужева Вяземскому от 5 сент. 1823 г., где о Баратынском говорится как об уехавшем (Лит. наследство. 1956. Т. 60. кн. 1. C.▫207); об отъезде его пишет и Плетнев Кюхельбекеру 8 сентября (Рус. старина. 1875. № 7. C.▫371–372). 14 сентября Е. А. Энгельгардт сообщает Кюхельбекеру, что Дельвиг «зачем-то поехал в Финляндию» (Там же. C.▫374).
[Закрыть].
Итак, новое послание к Гнедичу становится известно в Петербурге в августе 1823 года, – в то время, когда достигает предельной точки критическое напряжение в «Благонамеренном». При этом Баратынский не пускает его по рукам, как ранее, а намерен его обнародовать в «Полярной звезде», сделав полемической декларацией целой группы молодых поэтов.
Признаться, в день сто раз бываю я готов
Немного постращать Парнасских чудаков,
Сказать, хоть на ухо, фанатикам журнальным:
Срамите вы себя ругательством нахальным;
Не стыдно ль ум и вкус коверкать на подряд
И травлей авторской смешить гостиный ряд?
Россия в тишине, а с шумом непристойным
Воюет «Инвалид» с «Архивом» беспокойным…
Журнальные свары Воейкова и Булгарина. Первые шаги «коммерческой», «торговой» словесности.
Этот выпад вызвал в кругу «Благонамеренного» особое раздражение.
Почему кипели страсти вокруг имени Панаева? Он устранялся от полемик в печати; ни одного его выступления против «новой школы» мы не знаем. Неужели только из-за той роли, какую он играл в пономаревском кружке?
Чисто личные счеты? Любовное соперничество?
Вряд ли это так. Соперничество могло подогреть страсти, но не возбудить их. Оно придавало литературным разногласиям оттенок личной вражды.
Вспомним, что кружок Измайлова выдвигал Панаева как образцового поэта, которого можно противопоставить «романтикам».
«Русский Геснер», безукоризненный по благонамеренности и нравственности…
Кто не любит Геснера? – риторически спрашивал переводчик декларативного «Опыта об идиллии», – и Измайлов делал примечание под строкой: «Романтические поэты так называемой Новой школы. Изд.» [255]255
Благонамеренный. 1823. № 10. C.▫264.
[Закрыть].
В марте некто, скрывшийся под числовой анаграммой «4», что соответствовало букве «Д» или «Г», напечатал сонет «К Панаеву», где говорил о «недругах», клевещущих на «любимца муз», которого ждет венец в потомстве; о «зависти и гоненье», испокон веку преследующих истинное дарование [256]256
К Панаеву. Сонет // Благонамеренный. 1823. № 5. C.▫324. Подпись «4» И. Ф. Масанов вслед за Карцевым и Мазаевым расшифровывал как «Д<ельвиг>» ( Масанов И. Ф.Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей. М., 1958. Т. 3. C.▫352), что, конечно, невероятно.
[Закрыть].
А в № 16 «Благонамеренного», вышедшем в свет как раз в то время, когда стала распространяться сатира, – билет на него был получен 6 сентября [257]257
ЦГИАЛ, ф. 777, оп. 1, № 370.
[Закрыть] – был помещен целый поэтический венок Панаеву. Поводом для стихотворных посвящений служило обстоятельство вполне ординарное и непоэтическое. Панаев получил очередной чин.
Поэт-сослуживец, укрывшийся за инициалами «И. Т.», – вероятно, Иван Талбаев, член «михайловского общества», время от времени помещавший у Измайлова мелкие стихотворения, приветствовал начальника дружески почтительным посланием «Новожалованному коллежскому асессору».
Давно ли, сидя в кабинете,
Вдвоем мы строили мечты
И, забывая все на свете,
Друг другу говорили: ты?
Теперь прощай, уединенье!
И ты, о дружество, прощай!
Увы! О рангах уложенье
Гласит: чин чина почитай.
<…>
И как советник титулярный
Дерзнет с асессором иметь
Знакомства образ фамильярный
Или как с другом с ним сидеть?. [258]258
Благонамеренный. 1823. № 16. C.▫273.
[Закрыть].
«Благонамеренный» открывал новую страницу в истории русской лирики. Существовали шуточные послания, написанные языком профессиональных военных, признания в любви моряков и даже портных. Но там была стилизация, гротеск. Послание «И. Т.» было, конечно, тоже шуточным, но самая идея его была плодом департаментского вдохновения. Это была лирика титулярных советников.
Пушкин писал о «шутках коллежского советника Измайлова» и об «идиллическом коллежском асессоре Панаеве» [259]259
Письмо Л. С. Пушкину от 4 дек. 1824 г. // Пушкин А. С.Полн. собр. соч. [М.; Л.], 1937. Т. 13. C.▫127.
[Закрыть]. «Благонамеренный» был для него журналом чиновников.
В том же шестнадцатом номере было напечатано два альбомных стихотворения, адресованных Панаеву. «Вл.» – видимо, Владислав Княжевич – аттестовал его как любимого певца муз. Поэт «И. Ч.» желал ему всех возможных благ фортуны, даров дружбы и любви, здоровья, радости и, наконец, «еще венка в лучах» от муз и от Славы, – по-видимому, один Панаев уже имел [260]260
Благонамеренный. 1823. № 16. C.▫289.
[Закрыть].


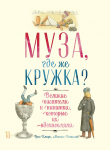

![Книга Писательницы пушкинской поры [историко-литературные очерки] автора Михаил Файнштейн](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-pisatelnicy-pushkinskoy-pory-istoriko-literaturnye-ocherki-195320.jpg)