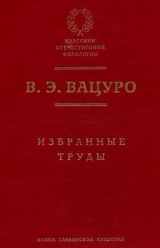
Текст книги "С.Д.П. Из истории литературного быта пушкинской поры"
Автор книги: Вадим Вацуро
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 17 страниц)
Очевидно, тот, кто скрывался под псевдонимом Мотыльков, находился в каком-то особом положении, и об этом было известно, по крайней мере, нескольким членам общества: председателю Измайлову и ближайшим его сотрудникам. Например, был дамой, в силу этикета сохранявшей свое инкогнито.
Но допустим, что Пономарева написала удачную литературную шутку. Способность ее к этому жанру доказывается хотя бы ее маленькой «речью» при открытии «Сословия друзей просвещения». Могла ли она написать стихи, выдающие руку профессионального стихотворца?
Вспомним письмо Измайлова к Дмитриеву еще 1821 года: «…переводит на русский прозой лучше многих записных литераторов; пишет весьма недурно стихи…».
Измайлов читал эти стихи, до нас не дошедшие.
Если же мы присмотримся внимательнее к тексту «письма» и стихов, включенных в него, мы, может быть, получим предположительный ответ и на третий вопрос.
Л. Г. Фризман обратил внимание на особенность «письма», отличающую его от всех без исключения полемических выступлений «Благонамеренного». Оно лишено памфлетности. В нем упоминаются «Полярная звезда» и «баловни-поэты» и широко использованы шаблоны элегической поэзии, – но нет излюбленных Измайловскими «кулачными бойцами» цитат из Дельвига или Баратынского, которые указывали бы конкретный адрес полемики. Это не столько пародия, сколько иронический, пародийно окрашенный пастиш, стилизация, смысл которой в том, что она неотличима от массовой журнальной лирики.
Именно так должна была писать Пономарева, ученица Измайлова, связанная дружескими узами с Дельвигом и Баратынским. Еще будучи председательницей «Сословия друзей просвещения», она возражала против «личностей», личных выпадов в полемике, и это требование было внесено в устав. Как бы ни нарушали его иные прочие, сама она должна была его хранить.
Но для чего нужна такая пародия-стилизация?
Для того, чтобы показать, что стихи «баловней-поэтов» превращаются в шаблон, в общее место. – и что любой подражатель может их написать и напечатать в журнале или в «Полярной звезде», если успеет к сроку. Они не требуют ни труда, ни таланта. Их писать легко.
Непосвященной публике предлагалась маска «страждущего поэта». Посвященным – маска Мотылькова. Софья Дмитриевна писала «недурные стихи», но не печатала их, ибо не считала себя поэтом. Она выступала в качестве именно непоэта, версификатора, с лукавой дерзостью требуя себе места на русском Парнасе, коль скоро там подвизались стихотворцы не лучше ее.
Это был вызов очень в духе тех каламбурных перепалок, какими обменивалась она с Баратынским.
А может быть, это и была перепалка?
Вспомним рассказ Андрея Дельвига и пересказ Гаевского. Пародиями интересовались в дружеском кружке. Когда вышел в феврале 1824 года «Замок Смальгольм», Пономарева сказала Дельвигу, что он не в состоянии написать таких стихов.
Не в состоянии, потому что нельзя имитировать настоящую поэзию. Стихи же «баловней» может написать всякий.
И Дельвиг принимает вызов: «Ничего нет легче». И он имитирует настоящую поэзию и включает в стихи сатирическое описание Измайлова и Федорова.
Позже, уже в 1825 году, эта пародия будет «дописана» Николаем Остолоповым, как было и с «Певцами 15-го класса», – так, чтобы осмеять Дельвига и Булгарина. Измайловский кружок опять прибегает к привычному «сам съешь».
Что же касается реконструируемого нами спора в феврале – марте 1824 года, – то существование его можно только предполагать, а не утверждать положительно. Кажется очень вероятным, что две пародии связаны между собой, – но прямыми ли отношениями диалога или косвенно, опосредованно, сказать с уверенностью нельзя. Появляются они, если мы примем рассказ А. И. Дельвига, почти одновременно: в феврале – марте 1824 года, но что было написано раньше, что позже – неизвестно.
Год начинался мистификациями, и Измайлов тоже захвачен общим поветрием. Он печатает письмо Мотылькова, а в одном из соседних номеров – стихи «Незабвенной» следующего содержания:
Как ты была вчера мила,
Когда нечаянно украдкой
Мне жаркий поцелуй дала.
Один… как быть! за то пресладкий!..
А перед тем, нахмуря взор,
Как бы нарочно мне в укор,
Так сухо молвила: не нужно!
Коль хочешь жить со мною дружно,
Не говори мне никогда
И в шутках этого: не нужно:
Не нужно —для меня беда.
Сказать ли тайну Незабвенной?
Люблю в тебе не красоту
(Поверь мне в этом, друг бесценный),
Но ум, таланты, доброту.
Под стихами подпись: «Сонъ». К названию же – «Незабвенной» – сделано примечание: «Так называю я милую мою невесту. Е. В. Ф. Соч.» [289]289
Благонамеренный. 1824. № 1. C.▫71.
[Закрыть]
Но ведь мы знаем уже эти стихи! Они составлены из строк посланий Измайлова к «незабвенной», которая вовсе не была его невестой и не имела инициалов «Е. В. Ф.».
Измайлов нашел-таки способ перенести на страницы журнала свои стихотворные письма и высказаться вслух. Он не мог подписаться «Софиин», «Софьин», ибо это был псевдоним Княжевича, и сократил его до анаграммы, – может быть, не без задней мысли, ибо в ней тоже заключались каламбур и мистификация.
«Со-н» – так в «Благонамеренном» и «Соревнователе» подписывал свои мелкие стихи и шарады Михаил Михайлович Сонин, член ученой республики «соревнователей».
Издатель «Благонамеренного» проказничал, но довольно забавно. Увидев подпись «Сонъ», всякий сведущий должен был бы прочесть ее как «Сонин». Отпереться было можно: почему именно Сонин, а, скажем, не Соковнин или Сорокин? Но в Сонине-то и заключалось все дело: «Сонин» – поклонник, поэт, принадлежащий «Соне». Каламбурный шифр, знак, тайнопись полушуточная, полудружеская, полулюбовная.
«Благонамеренный» был неисправим. В нем то и дело прорывалась «домашняя переписка» издателя, привыкшего являться своим читателям в халате.
Кто мог знать, что эти шутки оборвутся на полуслове через месяц – другой!
* * *
31 марта, за неделю до пасхи [290]290
Вестн. Европы. 1867. № 12. C.▫82.
[Закрыть], приходившейся в 1824 году на 6 апреля, в Петербург вернулся Панаев. Мы знаем уже, что он ехал в столицу уже помолвленным с Прасковьей Александровной Жмакиной, дочерью казанского губернатора и первой невестой в городе. На следующий же день («во вторник на Страстной неделе») Пономарева прислала его поздравить. «В первый день светлого праздника», рассказывал он в мемуарах, он приехал «похристосоваться», – и здесь узнал тревожную новость. «Муж печально объявляет, что она нездорова, лежит в сильном жару. Пошел, однако, спросить, не примет ли меня в постеле, но возвратился с ответом, что не может, а очень просит заехать в следующее воскресенье. Приезжаю – какое зрелище?! Она была уже на столе, скончавшись в самый этот день от воспаления в мозгу!»
* * *
Мемуары спрессовывают время. Мы знаем точный день смерти Пономаревой – 4 мая; по воспоминаниям Панаева, он приходится на 13 апреля. События в них развиваются стремительно; память выхватывает драматические эпизоды, располагая их в непосредственной близости друг от друга.
Через тридцать лет Панаев уже не помнил, что со времени его приезда до смерти Пономаревой прошло не две недели, а более месяца. Он помнил лишь, что так и не увиделся с прежней своей возлюбленной, – пытался, но не смог, не сумел.
«В апреле 1824 года Софья Дмитриевна заболела горячкою и скончалась в величайших мучениях», – рассказывал Гаевскому П. А. Плетнев [291]291
Гаевский В. П.Дельвиг. Ст. 3 // Современник. 1854. № 1, отд. 3. C.▫40–41.
[Закрыть]. Через год, 17 апреля 1825 г., Измайлов будет вспоминать в письме к Яковлеву: «…теперь уже она была больна» [292]292
ИРЛИ, 14.163/XXVIIIб7.
[Закрыть].
«Она скончалась после продолжительной и мучительной болезни», – напишет он в некрологическом известии в журнале [293]293
Благонамеренный. 1824. № 8. C.▫146–147.
[Закрыть].
Панаев ошибся потому, что он сохранил ощущение, которое владело всеми, – ощущение неожиданно свалившегося несчастья. Один Измайлов знал, что беда не свалилась, а подкралась. Он оставался в Петербурге, он был другом семьи и вместе с родными переходил от тревоги к надежде, от надежды к отчаянию. В его рукописном сборнике сохранились два стихотворения, написанные в эти дни. Они стоят рядом – и самое соседство их выразительнее любых описаний. Одно, забавное и нежное, называется «Молитва об исцелении Софьи Дмитриевны»:
Боже! ее храни!
Софии долги дни
Дай на земли.
Милой проказнице,
Страстной собачнице,
Музе и Грации,
Чести всей нации
Все консолации
Ты ниспошли.
Здравье, спокойствие
И удовольствие,
Крошку терпения,
Все утешения
И наслаждения
Ты ниспошли.
Боже! ее храни!
Софии долги дни
Дай на земли.
Апр. 1824.
Может быть, он успел прочитать ей эту шутливую пародию официального гимна «Боже! царя храни», чтобы ободрить и развлечь больную.
Второе стихотворение – «Молитву об исцелении друга» – он, скорее всего, не показал никому. Это была действительно молитва, с какой обращается к богу верующий русский человек в минуту душевной тоски и смертельной тревоги:
Он уповал на чудо. Видимо, искусство врачей и силы самой природы были истощены.
Это были последние стихи о Пономаревой, написанные при ее жизни.
* * *
«Ты ли это, София? Где живой румянец, игравший на прелестных щеках твоих? Где пронзительные взоры, блиставшие веселием и остроумием? Где восхитительная улыбка? Лицо твое покрыто смертною бледностью; глаза сомкнулись, сомкнулись навеки! Видна еще улыбка; но это не улыбка радости, а горести, страдания, смерти!»
Измайлов писал «Мысли при гробе С. Д. П.» в духе надгробных речей Боссюэ, полные ораторского пафоса, с риторическими вопросами, периодами и единоначатиями, сквозь которые пробивалось подлинное, живое чувство.
Он вспоминал о добром сердце покойной, о ее любезности и добродушии и упоминал о зависти и злобе, которые умолкают только перед лицом смерти.
«Забуду ли когда-нибудь счастливые часы, проведенные вместе с тобою? Вижу как теперь волшебные твои взгляды, очаровательную улыбку; слышу, кажется, как ты говоришь, читаешь. Ты была украшением, душою дружеских наших ученых бесед; ты оживляла их своею любезностью и остроумием. Ты родилась для славы, для счастия. Судьба, казалось, улыбалась тебе… обманчивая, вероломная улыбка!..»
Он переложил эту речь в стихи – в «Кантату на кончину С. Д. П.»:
Окончились твои несносные мученья!
Умолк болезненный твой стон!
Грудь не колеблется. Ни вздоха, ни движенья!
Как крепок твой, София, сон!
Нет, не дождаться нам Софии пробужденья!
Дни и недели,
Месяцы, годы,
Веки пройдут;
Но не прервется
Сон твой, София!
И не погибнет
Память твоя! [295]295
Измайлов А. Е.СПб., 1849. Т. 1. C.▫213.
[Закрыть]
Хоронили на Волковом кладбище. Изма й лов описывал сцену прощания.
«Несчастный супруг твой в отчаянии; малютка-сын не в силах удержать слез своих и рыданий; на всех лицах вижу непритворную печаль и соболезнование. С трепетом прикладываю уста мои к холодному челу твоему. И вот уже тонкое покрывало задернуло бледное лицо твое, зазвучала гробовая крышка. Прости, София! прости навеки!» [296]296
Благонамеренный. 1824. № 9 (дата: «5 мая 1824»): Измайлов А. Е.Указ. соч. СПб., 1849. Т. 2. C.▫557–559.
[Закрыть]
Среди провожавших был и Панаев. «Когда я, рядом с отцом ее, шел за ее гробом, – вспоминал он, – он сказал мне: „Если бы она следовала вашим советам и сохранила вашу дружбу – мы не провожали бы ее на кладбище“. Не могу сказать положительно, каким образом узнал он о моих дружеских советах. Может быть, по своей откровенности, в минуты сожаления о прошлом, она высказалась сестре, а та передала отцу» [298]298
Вестн. Европы. 1867. № 9. C.▫267.
[Закрыть].
Трудно придумать что-либо более выразительное.
Вспомним рассказ Панаева: «Приятели Яковлева введены им в дом; насчет водворения его пошли невыгодные для бедной Софьи Дмитриевны толки; отец, сестра перестали к ним ездить… я выразил ей мое негодование, указал на справедливость моих предсказаний и прекратил мои посещения…»
Она была сама виновата в своей судьбе. Она и Яковлев с «приятелями», давшие пищу петербургской сплетне.
Две старые, как мир, формулы: «сам виноват» и «я же говорил» – составляют символ веры ходячей морали.
Нет ничего удивительного, что подавленный горем старик Позняк прибегнул к их помощи. Удивительно скорей другое: тайное, быть может, неосознанное удовлетворение, с которым вспомнил о них Панаев спустя тридцать с лишним лет. И непроизвольное движение: откуда отец узнал о его советах? Ведь ни разговоры наедине, ни отношения с Пономаревой, перешедшие границы про сто дружеских, ни тайные встречи в Летнем саду, со слезами раскаяния, – не были рассчитаны на посторонние глаза и уши.
Все это благоразумно облекалось теперь в одежды дружбы почти отеческой. И этой дружбе приписывалась почти магическая способность уберечь от искушений неосторожную и легкомысленную женщину-ребенка и чуть что не сохранить ей жизнь. «Если бы она следовала вашим советам и сохранила вашу дружбу, – мы не провожали бы ее на кладбище».
Нет, Позняк, конечно, ни о чем не догадывался, – и потому естественно принял правила игры. И то же, и по тем же причинам сделал совершенно убитый своей потерей Аким Иванович Пономарев.
И только простодушный Измайлов, не умевший кривить душой, знал все. Но он не искал виновников, которых не было. Он был привязан к покойной сам, не держал зла на своих счастливых соперников и был дружески расположен к мужу. Скрывать ему было нечего. Безвременная смерть любимого им существа была для него насмешкой судьбы, а то, что отравило ей жизнь, – «завистью» и «злобой».
Так он третировал «невыгодные толки», с которыми и Панаев, и Позняк считались как с общественным мнением, – и изливал свои чувства в письмах к Павлу Яковлеву, которого друзья его считали косвенным виновником совершившейся драмы.
* * *
Печальная колесница достигла жилища мертвых, описывал Измайлов день похорон. «Руки родственников и друзей несут тебя сквозь надгробные памятники к могиле. Медленно опустился в могилу блестящий гроб. Сухая земля и песок сыплются на бархат и золото».
Он написал эпитафию: «Все скрыто здесь: и ум, и красота, Любезность, дарованья, Вкус тонкий, острота, Приятные и редкие познанья И непритворная прямая доброта» [299]299
Измайлов А. Е.Указ. соч. Т. 1. C.▫330.
[Закрыть]. Это было то, что он больше всего ценил в людях, – но похвала его стирала живые черты.
Они мелькнули – в последний раз – в двух других эпитафиях – Гнедича и Дельвига.
Стихи Гнедича назывались «На смерть N. N.». Дельвиг, собиравший в 1824 году альманах «Северные цветы», поместил их в первой книжке своего альманаха:
Цвела и блистала,
И радостью взоров была;
Младенчески жизнью играла
И смерть, улыбаясь, на битву звала;
И вызвав, без боя, в добычу нещадной
С презрением бросив покров свой земной,
От плачущей Дружбы, Любви безотрадной
В эфир унеслася крылатой душой! [300]300
Гнедич Н.Стихотворения. СПб., 1832. C.▫203.
[Закрыть]
Стихи были хороши и искусны, – но чересчур искусны, и потому на них лежала печать некоторой манерности. Брошенный с улыбкой вызов
смерти – это скорее годилось бы для средневекового паладина, а не для молодой женщины, которая вовсе не хотела умирать. К земной своей оболочке Пономарева вовсе не испытывала «презрения». Все это шло от мадригальной поэзии, соединенной с неоплатоническими идеями о «небесной отчизне», которые скоро станут штампом романтической лирики.
Но в стихах была одна счастливая находка: «Младенчески жизнью играла…» И Гнедичу, и Дельвигу, и Панаеву, и, вероятно, многим другим Пономарева предстала в виде ребенка, шаловливого и непосредственного, беззащитного и бесстрашного, потому что он не знает, что такое опасность. И Дельвиг воспользовался этим образом. Его «Эпитафия» появилась в печати позже, в следующей книжке «Северных цветов», когда она была написана, мы не знаем. Но связь ее с эпитафией Гнедича несомненна, и можно думать, что он перефразировал старшего поэта:
Жизнью земною играла она, как
младенец игрушкой.
Скоро разбила ее: верно, утешилась там.
Друзья, поклонники, завсегдатаи кружка ставили нерукотворные памятники Софье Дмитриевне.
Измайлов был озабочен и памятником «рукотворным».
Глава VIII
In memoriam
Все пройдет!
А. Е. ИЗМАЙЛОВ – П. Л. ЯКОВЛЕВУ [301]301
Все цитаты из писем Измайлова // ИРЛИ, 14.163/ XXVIIIб7.
[Закрыть]12 октября 1824 года.
Сию минуту получил письмо за черною печатью – от Акима Ивановича. Он тебе кланяется. Надгробие мое незабвенной С. Д.: «Кто знал ее, слезу на прах ее уронит»– очень ему понравилось. Я знаю людей, – пишет он, – которые ненавидели ее при жизни, а теперь отдают полную справедливость ее душевным качествам.Вот так-то! всегда справедливее мы бываем к мертвым, а не к живым.
Сегодня хотел было я обедать у Пукалова, но звали в другое место. Середняя из Граций празднует ныне день своего рождения – и приглашает меня. Как отказать Грации? Приеду к ней откушать и старшую Грацию послушать. После кофею тотчас на извозчика и марш-марш на Волково кладбище – сперва на могилу к незабвенной, а потом к мастеру Тюшину для переговоров о памятнике любви и дружбы.Это выражение не мое, а Акима Ивановича, в последнем его письме ко мне. О себе он ничего не пишет.
14 октября.
Сию минуту с Волковского кладбища. Рука едва ходит, потому что еще не согрелась. – Был на могиле незабвенной С. Д. Надгробный камень покрыт на ладонь снегом, а на снегу следы человеческие, птичьи и honny soit qui mal у pense [302]302
Пусть будет стыдно тому, кто дурно этом подумает ( фр.).
[Закрыть] – собачьи. К счастию, Тюшина застал дома. Обо всем с ним переговорил и дал ему как свой адрес, так и П. П. Татар<инова>. Памятник через неделю будет готов, и по окончании оного Тюшин обещался явиться ко мне. Я оставил ему две надписи:1) Кто знал ее, слезу на прах ее уронит;2. С. Д. П. род. 25 Сент. 1794 сконч. 4 Маия 1824. – Последнюю велел оставить, потому что он такую же, или почти такую же, получил от тебя. Хотел я взглянуть на нее; но он не отыскал, потому что приказчика не было дома и он унес все надписи и рисунки. Я велел вырезать точно так, как назначено тобою.
22 октября.
Третьего дня был я у Татаринова и отдал ему эстампы, которые он в тот же день хотел отослать к Ак<иму> Ив.<ановичу>. Сей последний, как заключает Татаринов по последнему письму его, довольно теперь весел и спокоен. Ожидаю со дня на день к себе надгробного мастера и на днях хочу сам у него побывать. Авось удастся в субботу.
27 октября.
В субботу хотел быть у меня и Варламов, но не был. Я послал ему с Козловским кантату на кончину незабвеннойи просил его положить на музыку. О том же попрошу и Мих.<аила> Лукьян<овича>. <…>
Квартира Ак.<има> Ив.<ановича> все еще стоит пустая. Не могу пройти мимо окон этого дома, чтобы не перевернулось у меня сердце. Самая могила С. Д. не производит надо мною такого действия, как окно, у которого она сидела обыкновенно в своем кабинете.
5 ноября.
Неужли Позняк и теперь еще не приехал? Неужели он все гостит у Акима Ивановича? <…>
Мастер Тюшин все еще не является ко мне, а я истинно не имел времени быть у него. Надобно непременно съездить к нему утром. Во что бы то ни стало, поеду в нынешнюю субботу. Что бы вместе?
6 ноября.
Вчера обедал я у Шленевых. Шленева рассказывает мне сон свой. «Я видела, говорит, сегодня во сне С. Д. Такая она была хорошая, белая, румяная и повыше, нежели была живая. Я не могла налюбоваться ею». – Прихожу домой, и Катенька подает мне надгробную надпись, данную мною мастеру Тюшину с адресом моим и Татаринова. Тюшин был утром без меня и сказывал, что памятник С. Д. Поставлен уже на могилу. В субботу утром непременно туда поеду и отслужу панихиду.
И я сегодня видел во сне С. Д., – а месяца 4 уже не видал ее, хотя беспрестанно об ней думаю. Видел, будто она едет к нашему дому с Волковского кладбища на санках и держит маленький розовый гроб.
9 ноября.
Посидел дома до половины 10 часа – нет нашего именинника. Пошел, повеся голову, по Лиговскому каналу, шел, шел, дошел до Знаменья, взял извозчика и поехал на Волковское кладбище. Иду к памятнику С. Д. Не ожидал я, чтобы он был так хорош. Хвала мастеру Тюшину! Славно выполировал гранит. И как хорошо идут белые мраморные фризы к темно-красному граниту. Бронзовые украшения, слова, все, все очень хорошо. <…> Посаженные у могилы 4 березки сломило бурею. Я хотел было отслужить панихиду, но в церкве сам дьячок сказал мне, что в царские дни панихид не служат. И так воротился я на могилу, помолился и за себя и за тебя и поехал в Де-парт<амент>.
20 ноября.
Удивила меня Соф<ья> Ив<ановна> Окунева. Я заходил к ней в воскресенье. <…> Услышав от меня, что поставили уже над С. Д. Памятник, она заплакала и ушла в другую комнату. Минут через пять воротилась; слезы блистали на глазах ее… а какие бишь у нее глаза?
26 ноября.
Недавно встретился с П. П. Татариновым. Он писал к А. И. о памятнике. А. И. еще живет в деревне и кажется не думает сюда приехать.
6 января 1825 года.
И я в новый год перед обедом, когда Евсеевы с братцем и Ивановым запели прежалобно: не белы-то снежки, при словах: сама горько плачет, вспомнил кой-что и заплакал – а жена и увидела. Скучно, грустно, любезнейший племянничек – с нового года почти не улыбаюсь – изредка при получении с почты billets doux [303]303
Билетец ( фр.).
[Закрыть] – но и тех еще в нынешнем году не получал.На праздниках встретился я с Д. П. Позняком у Княж<евичей>. А. И. все еще живет в деревне.
9 января 1825 года.
Правду твердишь ты, любезнейший мои племянничек: все пройдет!И грусть моя проходит – я начинаю уже улыбаться.
13 января.
Ах, как глуп Борька в честной компании. Смел он, сукин сын, упрекнуть меня при Кат<еньке> стихами к покойной С. Д., напечатанными в Северн. Цветах.< …>
Два раза на сих днях видел во сне незабвенную.Побываю на могилке, помолюсь и за нее и за себя и за тебя.
17 апреля.
…Бог добр, как говаривала покойная Софья Дмитриевна. Накажет, да и помилует.
17 апреля.
Не осталось ли у тебя сколько-нибудь портретов незабвенной Софьи Дмитриевны. Слезно просят по экземплярчику для альбомов Дмитрий и Влад. Княжевичи, также и Панаев. Пришли, если есть у тебя, а буде нет, то дай мне знать, не осталось ли у Ак. Ив. Вот скоро будет год, как не стало С. Д. Теперь уже она была больна.
4 мая.
Был на Волковом кладбище и отслужил панихиду по незабвенной С. Д. Свящ<енник> сказал мне; вы часто служите: не родня ли вам?
5 мая.
Одна жеманная дама, услышав, что я накануне служил по С. Д. Панихиду, спросила меня с улыбкою: разве она вам родня? – Я отвечал, что искренних друзей предпочитаю многим родным. – Черт просит этих благочестивых дам мешаться в мои сердечные дела.
25 мая.
Спасибо за портреты незабвенной С. Д. Ах, зачем нет тебя здесь – пошли бы вместе с тобою на кладбище. Портреты отдал я старшему Княжевичу и Панаеву. Оба велели благодарить тебя.
* * *
На Волковом кладбище стоял памятник темно-красного гранита с белыми мраморными фризами. На нем была высечена надпись: имя, даты, стих: «Кто знал ее, слезу нa прах ее уронит».
Нередко в тишине ночной
Сей скромный памятник камены окружают
И с Грациями здесь рыдают
О милой их сестре родной.
Это была еще одна эпитафия, написанная Измайловым. Вместе с двумя другими они составили венок – «Надгробия Софье Дмитриевне Пономаревой»; Измайлов напечатал их в апрельской книжке журнала, вышедшей в свет в конце мая [304]304
Благонамеренный. 1824. № 8. C.▫146–147.
[Закрыть]. В примечании он напомнил о дружеском литературном обществе, где она была председателем.
В следующей книжке он поместил «Мысли при гробе С. Д. П.» [305]305
Там же. № 9. C.▫205.
[Закрыть].
Вместе с Яковлевым он издал альманах «Календарь муз на 1826 год» и там рассыпал свои старые экспромты, альбомные мадригалы и посвящения Софье Дмитриевне, – те, которые мы уже знаем; «В альбом N. N.» («Счастливец, Гектор, ты счастливец…»), «Экспромт С. Д. П.», впрочем, здесь же нашла себе место и скорбная кантата его «На кончину С. Д. П.». Панаев отдал ему стихотворение, которое когда-то записал ей в альбом: «Пускай другие в том согласны, Что вы и милы и прекрасны…» Для него все это уже было в прошлом: почти рядом с этими старыми увлечениями нашли себе место стихи, обращенные к жене: при посылке портрета и при посылке идиллий. Измайлов словно спешил теперь напечатать все, что писал когда-то Пономаревой, все, что было можно: стихи на болезнь ее – в «Невском альманахе на 1825 год», стихи на день ангела и экспромт («Могу сказать я про себя…») – в следующей книжке того же «Невского альманаха». И после смерти дамы он оставался верным ее вассалом; его ли вина, что при жизни ее он был домашним ее поэтом и теперь у него в руках были только стихотворные мелочи, интересные разве тем, кто, как и он, близко знал адресата? Он сделал для ее памяти все, что было в его силах, но из мадригалов и стихов на случай не мог получиться нерукотворный памятник.
Его поставили не друзья – скорее противники.
* * *
В конце марта 1824 года в булгаринских «Литературных листках» появилось извещение, что «К. Ф. Рылеев, с позволения автора, вознамерился издать <…> сочинения Баратынского, известного публике своими прекрасными элегиями, посланиями, воспоминаниями о Финляндии и поэмой „Пиры“» [306]306
Об истории сборника см.: Баратынский Е. А.Полн. собр. стихотворений. Т. 1. Л., 1936. C.▫342 и след. Дата выдачи билета № 5 «Литературных листков» (с извещением) – 24 марта 1824 г. (ЦГИА, ф. 777, оп. 1, № 370).
[Закрыть]. Софья Дмитриевна, вероятно, успела прочитать это объявление в самый канун своей смертельной болезни.
Весной того же года Баратынский писал Бестужеву и Рылееву из Финляндии, что в тетрадях, которые он у них оставил, стихи переписаны без всякого порядка, и «особенно вторая книга элегий имеет нужду в пересмотре», – а он хотел бы, чтобы пьесы «по своему расположению представляли некоторую связь между собою, к чему они до известной степени способны». Он просил, чтобы издатели сами «классифицировали» его стихи [307]307
Боратынский Е. А.Стихотворения. Поэмы. Проза. Письма. C.▫469–470, 494 II. С. Д. П.
[Закрыть].
Он собирался составить из элегий три книги с развивающимся сюжетом, как делали это французские элегики, в частности Парни. Сразу же скажем, что свое намерение он выполнил.
Что было в его «тетрадях», оставленных у Рылеева, мы не знаем: они до нас не дошли.
В Финляндии застает его известие о смерти Пономаревой. Как он воспринял его – мы не знаем. За это время не сохранилось ни одного письма его к общим знакомым, и ничего нельзя вычитать из его стихов, не имеющих к тому же точных дат. В середине июня он приехал в столицу, встречался с Львом Пушкиным, Гречем, Дельвигом, А. Тургеневым, Жуковским; был у Рылеева и Бестужева. Он провел в столице почти два месяца; в начале августа уехал и увез с собой тетради. Бестужев считал, что это неспроста и что его подучил Воейков [308]308
См. в нашей книге: Северные цветы. История альманаха Дельвига – Пушкина. C.▫22–29.
[Закрыть]. Но, может быть, подозрительность его была неоправданной и Баратынский собирался сам заняться составлением своего сборника.
Стоит пожалеть, что мы не знаем тогдашнего содержания замышляемой книжки. Все-таки с пономаревским кружком был связан целый этап его биографии, – и смерть Пономаревой могла как-то отразиться в сборнике, который готовился под свежим ее впечатлением. Впрочем, это далеко не обязательно: даже события, глубоко отпечатывавшиеся в сознании поэта, не всегда оставляли в творчестве его явный след: так, смерть Пушкина, поразившая его, сказалась в его стихах лишь в безнадежном пессимизме последних строф «Осени». Смерть Пономаревой не была для него, конечно, таким потрясением; увлечение прошло, да и в разгар свой не захватывало его целиком. Новые события, новые друзья, женщины и мужчины, вытесняли из памяти недавнее прошлое. В Фридрихсгаме он кокетничал слегка с Аннет Лутковской, племянницей командира Нейшлотского полка, его начальника и старинного знакомого семьи. У Лутковской был альбом, куда писали подруги и посетители дома, – типичный альбом провинциальной барышни. Несколько стихотворений посвятил ей и Баратынский.
Среди этих стихов мы находим и такие, которые первоначально адресовались Пономаревой.
Так, стихотворение «Когда неопытен я был…», находившееся когда-то в утраченном ныне альбоме Софьи Дмитриевны [309]309
Вестн. Европы. 1894. № 3. C.▫437.
[Закрыть], Баратынский напечатал в «Полярной звезде на 1825 год» под названием «Л-ой». Конечно, он отдал его Рылееву и Бестужеву еще в свой июньский приезд.
В альбом же Лутковской он вписал «Вы слишком многими любимы…» – этот мадригал был еще в марте 1821 года написан им для Софьи Дмитриевны, а потом и напечатан. И там же мы находим стихи «Мила, как Грация, скромна, как Сандрильона…», которые в 1827 году обнародовал Воейков в «Славянине» под названием «В альбом Софии». Есть предположение, что стихи эти тоже были обращены к Пономаревой, а после переадресованы [310]310
Баратынский Е. А.Стихотворения. Поэмы / Изд. подгот. Л. Г. Фризман. М., 1982. C.▫587.
[Закрыть].
Что означало все это, – забвение, равнодушие к памяти?
Измайлов сохранял посвящения при альбомных мадригалах, – Баратынский спокойно и легко адресует их другой женщине.
В отличие от Измайлова, он не видит в них памятного знака, потому что в них самих нет ничего от их адресата. Альбомные стихи – плод искусства и остроумия, они принадлежат всем – и никому; они годятся для любого альбома. В альбом Пономаревой он свободно мог бы вписать стихи, не ей посвященные. Иное дело – элегия или послание…
События, исторические и личные, надвигаются неудержимо; самые основания биографий колеблются…
В конце 1824 года его захватывает чувство, не сравнимое с тем, какое он уже испытал. Не интеллектуальный роман – темная стихия, неудержимо притягивающая и отталкивающая: Аграфена Закревская, вакханка, Магдалина, «беззаконная комета»…
Взгляни на лик холодный сей,
Взгляни: в нем жизни нет;
Но как на нем былых страстей
Еще заметен след!
В письме к новому своему другу – Путяте – он перефразировал надгробную речь Боссюэ Генриэтте-Анне Английской, герцогине Орлеанской: «Вот она, принцесса, любимая и лелеемая! вот во что превратила ее смерть; сейчас исчезнет эта тень славы, и с нее упадут даже эти печальные украшения!»
«Вот во что превратили ее страсти!» – вторил Боссюэ Баратынский, вспоминая о «Магдалине».
Стихи, вероятно, тоже были адресованы Закревской [311]311
Баратынский Е. А.Полное собр. стихотворений. Л., 1957. C.▫123, 352 (примеч. Е. Н. Купреяновой).
[Закрыть], – как и некоторые другие, написанные в конце 1824 – начале 1825 года.
Но они появились в «Северных цветах на 1826 год» рядом с эпитафией, которую Дельвиг посвятил памяти женщины-ребенка, разбившей жизнь, как игрушку.
Быть может, соседство это было случайным. А может быть, Дельвиг, располагавший стихи в альманахе, решил, что это эпитафия тому же лицу? Название «Надпись» могло поддержать такое предположение.
Еще в прошлом альманахе он напечатал посвященные ей стихи Измайлова и эпитафию Гнедича, с которой, как мы знаем, была связана и его собственная эпитафия в книжке на двадцать шестой год. Это была дань памяти, приносимая осторожно, без шума, – только для тех, кому имя Пономаревой что-то говорило. В конце 1825 года он должен был соблюдать особый такт: он женился 30 октября, после полугодового знакомства и сильного увлечения, на Софье Михайловне Салтыковой. Это было глубокое чувство, и, как и у Баратынского, оно должно было сильно сгладить, если не стереть, прежние любовные привязанности. При всем том он рассказывал, как мы знаем, молодой жене о «некоей Софье Дмитриевне, которая уже давно умерла», и о своей прежней, давно угаснувшей, любви к ней, – и жена ревновала. Она была, кажется, в чем-то похожа на Софью Дмитриевну, – и именем, и живостью нрава, и даже сменяющимися увлечениями, – случайно ли это сходство?








