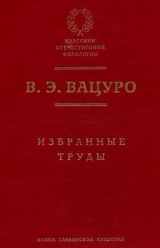
Текст книги "С.Д.П. Из истории литературного быта пушкинской поры"
Автор книги: Вадим Вацуро
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц)
Сумрачный безумец, которому легенда приписывала безнадежную романтическую страсть, заключил в этих строках любовный опыт, почти не изменившийся за двести сорок лет. Он подверг этот опыт осмыслению, рефлексии, отделив его от собственной личности и воплотив в художественном образе. Армида была портретом, в котором дышала человеческая жизнь. Ее можно было узнавать в живых людях, – и Сомов сделал это. Облик старинной обольстительницы сквозил в его письмах; в дневнике он нашел самое слово и произнес его.
Ни в лирике, ни в повестях Сомова мы не найдем, однако, ни подобного образа, ни подобного анализа. Он остается достоянием писем и дневников. Русская проза двадцатых и даже тридцатых годов – еще не психологическая проза. Почти через двадцать лет Лермонтову придется полемически уравнивать в правах историю общества и «души человеческой»; сейчас последняя – еще частное дело, область эмпирического быта, еще не вызванная к жизни литературным сознанием. Но процессы тайного взаимопроникновения, диффузии идут неуклонно – и Орест Сомов берет в руки рыцарскую поэму, ища в ней современного жизненного содержания.
И, конечно же, Пономарева делает то же самое. Вероятно, Сомов обмолвился о сходстве ее с героиней Тассо, и мы вряд ли ошибемся, предположив, что она раскрыла четвертую песнь «Освобожденного Иерусалима». Она должна была узнать модель своего собственного поведения, но, в отличие от Сомова, посмотреть на него не извне, а изнутри, отдав себе отчет в своих тайных стимулах и побуждениях. И тогда она задала Измайлову тему для рассуждения, в котором ему предстояло раскрыть психологию Армиды, то есть сказать то, чего «Тасс» «не сказал». Измаилов отшутился: выполнить задание он не хотел – или не мог.
Когда метод историко-психологических параллелей из салонной игры перейдет в область эстетического сознания, в русской литературе появятся «Египетские ночи».
ДНЕВНИК О. СОМОВА
3 июня, в 7 часов утра.
Вчера в 7 часов я отправился на заседание общества в Михайловском дворце. Застал там Греча. Мы говорили (то есть мы с ним) о нынешних событиях во Франции и в нашем отечестве. Он рассказал мне о многом, что есть в либеральных журналах, между прочим, о голосовании ультра за то, чтобы дети протестантов воспитывались в католической вере. Они что, с ума сошли, эти молодчики? они принимают французов за избирателей?
На заседании единогласно избрали Булгарина, которого предложил я; это дало Гречу повод для замечания о плодах цивилизации и о просвещении века, – ибо литературный противник предлагает своего врага и оба нежничают друг с другом, как истинные друзья, и т. п.
Измайлов спрашивал у меня новости о Мадам. Я ничего не мог ему ответить, так как не видел ее уже шесть дней.
Греч разрешил мне написать к Каченовскому, чтобы предупредить его о злой и очень низкой пародии, которую Воейков собирается напечатать на него в «Сыне отечества». Греч даже просил меня написать ему об этом; у него были большие баталии с Воейковым по этому предмету, – и так как он не мог воспрепятствовать помещению этой статьи, он оставил своего милого приятеля поступать по своему усмотрению до 1 января 1822 г., а потом они расстанутся.
Булгарин намерен прочитать жестокую диатрибу против Воейкова под названием «Печать отвержения».
Мы вышли с Гречем около 9 часов, чтобы идти к Булгарину. По пути говорили о Мадам. Я с большим жаром говорил о ее прелести, уме и талантах. Греч заметил: жаль, что она этого не осознает.
Булгарина мы не застали; я потом пошел к Яковлеву и к Бахтину, но тоже не застал ни того, ни другого. В половине одиннадцатого я вернулся домой, хотел сесть писать, и в этот момент постучали. Я открыл дверь и увидел входящего Яковлева; спросил его о новостях о Мадам, но он тоже ее не видел со вторника. Мы решили отправиться к ней завтра (т. е. сегодня). Посмотрим, что она мне скажет. Не знаю, но после вторника мне бывать у нее не радостно, а неприятно. Думаю, что вид у меня будет печальный, но я постараюсь сдерживаться и казаться веселым, безразличным, насколько это удастся.
Пришли передать мне приглашение от князя на чашку чаю. Прерываю мой дневник, чтобы вновь приняться за него завтра или сегодня вечером.
Здесь нам вновь нужно остановиться. Запись выводит нас за пределы интимного мира Ореста Сомова. В ней слышатся дальние отзвуки литературных сражений, которые вскоре дадут себя знать в литературном салоне Пономаревой.
Мы помним, что без малого год назад Сомов обещал Измайлову, что начнет атаку против Жуковского и «новой школы». Журнальная война уже шла с января 1821 года. На стороне Сомова был Цертелев; против – Греч, Булгарин, Воейков, Бестужев. Но баталии не были окончены; напротив того, они только начинались, и в полемику втягивались все новые имена. Князь Цертелев еще в начале прошлого года ратовал в «Благонамеренном» против Дельвига, ученика Жуковского, как и он, предающегося «таинственным мечтаниям» по образцу немецких поэтов [108]108
См.: Мордовченко Н. И.Русская критика первой четверти XIX века. М.; Л., 1959. C.▫186, 166–169, 326.
[Закрыть], – а в скором времени к нападкам на «мистицизм» добавились и другие. Стихи всей этой молодежи прославляли вино и чувственные утехи; они были безнравственны.
Всегда тверди сто раз одно:
Звон чаши золотой, пенистое вино,
Восторг любви, конец желаний
Есть – сладострастие!
Так значились в пародийных «Правилах нынешних молодых поэтов», опубликованных в журнале Измайлова еще в начале 1821 года [109]109
Благонамеренный. 1821. № 3. C.▫146–147 (подп.: … Москва).
[Закрыть].
Цертелев писал 25 марта 1821 года графу Хвостову о харьковских дарованиях, «не зараженных еще духом новой школы: пиитическим буйством и мистицизмом», о чем он не может вспомнить «без досады». «Скажите, ради бога! долго ли будут потчевать нас бесстыдством и таинственностью? долго ли самозванцы небожителибудут говорить языком, которого смертные не понимают, а боги не хотят слушать? что будет с нашею литературою, если этот вкус еще несколько лет процарствует?» [110]110
ИРЛИ, ф. 322, № 69, л. 182 об.
[Закрыть]
Итак, «бесстыдство» и «таинственность». Любовные стихи Дельвига и Баратынского, сцены в «Руслане и Людмиле» оскорбляли в критике чувство нравственного, но антологические стихи Панаева он готов был принять, и сам, случалось, писал в анакреонтическом духе.
Такова условность литературной этики.
В тот день, когда произошло описанное Сомовым заседание, чтений в обществе не было. Это было публичное собрание, где обсуждали вопрос о программе торжественных чтений, назначенных на 15 июля, день юбилея общества [111]111
Архив Общества в ЛГУ.
[Закрыть]. Но за неделю до этого, 26 мая, когда Сомов также присутствовал и даже читал свою «Песнь о Богдане Хмельницком, освободителе Малороссии», элегик А. А. Крылов выступил вдруг со стихотворным памфлетом. Он назывался «Вакхические поэты» и был направлен против прежних друзей Крылова – Дельвига, Баратынского; именно их поэтический венок, «обрызганный вином», должна была, по мнению Крылова, поглотить река забвения. Эти стихи были вызовом – и на них Баратынский готовил ядовитый ответ, который и был напечатан несколько месяцев спустя [112]112
См. в нашей статье: Из истории литературных полемик 1820-х годов // Филол. зап. Воронеж, 1972. № 3. C.▫178. Текст стихотворения см.: Поэты 1820-х – 1830-х годов. Т. 1. C.▫242–243.
[Закрыть].
Однако вернемся к дневнику Сомова.
4 июня 1821 в 7 часов утра.
Я был у нее. Я провел у нее весь вчерашний день. Яковлев не пришел; я застал у нее Панаева и этого вечного Лопеса, впрочем, славного малого: он много раз приглашал меня к себе, и, поскольку я намерен изменить теперь мое поведение с нею, я с удовольствием посещу его в одно из воскресений.
Какой холодный прием она мне оказала! У нее был немного недовольный вид, когда она справлялась о моем здоровье; я ответил, что чувствую себя прекрасно.Минутой позже Лопес попросил разрешения откланяться под предлогом поездки на охоту или чего-то в этом роде. Она побежала за ним, якобы для того, чтобы остановить увязавшуюся за ним собаку. Я видел эту уловку и остался в комнатах. Через четверть часа я вышел подышать воздухом и заметил ее у дальнего угла канатной фабрики. Так как они с Лопесом наверняка меня видели, я решил присоединиться к ним. Он ушел, и я проводил Мадам в комнаты. Там произошел короткий разговор наедине, во время которого она упрекала меня, что я не дождался ее во вторник и уехал не повидавшись; как и следовало ожидать, она еще раз произнесла обычную длинную проповедь относительно моих претензий и т. д. и т. п. Ее супруг и Панаев вышли к нам, и переговоры окончились. Я хотел тотчас же уйти, но она принудила меня остаться. Меня подогревало любопытство, и я отпустил моего кучера. После завтрака она села за пианино, и я стал просить ее спеть «Ragazze <1 нрзб.>», что она исполняет прелестно. Панаев напомнил ей о моем романсе «Ты мне велишь пылать» и т. д. [113]113
См. письмо от 11 мая 1821 г.
[Закрыть], она спела и его. Это мне было неприятно; я хотел бы никогда не сочинять этого проклятого романса, ибо он был пробным камнем моих чувств. Поэтому я быстро взял трость и шляпу и вышел прогуляться до дачи графини Безбородко.Возвращаясь, я встретил Мадам с Панаевым, которые тоже вышли на прогулку. Вежливость требовала, чтобы я присоединился к ним, что я и не преминул сделать. Во время разговора зашла речь о Яковлеве; я сказал ей, что она плохо с ним обошлась, и тем самым дал простор ее выпадам против претензий и т. д. и т. п. Он хочет, сказала Мадам, чтобы все занимались исключительно им, он думает, что им пренебрегают… (NB. Он тут не при чем, это сказал ей я в одном из моих писем, так что я прекрасно понял, кому это косвенно было адресовано). Вернувшись, я сильно насмешил ее за обедом, так что в результате у нее начался нервный припадок. Как жаль, что такая прекрасная телесная организация подвержена истерическим припадкам! У нее, которая должна была бы быть воплощением здоровья, исчислять всю жизнь моментами наслаждений, – у нее слишком слабые нервы: сколько-нибудь сильная радость, сколько-нибудь чувствительное огорчение выбивают ее из колеи и стоят ей часов страданий.
Все время этого посещения я, однако, чувствовал, что она хочет меня огорчить. Несколько раз она принималась оскорбительно смеяться, стремилась дать Панаеву выделиться на моем фоне и т. д. и т. д. Один раз Панаев сказал какую-то глупость, опрометчивость на мой счет, причем совершенно того не желая; она смеялась до колик. Она думает меня задеть, и ошибается: я разгадал ее намерение и смеялся вместе с ней. Чтобы привести меня в замешательство, требуется совершенно другое. Она не знает моего характера: ей неизвестно, что я снесу все от женщины, в особенности прелестной, но не стану ничего терпеть от мужчины, что я умею в словесных стычках отвечать на выпад выпадом и не однажды уже показывал и твердость, и умение владеть достаточно грозным оружием.
Я ушел в половине двенадцатого, сказать правду, не очень довольный проведенным днем.
* * *
Наступал звездный час Владимира Панаева.
В этот день – 3 июня – он вписывает в альбом «Madame» элегию «К родине», написанную в 1820 году в Тетюшах, в родовом поместье Панаевых под Казанью, с воспоминаниями о детстве, о волжских ландшафтах и о певце их – Державине. Эти стихи были Панаеву дороги – через много лет он собирался включить их в свои мемуары [114]114
Поэты 1820-х – 1830-х годов. Т. 1. C.▫716.
[Закрыть], в те самые, в которых он нашел место для хозяйки альбома.
Он вспоминал в них, как мы уже знаем, о своем триумфе и об удалении Поджио и Лопеса. О Сомове он не помнил, – или не счел нужным упомянуть.
«Я остался ближайшим к ней из прочих ее обожателей, – читаем здесь далее, – и вполне дорожил счастливым своим положением. Я очень любил ее, любил нежно, с заботливостью мужа или отца (ей было 22 года, а мне уже 29 лет), остерегал, удерживал ее от излишних шалостей, советовал, как и с кем должна она держать себя, потому что не всякий мог оценить ее милые детские дурачества; надеялся во многом ее исправить, требовал, чтобы она была внимательнее к мужу, почтительнее к отцу своему, человеку достойному и умному. Дело шло недурно: она во многом слушалась меня, в ином нет; нередко прерывала наставления и выговоры мои то выражением ребяческой досады, впрочем, мимолетной, то смехом, прыжками вокруг меня, или поцелуем, зажмурив, однако, узенькие свои глазки. Но вдруг втерся в дом их, чрез Александра же Ефимовича, тоже литератор, Яковлев…» [115]115
Вестн. Европы. 1867. № 9. C.▫265.
[Закрыть]
О Яковлеве речь впереди. Пока же Орест Сомов должен испить чашу до конца.
Воскресенье, 5 июня 1821.
Вчерашний вечер, который я провел у Измайлова, не знаю, почему, был не слишком наполнен. Было человек пятнадцать, почти все мне знакомые. Г-жа Измайлова несколько умерила свою сухость и холодный тон, который она с некоторого времени приняла со мной, потому что я однажды в ее присутствии произнес похвалу прелестной Г-же По…вой. Это было еще в начале моего знакомства с этой милой дамой. Мне показалось, что г-н Княжевич-старший был задет совершенно невинной шуткой. Я никоим образом не собирался обидеть его. Его брат вернулся из Лайбаха и рассказывал мне о своем путешествии в Венецию. Мы разговаривали с Норовым и Остолоповым об итальянской, русской и французской литературе. Я обещал Норову зайти к нему утром в понедельник. Мне очень нравится этот храбрый воин; деревянная нога, этот благородный знак его доблести, есть в глазах соотечественников лучшее ему свидетельство. Я вернулся в половине двенадцатого и у самых дверей встретил Яковлева; он зашел пожелать мне доброй ночи. Мы поговорили полчаса; о Мадам тоже зашла речь; мы говорили о ее любезности, и оба желали ей чуть меньше переменчивости в характере, а также чтобы она не обходилась сурово с людьми, которые ей искренно преданы.
Понедельник, 6 июня, 7 часов вечера.
Вчерашний день полностью примирил меня с ней. Я думал провести этот день совсем иным образом, и в восторге от того, что поговорка «Homo proponit, Deus disponit» (человек предполагает, а бог располагает) послужила на этот раз в мою пользу. Днем я собирался к Гречу на дачу (Отрадное); я встретил его на петербургской набережной, мы поговорили немного и затем расстались. Так как я уже вышел из дому, а обед был еще нескоро, и я не хотел вернуться не сделав кое-каких дел, я и решил заглянуть к Madame. Я уже проходил по Выборгскому мосту, отчаянно хромая по милости калош, которые мне жали, когда заметил г-на Воейкова, ехавшего в двухместных дрожках. Я поздоровался с ним, он остановился и пригласил меня сесть в дрожки; хотя я был бы рад отказаться, но не стал кривляться и воспользовался его любезным приглашением, – и вот мы разговариваем и о плохой погоде, и о непостоянстве петербургского климата, и о лондонских туманах, и о 93-ступенчатой лестнице у Греча, и о болезни г-жи Воейковой, и о талантах и любезности г-на Норова, – одним словом, болтали и сплетничали напропалую от моста до Медико-хирургической академии. Там я попросил его остановиться, сказав, что должен зайти в академию. Мы обменялись множеством комплиментов, и я был счастлив, что избежал более длительного разговора.
Прихожу к Madame, нахожу там Яковлева и Кушинникова, который явился минутой позже. Madame вначале принимает меня довольно сухо. Она хочет удержать Яковлева, который уходит. Собираются на прогулку вместе с г-жой Гоффар и детьми; и в самом деле, она отправляется с ними. Я догоняю ее и подшучиваю, что у нее вид надзирательницы в пансионе; она возвращается домой. Мы обедаем, разговариваем, и неожиданно она дарит мне платок, чтобы носить на рубашке под жилетом. Мы опять собираемся в путь, чтобы идти на дачу, где живут дети г-жи Гоффар: наша компания состоит из г-на Пономарева, Madame, г-на Кушинникова, г-жи Гоффар, Александрины и меня. Madame дает мне руку; мы добираемся до дачи г-на Дурнова и берем лодку, которая довозит нас прямо к даче Безбородко; идем через сад; Madame все время дает мне руку, чтобы вести ее; в конце сада находим полуобрушившийся крытый мост, всего две балки, соединенные посредине моста. Я веду Madame со всеми предосторожностями и вниманием. Гектор остается на середине моста, не смея перейти на вторую балку. Madame в затруднении, как заставить его это сделать; она зовет его, он визжит и остается в нерешительности. Я бросаюсь на мост, беру собаку на руки, всю перепачкавшуюся, переношу на другой берег, – и получаю любезную, даже нежную фразу Madame: «Какая милая попинька. Кто бы поступил, как он!» Эта малость меня совершенно пленила и вновь подчинила ее власти; я не чувствовал под собою ног, я внутренне поклялся навсегда принадлежать ей. В этот момент она показалась мне прекрасна как никогда; и если бы я мог, я бы задушил ее поцелуями; я был готов тысячу раз обнимать ее собаку; но я боялся скомпрометировать ее перед свидетелями. Звук ее голоса, когда она произносит любезные, полные благодарности слова, проникает до самого моего сердца и возбуждает в нем новое пламя; я чувствую себя на седьмом небе и так смущен, так счастлив, что не знаю, что ответить; не хватает ни слов, ни дыхания; я лишаюсь чувств от радости. Нет! никогда ранее я не был так влюблен; тогда я был моложе и чувства еще не были столь глубоки, столь определенны.
Остаток дня прошел для меня довольно приятно. Пообедав, мы отправились на лодке на Крестовский; там я отлучился на некоторое время, присоединился к ним уже в лодке, придумав причины и извинения. Однако она упрекнула с горечью: «Вечно вы устраиваете эти фарсы! очень хорошо!» К несчастью, она промочила ноги; я тоже промок до колен и молчал. Она жаловалась, что на лодке холодно, и я за нее боялся. Добравшись до дома, она по нашим неоднократным и настоятельным просьбам велела растереть себе ноги ромом и потом легла. Она хотела силой удержать г-жу Гоффар, Кушинникова и меня, чтобы мы провели ночь на даче, но затем согласилась нас отпустить. Я приблизился к ней, чтоб попрощаться… Смущенный, я опять увидел эту прекрасную грудь, которая составляет мое мучение; я сделал усилие, чтобы не выдать себя, я почти уже не владел собой. Я напечатлел поцелуй на ее руке и вырвался с этого острова Калипсо.
Я забыл заметить, что она ругала меня неизвестно за какие претензии, когда я попросил у нее прощения неизвестно за какие прегрешения. Потом она смягчилась; она выразила сожаление, что я ей больше не пишу, а я возобновил просьбу позволить мне писать, что мне и было разрешено.
Вторник, 11 часов утра. 7 июня
Я писал почти все утро в понедельник; сердце и голова все время полны ею. В половине первого я вышел, чтобы идти к Норову, которого я не застал дома; затем зашел от нечего делать к Сленину и там нашел моего полковника на деревянной ноге. Он просматривал несколько итальянских изданий. Мы пошли обедать к Талону; затем поднялись к Плюшару, где еще перелистали нескольких из наших любимых итальянцев в ожидании дрожек полковника. Когда дрожки приехали, мы заехали к нему, чтобы захватить стихотворение, которое я буду читать за него в Обществе. Я все больше очаровываюсь этим любезным полковником: ни тени военного чванства, много предупредительности и вежливости; разговор разнообразный и поучительный; он не выглядит столь ученым, каков он есть на самом деле. Вот люди, которых я люблю, – потому что я люблю бывать с теми, кто стоит больше, чем я. Это род эгоизма, я признаю, – я здесь выигрываю, в то время как в обществе тех, кто глупее меня, я теряю слова и время. Я убежден, что так же поступают и по отношению ко мне, потому что это всеобщее primo mihi [116]116
Сперва мне (выражение, характеризующее эгоиста, – лат.).
[Закрыть].В 7 часов я зашел к Яковлеву; мы еще поговорили о ней; именно она делает разговор приятным. Но я стараюсь всячески скрыть мои истинные чувства от Яковлева, который, при всей своей проницательности, ни о чем не подозревает. Я думаю, что мы друг друга обманываем.
8 часов. Я пошел в Общество; настаивал, чтобы избрали Норова действительным членом; когда проголосовали, оказалось, что за принятие подано 15 голосов, а против – один; таким образом, он избран почти единогласно. Я передал Глинке послание Норова к Панаеву, где он говорит ему, что человеческая природа портится все более и более; хорошие стихи, только есть несколько неисправностей в стиле. Глинка читал их на том же заседании, и все их одобрили.
7 июня 1821
Вы прощаете меня, сударыня! вы возвращаете мне ваши милости! Нет! я обманываюсь: большая часть вашего существа имеет в себе нечто божественное, и эта прелесть, эта доброта, – все это – небесного происхождения. Ах! достоин ли я единого вашего взгляда, – одного из тех взглядов, которые наполняют таким блаженством всякого, на ком вам заблагорассудится его остановить! О, если бы вы видели, сколько я перестрадал, пытаясь победить, преодолеть страсть, которая сделалась для моей души тем, чем жизненный дух является для тела, – неотделимой от моего существа. Я думал уже, что потерял навсегда сладостные мечты о счастье, мечты неосуществимые, но тем не менее драгоценные для меня, ибо они представляют образ счастья более совершенного, более ощутимого, которому я смел предаваться только в мечтаниях.
И все же мне кажется, что вы иногда словно сомневались в искренности моей любви. Увы! я ли виноват в том, что это лицо без выражения, эти глаза, лишенные огня, столь слабо выражали то, что я чувствую? Весь пламень, который не одушевлял ни моих глаз, ни моих черт, сосредоточился в моем сердце; в нем ваш алтарь, где вы окружены беспредельным обожанием. Нет! пламень столь сильный не может умереть, даже вместе с моим существом; он переживет его, он будет жить за пределами гроба и станет для моей души прекраснейшим залогом бессмертия. Я увижу там вас, сударыня, вы будете ангелом добра, который приобщит меня к вечному блаженству; без вас я впал бы там лишь в бесконечную тоску.
И вы больше не сердитесь, сударыня? вы искренне простили меня? вы не оттолкнете более сердца, которое бьется только ради вас? Ах! если бы не было свидетелей, я бы тысячекратно расцеловал тогда вашего Гектора, который заставил вас произнести те сладостные слова, которые навсегда запечатлелись в моей памяти; именно он сумел убедить вас хотя бы немного в той любви, которою я к вам пламенею. Судите же сами, сударыня, как я должен ласкать его и могу ли я смотреть равнодушно на создание, которое в некотором роде явилось моим благодетелем? и сколь драгоценную ношу я находил в нем! Я держал на руках создание, которое вы любите, сударыня, а то, что дорого вам, тем более дорого мне, ибо все ваши привязанности передаются моей душе, усиливаются и умножаются в ней!
Для меня нет большего удовольствия, чем испытывать одни с вами чувства! Если бы я мог надеяться на взаимность… но я не смею рассчитывать на это; это было бы счастьем, которого мне не дано в удел.
Итак, мне довольно моих собственных чувств, мне довольно единого преимущества, которое мне предоставлено, – осмелиться высказать их вам.
Как ваши слова, дышащие дружбой и добротой, отозвались сладким теплом во всем моем существе: « Какая милая попинька! ну кто бы поступил подобно ему!»– эти любезные слова беспрестанно звучат в моих ушах и текут по моим жилам волнами несказанного счастья. Ах! повторяйте мне чаще такие слова; их так легко сказать, – и счастлив тот, кто может столь малой ценой доставлять другим неоплатное счастье! Тот, кто делится счастьем, счастлив и сам: он счастлив сам по себе.
Вновь, сударыня, повергаю к ногам вашим свое сердечное почтение, которое вместе со всем моим существованием принадлежит вам навеки.
Среда, 8 июня, в полдень.
Вчерашнее утро прошло довольно спокойно. Я написал Мадам первое письмо после возобновления отношений, где описал мою страсть. Оно было очень длинным, это письмо, и я боюсь, что оно ее утомило; наскучить же очаровательному существу есть прегрешение против природы. Я должен был обедать с князем и предполагал идти к ней сразу же после обеда, как вдруг княгиня просит меня найти в библиотеке книги, которые она сама не может отыскать. Я скрыл досаду, которую произвело во мне столь несвоевременное поручение, поискал книги и нашел их почти сразу же. Княгиня была со мной очень любезна; я принес ей в кабинет книги, которые она просила, и она заговорила со мной об удовольствиях, которые ждут нас в деревне. Чтобы закончить разговор, я ответил, что не возражал бы остаться в городе, так как лето не обещает быть хорошим. К пяти часам я отправился на дачу г-жи П…вой. Я застал там Лопеса, который почти сразу ушел, и полковника Слатвинского. Мадам была нездорова; на качелях она получила приступ ревматизма. Почувствовав недомогание, она легла, а я вышел прогуляться. Встретил обоих Кочубеев, которые возвращались в город от княгини Лобановой; приветствовал их мимоходом. Около дачи г-на Дурнова встретил его двоих сыновей и г-на Дугольца (?), поболтал с ними, и адъютант осыпал меня знаками уважения; все они звали меня наперебой зайти к ним, но я отговорился, извинившись. Вернувшись, я застал Измайлова; Madame была еще в постели; немного спустя пришел Андреев, и она позвала его в комнату, потом захотела встать и вскрикнула от боли. Я побежал, чтобы по возможности помочь ей; вдвоем с г. Слатвинским мы ее подняли. Она была очень любезна со всеми; остальные ушли, только мы с Измайловым остались ужинать. Она была очаровательно весела. После ужина я зашел в ее спальню и видел, как она ласкала собаку Лопеса. Как я завидовал этой собаке! Я сказал ей об этом несколько раз, наконец, подошел, с жаром поцеловал несколько раз руку, а прощаясь, напечатлел поцелуй на ее губах, и она меня тоже поцеловала. Она хотела оставить меня ночевать на даче, но я извинился невозможностью, зная, что нужен князю. Несмотря на это, она велела приготовить мне постель в гостиной и сама поправила подушки. Я не мог этого выдержать, я не ушел бы отсюда до конца дней моих, я покорился, целуя ей руку… Увы? неужели я должен буду ограничиться этим? Я спал не более двух часов; когда пробило четыре, ее собака, которая поранилась днем, подошла к моей постели и разбудила меня. Она страдала, а я не могу видеть страдающее существо, не говорю уже об ее собаке. Я поднялся, взял собаку на руки и уложил ее, уступив ей мое ложе; чтобы не коснуться ее и не причинить ей боли, я оделся и отправился домой. Этот вчерашний день – один из тех, о которых я сохраню самое приятное воспоминание. Какую цену имеет в моих глазах самая ничтожная ее ласка, доброе слово, маленький знак заботливости! О, если бы я действительно был любим, как бы я умел чувствовать всю бесконечность моего счастья!
Четверг, 9 июня 1821.
Вчера утром я получил от Остолопова пригласительный билет на вечер. Билет был написан по-итальянски, и я должен был как умел отвечать на этом языке. Потом я пошел к Булгарину, чтобы пригласить и его от имени Остолопова, после чего пошел к Никитину. Я внушал ему мысль об объединении двух обществ и мог убедиться, что она ему вовсе не по вкусу.
Булгарин не пустил меня в спальню. Я видел, как по его приказанию туда внесли портрет, и мне кажется, заметил фигуру живописца-миниатюриста. Слуга поляк по оплошности уронил завесу с портрета, и я узнал черты г-жи Воейковой. Э, г-н Булгарин! поздравляю вас; но я не сказал ему о том, что видел.
Пятница, 10 июня, 1821.
Вчера я ждал полковника Норова, чтобы в полдень идти вместе познакомить его с Пономаревыми, но он пришел только к двум часам, так что все утро у меня было потеряно. Мы разговаривали о г-же Пономаревой, я внушил ему желание познакомиться с ней, и так как он считает неудобным приходить к обеду при первом визите, он обещал мне придти туда завтра к 6 часам. Затем мы беседовали о русской и иностранной литературе. Я дал ему почитать 4 тома Парни. Не забыть бы сообщить ему справку о лучшем комментарии Данте. Вот он: «La Divina Commedia» di Dante Alighieri, col commento di G. Bignioti; 2 toms. Parigi, 1818, in 8. Preste Dondey Duprè in via S. Luigi [117]117
«Божественная комедия» Данте Алигьери, с комментариями Г. Биньоти; в 2-х томах. Париж, 1818, в осьмушку. Напечатано в типографии Донде Дюпре по ул. св. Луи (ит.).
[Закрыть], 10 с. 4 С. Он мне обещал заказать экземпляр в Париже. К трем часам полковник ушел.После 7 часов я был в Обществе любителей словесности, наук и художеств в Михайловском дворце. Булгарин читал нам свои воспоминания о войне в Испании, очень интересные. Он описывает с большим жаром прекрасный пол этой страны, климат, природу. После него Остолопов читал рассуждение о трагедии, которое он хочет поместить в Словарь древней и новой поэзии. Хорошая компиляция, но немного подробна для статьи в большом сочинении. К десяти часам я предложил Измайлову зайти вместе к Панаеву, которого мы нашли страдающим еще сильнее, чем раньше. Я остался до полуночи и вернулся к себе к половине первого ночи.
10 июня 1821.
Как я благодарен дурной погоде, которая меня держит в городе, сударыня! Я еще испытываю потребность в приятном предвкушении увидеть вас два или три раза до моего отъезда на дачу. Время от времени мне приходят мысли, противоречащие здравому смыслу: я иногда хочу, чтобы ненастное время года длилось постоянно, так чтобы вы скорее переехали окончательно в город и чтобы я имел счастье видеть вас каждый день. Сердитесь на меня, если хотите, сударыня, но в этом отношении я эгоист и сверх-эгоист, – и не совсем без оснований. Мне кажется, что, когда я рядом с вами, мое существование более полно, более цельно, в то время как вдали от вас я ощущаю, что лишен большой части себя самого, – и это правда: мое сердце, моя душа, мои мысли, мое воображение постоянно следуют за вами и, кажется, витают вокруг вашего обожаемого образа. Все, что составляет лучшую часть меня самого, поглощено вашими совершенствами, – и что осталось мне? лед вместо сердца, постоянная пустота в уме и в душе и грубая оболочка, принадлежащая моему земному существу.
Ах! сударыня! не отнимайте у меня единственного утешения, на которое я уповаю в отдалении от вас! пишите мне так часто, как только сможете, пишите длинные письма, чтобы я мог упиться наслаждением видеть нечто, исходящее от вас. Я знаю, что моя мольба дерзка, но я обращаю ее к ангелу, а ангел никогда не отказывает в утешении бедным смертным. Как сильно будет биться мое сердце, когда я буду ждать известия от вас! О! я их буду носить у сердца, ваши письма, и они вновь возродят в нем тот сладкий пыл, который ослабеет в вашем отсутствии, – или вернее, который будет отражаться в ваших глазах.
Каждый раз, как я вижу вас, сударыня, я влюбляюсь все больше. В последний раз в особенности… о! этот вечер запечатлеется в моей памяти среди самых счастливых минут моей жизни. Я видел, как вы собственными руками раскладывали подушки на постели, предназначенной для меня; ах! с каким восторгом я напечатлел поцелуи на этих несравненных руках! Осмелюсь ли я сказать… но нет! мое сердце еще слишком полно этим счастьем, и самые красивые слова были бы холодны и несовершенны.
Ах, если бы вы могли, сударыня, хоть в малейшей степени чувствовать то, что я чувствую по отношению к вам! я был бы самым счастливым из людей, как сейчас я самый любящий из них.
Ваш навеки О. Сомов.
Суббота, 11 июня 1821
7 часов вечера.
Нет, довольно! за всю мою любовь, за всю мою преданность – только презрение, оскорбления, обиды! Вчера она показала себя в черном цвете: она преследовала меня, терзала… и за что? За безделицу, пустяк, о котором не стоит даже говорить.
Я был очень занят все утро, и все же нашел время написать ей очень нежное письмо, где изобразил мои чувства. Около двух я вышел; было туманно и печально, и на сердце тоже было слегка печально; им владели какие-то смутные предчувствия. Я захожу к ней и застаю мужа в гостиной; мне говорят, что Madame за туалетом. Дул сильный ветер, время от времени начинался дождь; все словно соединилось, чтобы вывести меня из равновесия. Наконец через полчаса дождь прекратился и погода стала налаживаться. Я сказал г-ну П…ву, что собираюсь пойти прогуляться, и в самом деле отправился. Вернувшись, я увидел, как на балкон всходят Измайлов, Остолопов и двое Княжевичей. Через минуту я постучал в дверь, за которой одевалась Madame, и передал ей письмо. Она говорила со мной из-за двери, не позволяя мне войти, потому что, сказала она, она в рубашке. Когда же она появилась, я заметил в ней какую-то холодность и раздражительность ко мне и уже предчувствовал все неприятности, которые ожидали меня в дальнейшем. Она послала меня за своим дневником, желая показать этим господам свой рисунок; а затем притворилась, что не находит писем Панаева, которые, как она сказала, были в этом дневнике; смеясь, она обвиняла всех, что они взяли записки; я в это не верил, потому что был уже знаком с этими женскими уловками. Однако до конца обеда все еще было ничего, если не считать, что она больше не обращалась ко мне и отвечала мне раздраженно. Когда пришел Лопес, она вышла поговорить с ним в спальню и оставалась там около получаса. Мне это надоело, и я собрался уже взять шляпу и пойти еще раз прогуляться, хотя дождь лил во все время обеда. Она спросила меня, куда я собрался, и я ответил в сердцах: «Я ухожу, сударыня», что и повторил несколько раз. Она рассердилась немного, но я все же отправился. Она смотрела в окно и позвала Гектора, который хотел идти за мной. Я сказал, чтобы она была спокойна и что я не собираюсь уводить ее собаку. На это она состроила мне гримасу, которая заставила бы меня рассмеяться, если бы я не уловил в ней злости. Я побродил без цели на даче Безбородко и на обратном пути застал даму на качелях, подошел и приветствовал ее. Она спросила резко: «Что вы хотите мне сказать?» Я ответил на это, что ничего, и не потерял самообладания. Немного спустя я последовал за ней и спросил о причине ее недовольства; она ответила, что я недостоин того, чтобы со мной разговаривать, и что она относится ко мне так же, как к Яковлеву. «В таком случае, сударыня, – ответил я, – мне придется более к вам не приходить». За ужином она пользовалась любым случаем расстроить меня, придиралась ко всему, что я говорил, и часто смешным образом. Я обращал все в шутку не подавая виду, что замечаю ее враждебность. Я отвечал на ее обиняки и часто их опровергал; кажется, это задевало ее из-за присутствия окружающих и как раз в тот момент, когда она хотела за мой счет продемонстрировать свое остроумие. После ужина я подошел к ней и пожелал ей доброй ночи, прибавив, что, может быть, не скоро буду иметь счастье ее увидеть, потому что намерен вскоре отправиться на дачу. Она вначале протянула мне руку, отвернув лицо, потом подозвала меня знаком руки и спросила, не хочу ли я остаться. Я ответил отрицательно, и она сказала: «Поцелуйте же мне руку». Мне показалось, что она улыбнулась. Я удалился, довольный собой, но очень недовольный проведенным днем.
Воскресенье, 12 июня 1821.
Я работал все утро и выбрал время только для того, чтобы совершить маленькую прогулку по саду. Я думал о постигшей меня немилости; мне было грустно, и я искал уединения. Однако после обеда я решился идти к Измайлову, чтобы он не подумал, что я все еще сохраняю настроение вчерашнего вечера. Так как я должен был проходить мимо дома Панаева, я зашел к нему, чтобы поздороваться. Он меня принял довольно холодно; у него был Рихтер, перелистывавший какие-то бумаги. Панаев сказал, что он слышал от г-на Остолопова, Княжевича и Измайлова, которые заходили его навестить, что Madame дурно обошлась со мною вчера вечером. Я рассказал ему все, и он протянул мне записку Madame, очень резкую и оскорбительную, где она обвиняла меня в похищении писем Панаева. Я никогда не ожидал такой выходки. Панаев передал мне, что она ему также писала, уведомляя об этой предполагаемой краже.
В 11 часов утра
Ее бывший человек, Владимир, пришел ко мне просить помочь ему получить место. Я был обрадован возможностью оказать услугу тому, кто ей служил. На этот счет у меня слабость: если я люблю кого-нибудь, я люблю все, что до него касается, что с ним связано, даже тех, кого он просто знает. Я считаю своей приятной обязанностью помочь ее прежнему слуге и поговорю о нем с князем.
В половине пятого пополудни.
Князь просил меня привести к нему Владимира, и, поскольку слуга сказал мне, что можно его выкупить, князь согласился тем более, что один из его лакеев умер, а второй заболел. Князь сказал мне любезность, что-де моей рекомендации достаточно; что я всегда советовал ему только хорошее. Это правда, я рекомендовал ему прекрасного человека: г-на Коломийцева в качестве управляющего в Институте глухонемых; поэтому князь полностью доверяет моим рекомендациям. Я буду счастлив, если мне удастся освободить Владимира из когтей его нынешнего хозяина.
12 июня 1821.
Сударыня!
В последний раз, когда я имел честь провести день у вас, я имел возможность заметить, что вы ищете любого случая и средства меня огорчить, унизить и поставить в смешное положение, хотя я не дал вам к тому ни малейшего повода. Будучи совершенно спокоен в отношении вас, – ибо все мое поведение отличалось постоянной почтительностью, – и, привыкнув к доброжелательству, с которым вы меня принимали ранее, я, соглашаюсь, может быть, и не остерегся так, как мне бы следовало. Так, когда вам было угодно спросить меня, что я намерен делать, я имел честь отвечать вам, что собираюсь прогуляться, как делаю обычно за неимением лучших занятий. Ответом мне была угрожающая мина, но я убедил себя, что в дальнейшем вы будете судить обо мне лучше. В самом деле, сударыня, не ясно ли, что, когда у вас собирается общество или когда вы приглашаете меня на званый обед, я присутствую у вас как один из тех китайских уродцев, которых ставят на камин, просто чтобы занять место. Если я осмеливаюсь обратиться к вам, предложить вам мои услуги, вы принимаете это с отвращением, которое очевидно для всякого из присутствующих; в остальное же время у вас такой вид, словно вы не замечаете, здесь я или нет. Зачем же приглашать к себе человека, к которому выказываешь презрение или которого хочется оставить в забвении? Не стоит ли оставить в покое того, кто вас вовсе не интересует? В пятницу, например, вы старались развлечь каждого из присутствующих – и один я удостоился только гримас и оскорблений.
Со своей стороны, я приемлю смелость заметить, сударыня, что так легко меня не смутить. Я еще был принужден принять на себя роль, менее всего соответствующую моему характеру, – роль наглеца, и эта роль, как вы сами видели, не так уж плохо мне удалась. Я притворялся беззаботным и даже веселым, хотя это было прямо противоположно тому, что я чувствовал в последний раз.
Вы сказали мне, сударыня, что не хотите больше со мной разговаривать, как не хотите больше говорить с Яковлевым. Сделайте мне милость, скажите, есть ли это ваше искреннее намерение. Я должен знать это, чтобы в дальнейшем определить свое поведение. Я не забыл чина унтер-офицера, который показался вам столь низким. Эта маленькая выходка может послужить объяснением другой в том же роде, которая была сделана в адрес людей бедных. Я прекрасно знаю, что я беден и не чиновен, но я имею преимущество знать много людей чрезвычайно богатых и по положению гораздо высших, чем я, и которые тем не менее не считают для себя зазорным обращаться со мной дружески. Сам я никогда не ищу новых знакомств; я нахожу их либо случайно, либо склоняясь на предложения, которые мне делают; отчасти и это поселило в моей душе довольно гордости, чтобы оценивать по достоинству несправедливости, мне причиняемые.
Разрешите мне, сударыня, вернуться к предмету «претензий», – слово, которое постоянно на ваших устах и которое имеет у вас несколько значений. Какие претензии вы приписываете мне, сударыня? Я никогда не претендовал, чтобы занимались исключительно моей ничтожной персоной, но я тем не менее не хочу служить мишенью для оскорблений, когда вам заблагорассудится дуться на кого-либо. Все мои претензии сводятся к тому, что я хочу, чтобы со мной обращались так же, как с другими и как со мной обращаются повсюду; если же нет – нет.
Приняв на себя смелость высказать вам предмет и причины моей уязвленности, я осмелюсь еще умолять вас, сударыня, не лишать меня вашей доброты и милостей, единственного счастья, к которому я стремлюсь, – и соблаговолить верить чувствам самого глубокого почтения, с которыми имею честь быть, сударыня, вашим покорнейшим слугой
О. Сомов.
Этот жест оскорбленной гордости стоил писавшему труда: он искал слов, вычеркивая, исправляя, перемарывая. Но рядом на странице мы находим другое письмо, без даты, написанное почти без помарок. Может быть, он не решился отправить его и заменил вторым, уже в который раз покорившись судьбе, бороться с которой он не имел силы?

![Книга Писательницы пушкинской поры [историко-литературные очерки] автора Михаил Файнштейн](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-pisatelnicy-pushkinskoy-pory-istoriko-literaturnye-ocherki-195320.jpg)






