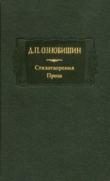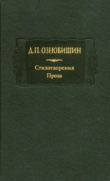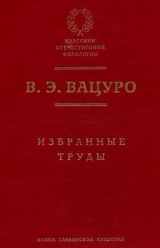
Текст книги "С.Д.П. Из истории литературного быта пушкинской поры"
Автор книги: Вадим Вацуро
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 17 страниц)
«И. Ч.» был Иван Богданович Чеславский, тот, который, как мы думаем, был выведен в «Певцах 15-го класса». В «михайловском» обществе он быстро двигался вверх и в январе 1824 года был избран помощником председателя [261]261
Там же. 1824. № 2. C.▫152.
[Закрыть].
Наконец, присоединились и родственники. Через несколько месяцев Ф. Рындовский, муж сестры Панаева, выступит с печатным посланием свояку и уверит его, а заодно и читателей журнала, что он в своих идиллиях изобразил подлинного человека, близкого к природе, и, в частности, хорошо описал его, Рындовского, жену, а свою сестру [262]262
Ф. Р.<ындов>ский. В. И. Панаеву // Там же. № 23/24. C.▫388.
[Закрыть].
Человеку с умом и дарованием вряд ли могли льстить эти домашние похвалы, – а Панаев не был лишен ни того, ни другого. Но это был тот круг, в котором он находил признание. У него хватило выдержки, дипломатии и такта, чтобы при создавшемся положении не выступать явно против молодых поэтов, не признававших за ним всех этих достоинств, и принимать молчаливо почести от своих приятелей и родных. Но он препятствовал проникновению молодежи в домашний пономаревский кружок. И не только из личных видов. Здесь была враждебность органическая.
Плетнев в 1845 году рассказывал в письме к Гроту, что Панаев не уважал никогда «лучшей нашей литературной школы» [263]263
Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 2. C.▫623.
[Закрыть]. Теперь эта школа высказала свое уничтожающее мнение о его стихах.
В одном из списков сатиры Баратынского к стихам о Панаеве есть любопытное примечание:
‹‹В гербе Панаева, данном еще предкам его, находится свирель. Г. Ческий, прочитав стихи сии, сказал:
Мы теперь знаем, кто был этот защитник: конечно же, И. Б. Чеславский, поэтически клявшийся Панаеву в преданности. Он пошел в своей защите по уже проторенному пути насмешек над «унтерством»: «пук палок» – это телесное наказание, от которого унтер Баратынский избавлен дворянской грамотой.
В печати же он высказался еще раз, опубликовав «аполог» «Алмаз и гнилушки», где, как можно думать, осторожно и обобщенно коснулся именно описанных нами событий:
С Панаева начинался перечень «дурных поэтов», он был вынесен на первые места в этой иерархии. Далее сатирик переходил к Измайлову и «измайловцам»:
Сказать Измайлову: болтун еженедельный,
Ты сделал свой журнал Парнасской богадельной
И в ней ты каждого убогого умом
С любовью жалуешь услужливым листком.
И Цертелев блажной, и Яковлев трактирный,
И пошлый Федоров, и Сомов безмундирный,
С тобою заключа торжественный союз,
Несут к тебе плоды своих лакейских муз.
Нам теперь понятно, что означает «Сомов безмундирный». Это ответ на эпиграммы об унтерском мундире, которые Баратынский, по-видимому, приписывал Сомову, – и одновременно намек на неслужащего литератора.
Этот двойной смысл строки был не вполне понятен тем, кто не был знаком с деталями полемики: они читали строку только в прямом ее значении и были шокированы бестактностью нападок.
Граф Хвостов, собиравший рукописную литературу, сделал на своем списке примечание: «Послание Баратынского хорошо, но жаль, что подленько: многие личности на безмундирного и других препятствуют оное напечатать…» [266]266
Вацуро В. Э.Списки послания Баратынского «Гнедичу, который советовал сочинителю писать сатиры» // Ежегодник Рукописного отд. Пушкин. дома на 1972 г. Л., 1974. C.▫57.
[Закрыть]
Почти так же высказывался Пушкин, прочитав присланный Дельвигом список: «Сатира к Гнед<ичу> мне не нравится, даром, что стихи прекрасные; в них мало перца; Сомов безмундирныйнепростительно. Просвещенному ли человеку, русскому ли сатирику пристало смеяться над независимостью писателя? Это шутка, достойная кол<лежского> сов<етника> Измайлова» [267]267
Пушкин А. С.Полн. собр. соч. Т. 13. C.▫75.
[Закрыть].
Отзыв Пушкина, без сомнения, стал известен Баратынскому, и он изменил строку о Сомове. Мы можем утверждать это с большой степенью вероятности, потому что существует несколько современных списков сатиры, содержащих варианты как раз этой и ближайших строк:
И Фертелев блажной, и Яковлев мудреный,
И наглый Пасквинель, и Арфин заклейменый…
«Безмундирный» убран, но характеристика стала жестче, и то же произошло с «Пасквинелем» – Федоровым. О Яковлеве, напротив, сказано мягче. Но при всех различиях их музы оставались сходны по «лакейской» своей сущности. Баратынский писал памфлет, эпиграмму. Только Измайлов удостоился сатирического портрета:
Тобой предупрежден листов твоих читатель,
Что любит подгулять почтенный их издатель.
А я тебе скажу: по мне, пожалуй, пей,
Но ум не пропивай и дело разумей.
Парафраза крыловской басни была ответом на старое стихотворное объявление в «Благонамеренном». Еще в 1820 году Измайлов винился перед своими подписчиками за опоздание шестой книжки:
Объявление сделалось крылатым словцом; оно пристало к имени Измайлова, как к имени Хвостова его простодушное признание: «… люблю писать стихи и отдавать в печать». Оно переходило от поколения к поколению. Через десятилетия читатели, забывшие о «Благонамеренном», помнили, однако, что Измайлов «гулял на праздниках» когда-то в незапамятные времена.
Баратынский закреплял в сатире облик «русского Теньера», «писателя не для дам», которому дал литературную жизнь еще Воейков в «Доме сумасшедших»:
Измайлов, например, знакомец давний мой,
В журнале плоский враль, ругатель площадной,
Совсем печатному домашний не подобен,
Он милый хлебосол, он к дружеству способен:
В день пасхи, рождества, вином разгорячен,
Целует с нежностью глупца другого он…
Портрет был похож, и нравился. А. Ф. Рихтер, член «ученой республики», послал список графу Хвостову с сопроводительным письмом от 11 января 1824 года, где писал: «Из Петербурга один добрый приятель нашего доброго г. Измайлова прислал мне сатиру Баратынского <…> сия сатира не вся мне понравилась, исключая конец оной, где г. Измайлов со своим причетом изображен со всей желчью сатирика. Надобно признаться, что портрет г. Измайлова лучше всех нарисован и здесь сатирик показал свое искусство и умение чувствовать смешное» [269]269
Вацуро В. Э.Списки послания Баратынского. C.▫57.
[Закрыть].
Этот фрагмент оканчивался, как и начинался: именем Панаева:
Панаев в обществе любезен без усилий
И, верно, во сто раз милей своих идиллий.
Отвергая литератора, Баратынский признавал достоинства в личности. Но даже и этот отзыв холодно-церемонен, и в нем прорывается скрытая неприязнь. Портрет Измайлова живее и теплее.
Сатира Баратынского шла по рукам. Вероятно, имена были зашифрованы, – впрочем, достаточно прозрачно. Арфин (Сомов), Аркадии (Панаев) – псевдонимы «Сословия друзей просвещения».
Ближайшие сотрудники Измайлова делают для себя списки. «Приятель», о котором писал Рихтер, – может быть, Остолопов; до нас дошел список, сделанный его рукой. Остолопов, подобно Хвостову, собирал материалы для закулисной истории словесности; остались листы из его тетради, в которой хранились стихи, не увидевшие печати.
Рихтер отправил сатиру Хвостову 11 января 1824 года. Стало быть, в кругу Измайлова ее читали уже осенью или зимой 1823 года, – вскоре после того, как ее не пропустил цензор Бируков. Рылеев еще надеялся, что ее можно будет «выправить» по замечаниям, – но он ошибался: выправить ничего было уже нельзя.
* * *
Шла цепная реакция разрывов и охлаждений.
Большая война шла в «михайловском обществе»; малая – но, быть может, еще более драматическая – разрывала пономаревский кружок. И здесь Панаеву принадлежала уже безусловно первая роль.
Для Софьи Дмитриевны тянулись мучительные дни прощания – ранние утра в Летнем саду, слезы, жалобы, воспоминания. Под знаком этих встреч проходила теперь ее жизнь, – но, возвращаясь домой, она должна была казаться спокойной, если не веселой. Испытание тяжкое; для натуры капризной, импульсивной и властной едва ли не непосильное, – и мы без труда представим себе, чего ей стоило подавлять в себе поднимающееся раздражение против прежних своих поклонников.
Все это – и душевное смятение, и душевная подавленность – принадлежит к области психологических гипотез и действительно, как замечал А. Веселовский, является скорее достоянием романиста, нежели историка культуры. Но есть сферы, где документы отсутствуют или они бессильны. Нет ни писем, ни дневников Пономаревой; нет вообще ни одного современного письма или дневника, который бы объяснял нам, что происходило во второй половине 1823 года в маленьком кружке, объединявшем больших русских поэтов и в центре которого продолжала оставаться женщина, которой ничто человеческое не было чуждо. То же, что происходило в нем, было фактом истории культуры, потому что порождало поэтические ценности, образовавшие эстетическое сознание поколений. Мы располагаем только воспоминаниями Панаева, развернутыми во времени, да несколькими стихотворениями неизменного Измайлова за сентябрь – октябрь 1823 года. Стихи эти, впрочем, весьма любопытны и отчасти могут заменить дневниковые записи. В них прямо сказано то, что лишь намечалось в его посвящениях, датированных мартом – июнем. Кажется, в первый раз он задет и обижен не на шутку – уже не просто непостоянством, но явной холодностью предмета своих воздыхании.
НОВОЙ ЭЛОИЗЕ
Как платье черное к лицу вам!
Как пристало! Ах! если б к трауру из крепа покрывало
И на цепочке золотой
Крест с бриллиантами – подобны были б той
Игуменье и умной, и прекрасной,
Которую любил так Абелард несчастный.
В одной науке вы должны ей уступить:
Вы не умеете… любить.
(5 сентября 1823)
Через неделю он возвращается к той же теме в поздравительных стихах:
С. Д. П.
В ДЕНЬ ЕЕ ИМЕНИН
Премудрости вам имя дали,
И правду молвить, вы отменно мудрены!
Кого собой вы не пленяли?..
Он написал сначала «прельщали», но потом счел за благо поправить.
До чего непроницательны мужчины! Панаев уезжал в эти дни, или уже уехал, – и едва ли не потому появилось и черное платье. Понятно, что Измайлов ничего не мог знать о тайных прощаниях в Летнем саду, – но он вообще ни о чем не догадывался и сыпал соль на свежую рану. Может быть, он, впрочем, связывал как-то поведение Софьи Дмитриевны с влиянием Дельвига; во всяком случае, между двумя посвящениями он написал резкую и раздраженную басню «Роза и репейник»:
Репейник возгордился!
Да чем же? – с Розою в одном саду он рос.
* * *
Иной молокосос,
Который целый курс проспал и проленился,
А после и в писцы на деле не годился,
Твердит, поднявши нос:
«С таким-товместе я учился».
Хорош тот, слова нет – ему хвала и честь,
Да что, скажи, в тебе-то есть.
В рукописи вместо «такого-то» стояла фамилия Пушкина.
Измайлов отдал басню печатать в «Благонамеренный», конечно, без имени Пушкина, чтобы памфлет не был уже вовсе пасквилем. Искушенный читатель, однако, легко подставлял имена. Выпад против Дельвига не был новостью; новым был только явно враждебнй тон. Конечно, Измайлов был сердит и сводил счеты со всеми «баловнями-поэтами», но вместе с тем похоже, что Дельвиг чем-то особенно его раздражил в сентябре 1823 года. Менялись отношения в маленьком кружке; хозяйка отдалялась от прежних поклонников, и можно было уже печатно выругать одного из ее избранников, не слишком опасаясь ее гнева. Измайлов записал басню в ее альбом, – впрочем, в печатном варианте. Под этим автографом – пояснение Акима Ивановича Пономарева:
«Писано на счет А. С. Пушкина и барона Дельвига по случаю одного разговора» [271]271
Там же, л. 37; ИРЛИ, 9668/VIIIб8, л. 74 об.; И<змайлов А. Е.>Репейник и роза // Благонамеренный. 1823. № 17. C.▫356.
[Закрыть].
Басня была написана 11 сентября, а номер «Благонамеренного» с ней вышел 24 числа [272]272
ЦГИА, ф. 777, оп. 1, № 370.
[Закрыть], как раз накануне дня рождения Софьи Дмитриевны. На следующий день Измайлов принес ей обязательные поздравительные стихи:
НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ С. Д. П.
Чего вам пожелать для вашего рожденья?
Вы не обижены Природой и Судьбой:
Умны, любезны вы и хороши собой,
Прелестны!.. Нужно ль что еще для наслажденья?
Хотел бы речи дать здесь оборот другой,
Но сердце не всегда находит выраженья.
За «репейника» Софья Дмитриевна не вступилась, но, видимо, и мадригалы ее придворного поэта сделались ей пресны. Во всяком случае, это было последнее известное нам поэтическое обращение к ней Измайлова осенью 1823 года. Произошел ли какой-то разговор или просто она избегала общения, – мы не знаем. 11 октября Измайлов был на дне рождения у А. Княжевича, по соседству с Пономаревыми, на той же Фурштадтской улице, – и принес стихотворение, которое Остолопов снабдил тут же своим, также стихотворным, комментарием. В нем в шутливой, конечно, форме говорилось о разрыве:
А. М. КНЯЖЕВИЧУ
В день твоего рожденья,
О тезка милый мой! дай бог,
Чтобы вкусить ты мог
Все радости, все наслажденья
И чтоб по слуху знал слепой любви мученья.
Уж так и быть,
И я за ум примуся
И с нынешнего дня, клянуся,
Не буду жен чужих любить;
А если не уймуся,
При всех себя позволю бить.
11 октября 1823.
Все эти экспромты стоило прочитать хотя бы потому, что за ними стояла психологическая ситуация, намеченная в общих чертах мемуарами Панаева. А она, в свою очередь, поясняет нам отчасти телеологию двух любовных «циклов», один из которых принадлежал Баратынскому, а другой Дельвигу.
* * *
В середине 1823 года в лирике Баратынского и Дельвига зарождается и крепнет устойчивая тема разлуки, измены, угасания любовного чувства.
Стихи Баратынского, обращенные к Пономаревой, полны теперь упреков и полувысказанных жалоб.
Баратынский словно повторял – на ином уровне – то, что писал Пономаревой Измайлов в своих мадригалах. Он полушутя предлагал красавице попеременно быть то другом, то поклонником, уверяя, что любовь его ничуть ее не стеснит. Но в изящных шутках его ощущается какая-то отчужденность. По-видимому, в это время пишется его «Размолвка»: она печатается в «Новостях литературы» в октябре, когда уже Баратынский вернулся в полк, и, вероятно, пишется по следам летних впечатлений – и передается Воейкову тогда же, в этот приезд.
Прости сказать ты поспешаешь мне, —
И пылкое любви твоей начало
Предательски безумца обласкало.
Все видел я – и видел все во сне!
Ты, наконец, мне взоры прояснила;
В душе твоей читаю я теперь.
Проснулся я, – и мне легко, поверь,
Тебя забыть, как ты меня забыла.
Кого жалеть? Печальней доля чья?
Кто отягчен утратою прямою? —
Легко решить: любимым не был я;
Ты, может быть, была любима мною [277]277
Там же. C.▫46–47.
[Закрыть].
Никто из комментаторов этого маленького стихотворения не называл Пономареву адресатом, – но и по времени, и по теме, и по тональности оно очень точно вписывается в «пономаревский цикл». В 1826 году или даже ранее, перерабатывая его для собрания стихотворений, Баратынский совершенно изменил начало, сделав его лаконичнее, строже и жестче:
Мне о любви твердила ты шутя
И холодно сознаться можешь в этом.
Баратынский писал не о размолвке, а о разрыве – и, конечно, поэтому заменил и первоначальное заглавие: теперь стихи назывались «Элегия». Их психологическая ситуация удивительно напоминает ту, которая постоянно возникала между Пономаревой и ее побежденными и сломленными поклонниками; ту, которую видел и описал сам Баратынский:
Достигнув их любви, моленьям жалким их
Внимаешь ты с улыбкой хладной…
Но для Баратынского эта ситуация все же складывалась иначе; он не был испепелен «страстью жадной» и потому мог анализировать происходящее и играть интеллектуальными парадоксами. Движение лирического сюжета в «Размолвке» изящно и слегка рационально, – и почти то же мы видим в другом стихотворении этого же времени с еще более утонченным анализом диалектики полулюбовного-полудружеского чувства:
Мы цитируем первую редакцию послания «К…» («Мне с упоением заметным…»). Первые издатели озаглавили его «Г. З.», полагая, что оно относится к графине А. Ф. Закревской, – но это ошибка. Стихи были напечатаны в июльской книжке «Новостей литературы» за 1824 год, – за несколько месяцев до знакомства с Закревской. Новейшие исследователи предполагают, что стихи обращены к С. Д. Пономаревой [279]279
См.: Филиппович П. П.Жизнь и творчество Е. А. Боратынского. Киев, 1917. C.▫92–93; коммент. Е. Н. Купреяновой ( Баратынский Е. А.Полн. собр. стихотворений. Л., 1957. C.▫354) и Л. Г. Фризмана ( Баратынский Е. А.Стихотворения. Поэмы. М., 1982. C.▫583).
[Закрыть].
Это очень вероятно. Именно так складывались теперь отношения с Софьей Дмитриевной: сначала легкое кокетство, дружеская короткость, amitiй amoureuse, – затем влюбленность и охлаждение, – без сомнения, взаимное.
Но в жар краса меня не вводит:
Тяжелый опыт взял свое.
Я захожу в приют ее,
Как вольнодумец в храм заходит.
В поздней редакции Баратынский поставил: «я захожу в ваш милый дом».
Душою праздный с давних пор,
Вам лепечу я нежный вздор:
Увы! беру прельщенья меры,
Как он порою в храме том
Благоуханья жжет без веры
Пред сердцу чуждым божеством.
* * *
А что же Дельвиг, по прихоти судьбы ставший счастливым соперником ближайшего своего друга?
Мы оставили его в середине 1823 года, когда во взаимоотношениях его с Софьей Дмитриевной обозначился перелом, отразившийся в его стихах:
Наяву и в сладком сне
Все мечтаетесь вы мне,
Кудри, кудри шелковые,
Юных персей красота,
Прелесть – очи и уста,
И лобзания живые.
Это – «Песня», написанная, вероятно, в начале 1824 года.
Ночью сплю ли я, не сплю —
Все устами вас ловлю,
Сердцу сладкие лобзанья!
Сердце бьется, сердце ждет —
Но уж милая нейдет
В час условленный свиданья.
И на соседних страницах – в той же тетради:
Все это – «общие места» элегической поэзии: они многократно повторяются у разных поэтов с разными вариациями. Но за общими местами просматриваются иной раз индивидуальные биографии, обретающие в них свой язык. У нас есть достаточно оснований думать, что перед нами именно такой случай. Роман Дельвига оканчивался, едва начавшись, – такова была судьба всех, кого Пономарева приближала к себе, руководимая мгновенно вспыхнувшим чувством, острым интересом к творческой личности, жаждой самоутверждения, капризом или тщеславием. Исключением, как мы уже знаем, был Владимир Панаев.
Вместе с романом Дельвига оканчивался и любовный цикл, завершаясь стихами о разлуке, тоске неудовлетворенного чувства, страданиях одиночества. По-видимому, это происходит в начале 1824 года.
В 1826 году Дельвиг будет рассказывать своей молодой жене «о некоей Софье Дмитриевне, которая уже давно умерла и которую он перестал любить задолго до ее смерти» [281]281
Модзалевский Б. Л.Пушкин. Л., 1929. C.▫193.
[Закрыть]. Это была полуправда, – во всяком случае, не вся правда. Всего три года отделяли этот рассказ от первых любовных стихов «пономаревского цикла».
Вероятно, не случайно до нас не дошло никаких свидетельств о внутренней жизни кружка в начале 1824 года. Отшумели журнальные бури, улеглись любовные страсти, жизнь развела прежних соперников. Не было ни Яковлева, ни Панаева, ни Баратынского; отдалились Сомов и Дельвиг; один Измайлов, друг всего семейства, разделял его радости и горести. Кружок оканчивал свое существование; за 1824 год нет и записей в альбоме Пономаревой.
Существует, впрочем, один рассказ, на котором нам следует остановиться, ибо мемуаристы, сохранившие его, связывают его именно с домом Пономаревой, – и относится он к началу 1824 года.
Его обнародовал впервые В. П. Гаевский, биограф Дельвига, со слов Андрея Ивановича Дельвига, двоюродного брата поэта, и лицеиста второго выпуска князя Д. А. Эристова, в начале 1820-х годов близкого всему дель-виговскому кружку.
Гаевский передавал, что на одном из пономаревских вечеров разговор обратился к пародиям, которые в то время входили в моду <…>. Измайлов, любивший пародию, придавал этому роду особенную важность; Дельвиг, напротив того, утверждал, что не может быть ничего легче, как сочинить пародию на любое стихотворение. Измайлов потребовал, чтобы Дельвиг, в доказательство этой легкости, немедленно написал пародию на переведенную Жуковским сказку Вальтер-Скотта «Замок Смальгольм» (впоследствии названную «Смальгольмский барон»), в то время известную еще немногим. Все общество выразило то же самое желание, и Дельвиг через несколько минут прочитал следующее:
До рассвета поднявшись, извозчика взял
Александр Ефимыч с Песков
И без отдыха гнал через Лигов канал
В желтый дом, где живет Б…ов.
· · · · · · · · · · · · · · ·
В черном фраке был он, был тот фрак запылен,
Какой цветом – нельзя распознать,
Оттопырен карман, в нем торчит, как чурбан,
Двадцатифунтовая тетрадь.
«Эти два стиха привел и сам Измайлов в своей шуточной поэме „Рыжий конь“ (Сочинения Измайлова, т. II, стр. 541), – делал примечание Гаевский. – Они перепечатаны и в третьей статье А. Д. Галахова об Измайлове (Современник, 1850 г. № XI, Критика, стр. 55), с указанием, что принадлежат Дельвигу».
«Вот к полудню домой возвращается он
В трехэтажный Моденова дом».
К этим строчкам опять примечание трудолюбивого библиографа: «Измайлов жил, как сказано и в объявлении о подписке на „Благонамеренный“ на Песках, против Бассейна, в каменном трехэтажном доме Моденова, под № 283.
…Его конь опенен, его ванька хмелен
И согласно хмелен с седоком.
Б…ова он дома в тот день не застал.
и т. д.
Добродушный Измайлов, разумеется, не обиделся этой невинной шутке, первый смеялся над ней от души и потом часто читал ее своим приятелям. Впоследствии, года через три, Дельвиг на одном из своих литературных вечеров читал эту пародию Жуковскому, который слушал ее с большим удовольствием, потом часто говорил о ней и даже вспоминал об этой шутке еще за несколько лет до своей смерти, встретившись с двоюродным братом поэта».
Последние сведения были Гаевскому сообщены самим А. И. Дельвигом, а текст пародии – Дельвигом и Эристовым.
В. П. Гаевский, как мы сказали, был очень добросовестным исследователем, но в его рассказе есть неточностичастью непреднамеренные, частью вынужденные.
Непреднамеренные появлялись там, где Гаевскому были неизвестны факты и взаимоотношения, о которых мы знаем сейчас. Его рассказ слишком идилличен: он не знал многого о той внутренней борьбе, которая совершалась подспудно в пономаревском обществе.
Вынужденные неточности и умолчания происходили от невозможности опубликовать все, что он знал. Так, он знал продолжение пародии, осмеивающее Федорова, – но Борис Михайлович был еще жив и даже снабжал Гаевского материалами. И имя цензора Бирукова, умершего всего за десять лет до его статьи, он вынужден был заменить инициалами, потому что «желтый дом» в пародии – не только цвет стен, но и общепонятное обозначение дома сумасшедших.
В начале семидесятых годов сам А. И. Дельвиг начал писать свои мемуары, необыкновенно точные и объективные. Он ничего уже не должен был скрывать, ибо, передавая их в Румянцевский музей в 1886 году, разрешил публикацию только в 1910 году, когда все, рассказанное им, станет глубокой историей. И он заново описал сцену, украсив ее некоторыми важными деталями [282]282
Современник. 1854. № 1, отд. 3. C.▫39–40.
[Закрыть].
«Когда Жуковский написал „Замок Смальгольм“, – читаем мы у Дельвига, – все прельщались этим стихотворением и, между прочим, Пономарева, которая сказала Дельвигу, что он не в состоянии написать ничего подобного. Дельвиг, конечно, в шутку отвечал, что, напротив, ничего нет легче, и, ходя по комнате с книгою, в которой был напечатан „Замок Смальгольм“, он его пародировал очень удачно» [283]283
Дельвиг А. И.Полвека pуc. жизни. Т. 1. M.; Л., 1930. C.▫66–67.
[Закрыть].
Итак, двоюродный брат поэта настаивал на том, что пародия возникла в доме Пономаревой, – но инициатором ее была сама хозяйка, а не Измайлов. Это косвенно подтверждается тем обстоятельством, что сам Измайлов впервые услышал о ней только в начале 1825 года.
«…Ходя по комнате с книгой…» Дельвиг любил импровизации и сам владел этим искусством еще в ранние годы. Если эта деталь верна, а не является плодом воображения мемуариста, она очень важна: она указывает время, когда сочинялась пародия. Дело в том, что «книга», где был напечатан перевод Жуковского, – вторая книжка «Соревнователя» за 1824 год – вышла в свет в первых числах февраля.
Измайлов же впервые упоминает о пародии Дельвига в письме Яковлеву от 6 января 1825 года – почти через год, – притом же говорит о ней как о новинке. И – здесь мемуаристы совершенно точны – он не обижен, а скорее доволен. «Дельвиг сделал очень удачную пародию из „Дунканова вечера“ (так звучало в одном из вариантов название „Смальгольмского барона“), – пишет он. – „На рассвете поднявшись, извозчика взял Александр Ефимыч с Песков…“ Как досадно! не припомню далее и Княжевичи тоже, содержание баллады (впрочем, еще не конченной): я еду во фраке, который запылен, и никто не знает, какого цвета он, а в боковом кармане у меня 20-фунтовая тетрадь– еду в желтый дом, где живет Бируков…потом вижу Борьку…»
Не с Цертелевым он совокупно спешил
На журнальную битву вдвоем,
Не с романтиками переведаться мнил
За баллады, сонеты путем.
Уже знакомые нам лица, сюжеты, полемики. И в них дело не обходится без «наглого Пасквинеля». Но Дельвиг не негодует, а шутит, хотя и не без сарказма. Измайлов не сообщает Яковлеву о том, в каком видеон предстает перед «Борькой», а «Борька» перед ним, – ибо строчки далее шли не слишком лестные:
Но изорван был фрак, на манишке табак,
Ерофеичем весь он облит.
Не в парнасском бою, знать, в питейном дому
Был квартальными больно побит.
Соскочивши на Конной с саней у столба,
Притаяся у будки, стоял;
И три раза он кликнул Бориса-раба,
Из харчевни Борис прибежал [284]284
Дельвиг А. А.Полн. собр. стихотворений. C.▫168.
[Закрыть].
Позднее Дельвиг с самым серьезным видом показывал своей молодой жене и Анне Петровне Керн эту будку. «Вот на этом самом месте соскочил с саней Александр Ефимович с Песков и у этой самой будки он крикнул Бориса Федорова», – и обе его спутницы «очень смеялись этому точному указанию исторической местности» [285]285
Керн А. П.Воспоминания. Дневники. Переписка. М., 1974. C.▫80.
[Закрыть].
«…Потом вижу Борьку, – пересказывал Измайлов содержание пародии, – и кличу его:
Ты поди ко мне, Борька, мой трагик плохой!
Сажаю его к себе на брюхо. Борька доносит на Панаева, что тот мне изменяет, начинает предаваться романтизму. – Далее не знаю» [286]286
Левкович Я. Л.Литературная и общественная жизнь пушкинской поры. C.▫167.
[Закрыть].
Последние фразы загадочны. В известном нам тексте пародии никаких упоминаний о Панаеве нет. Быть может, Дельвиг собирался продолжать стихотворение?
Любопытно и другое. Измайлов упоминал о пародии Дельвига сразу вслед за рассказом о собрании «соревнователей», состоявшемся в конце декабря 1824 года, и о вечере у Княжевичей тогда же; в этих собраниях, видимо, и стали известны стихи Дельвига.
Не ошибся ли Андрей Иванович Дельвиг, объединив разные и разновременные литературные собрания? Или Измайлов узнал стихи Дельвига поздно?
И то, и другое возможно, – но, пока у нас нет иных документов, мы вынуждены остановиться на свидетельстве Дельвига. Правда, в 1824 году ему было всего одиннадцать лет, и своего кузена он узнал только в 1827 году, – но три года не столь уже большой срок, чтобы за это время события стерлись из памяти. Может быть, действительно, Пономарева не стала сообщать Измайлову о сатирических стихах против него. Что же касается отношения ее к литературным шуткам подобного рода, то на этот счет у нас есть еще один факт, также относящийся к началу 1824 года и в своем роде не менее загадочный.
* * *
Во втором, февральском, номере журнала Измайлова за 1824 год появилась статья: «Страждущий поэт к издателю „Благонамеренного“». Статья представляла собою письмо пародийного свойства от имени некоего молодого поэта, испытавшего нелепые и невероятные превратности судьбы. С первых дней юности он чувствовал призвание к поэзии; по прибытии же в столицу «новые трогательные элегии и баллады» наполнили его слух и душу. «Баловни-поэты, воспевающие в тиши времена года, говоры пернатых, родные края и приветы юных красот», «послания их друг к другу и к юным знакомым подругам первых незабвенных лет» стали для него образцом. Полностью предавшись поэзии в этом роде, юный адепт потерял имение, а гоняясь летом за резвым мотыльком, выколол себе глаз. Привыкши «смотреть на туманную даль» в поисках таинственного будущего, он получил ревматизмы, а «взирая на бунтующие ветры, срывающие зеленую одежду с шумящих <…> деревьев», был вымочен насквозь дождем и, лежа на одре болезни, пропустил время издания «Полярной звезды», куда хотел послать свои сочинения. Ныне он обращался к издателю, прилагая образцы своих элегий:
«Юности беспечной младость,
Счастье прежних бывших дней,
Сердца девственная радость,
Призрак памятный для ней!
Миновалось, миновалось, Цвет увял души моей…»
Письмо было подписано: «Мотыльков» [287]287
Благонамеренный. 1824. № 5. C.▫343–353.
[Закрыть].
Л. Г. Фризман, впервые обративший внимание на эту пародию, не сомневался в том, что ее автор – Пономарева [288]288
Фризман Л. Г.Жизнь лирического жанра: Рус. элегия от Сумарокова до Некрасова. М., 1973. C.▫67–73. Вторая книжка «Соревнователя» получила билет на выпуск из типографии 2 февр., пятая книжка «Благонамеренного» с письмом Мотылькова явилась с запозданием 20 марта (ЦГИА, ф. 777, оп. 1, № 370). Какое-то время должно было пройти до появления пародии Дельвига; с другой стороны, статья Мотылькова написана, когда номер журнала еще только формировался, а может быть, и ранее.
[Закрыть].
В самом деле, мог ли самозванец принять псевдоним попечительницы «Сословия друзей просвещения» в журнале, издаваемом прежними его участниками?
И при всем том доля сомнения в авторстве Пономаревой остается. С тех пор, как «незабвенное общество» пришло к своему концу, его псевдонимами перестали пользоваться, – и в «Благонамеренном» никто из прежних членов давно уже ими не подписывался. Более того: Мотыльков – псевдоним значащий и без индивидуального отпечатка, как Баснин, Арфин или Аркадин; здесь возможен омоним. И упоминание «мотылька», сыгравшего роковую роль в судьбе злосчастного поэта, и самая эфемерность его поэзии, и легкомыслие творца – все это могло побудить к вольному или невольному похищению. К тому же мы не знаем ни одного выступления Пономаревой в печати, она словно намеренно удерживала при себе даже перевод из Гольдсмита, как будто скрывая его от посторонних глаз. Между тем «письмо» написано профессиональной рукой, – не только в прозаической, но и в стихотворной своей части. Писать жанровые и стилевые пародии вообще трудно – а пародии Мотылькова удачны и даже не вполне обычны.
Да и могла ли Пономарева включиться в полемику против «молодого поколения», которому сама открыла двери в свой дом, которое влюблялось в нее и писало ей настоящие, превосходные стихи, хранимые ею как особая ценность? И что могло заставить ее именно теперь нарушить обет литературного молчания, соблюдаемый все эти годы?
Все эти вопросы возникают неизбежно, если мы допустим авторство Пономаревой.
И все же нам придется это сделать, хотя, быть может, и не с полной уверенностью.
В реестрах пьес, поступивших в 1824 году в Общество любителей словесности, наук и художеств, против занимающей нас статьи значится: Мотыльков.
Это естественно в оглавлении журнала, а в реестре необычно: за все время деятельности общества ни одного псевдонима в них не было. Если хотели сохранить анонимность, сочинение либо вообще не вносили в реестр (и не читали публично), либо писали: «Представлено от неизвестного». Памфлеты Федорова, например, как мы уже говорили, в реестрах не значились.


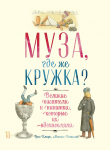

![Книга Писательницы пушкинской поры [историко-литературные очерки] автора Михаил Файнштейн](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-pisatelnicy-pushkinskoy-pory-istoriko-literaturnye-ocherki-195320.jpg)