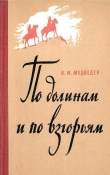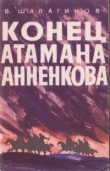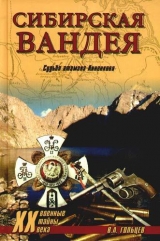
Текст книги "Сибирская Вандея. Судьба атамана Анненкова"
Автор книги: Вадим Гольцев
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
– Это было! – отвечает Анненков. – В трех районах и в Славгороде были! Порок же в Славгороде не было – расстреливали, рубили…
– Жаловались ли вам крестьяне на то, что их пороли?
– Да, жаловались!
– А о таких случаях вам не говорили, что у пойманных жителей якобы вырезали глаза, полосы кожи и прочее?
– Нет, не говорили, но утверждать, что их не было, не могу!
– А таких сведений вам не поступало, что в некоторых деревнях происходили поголовные порки?
– Таких сведений я не получал, но получал сведения, что порки вообще были!
Суду очень хотелось доказать личное участие Анненкова в работе следственной комиссии и в вынесении приговоров повстанцам. Нужно отдать суду должное: он умело расставлял допросные сети и нередко Анненков в них попадал, но затем поправлялся, вносил ясность, в правдивости которой даже у суда не было оснований сомневаться.
– Следственная комиссия по делу Славгородского восстания была назначена Колчаком? – полуспрашивает-полуутверждает гособвинитель.
– Да! – подтверждает Анненков.
– Она целиком, во всех отношениях подчинялась вам?
– Да! – опрометчиво соглашается он.
– Председатель следственной комиссии согласовывал с вами действия?! – наступает гособвинитель, но Анненков уже понял свою оплошность и твердо поправляет:
– Нет, он сносился прямым проводом с Омском! Моя задача была только подавить восстание!
Не увенчались успехом и попытки суда изобличить Анненкова в личном его участии в расстрелах и порках.
Председатель: Скажите, Анненков, вы лично, сами приводили в исполнение какое-нибудь решение?
Анненков: Нет, не приводил!
Председатель: Вы не участвовали в безобразиях, творимых вашими частями?
Анненков: Нет, не участвовал!
Это тоже была правда! На протяжении всего процесса ни один заслуживающий у суда довериея свидетель не показал, что Анненков кого-то расстрелял, избил или выпорол. Не царское это дело! Приказывал, но рук не пачкал!
Мы уже знаем, что восстание было подавлено до прихода Анненкова. Ему оставалось только проведение мобилизации, чем он и занялся. Остальное делали следственная комиссия, гражданские и военные чины, хлынувшие сюда из Омска для восстановления разогнанной власти.
Пребывание Анненкова и его отряда в Славгороде было кратковременным. 17–18 сентября в Славгород для проведения мобилизации прибыл Украинский полк, или, как его называли, курень, под командованием полковника Шевченко. Вот этот полк с местными жителями не церемонился!
– Те, кто грабил, – показывает свидетель Сивко, – говорили на украинском языке!
– Отсюда явствует, что славгородская расправа не за душой Анненкова, а за теми украинскими бандитами, которые после его ухода хозяйничали в Славгородском уезде! – твердо заявил на суде защитник Анненкова Борецкий.
На суде не мог не возникнуть и возник вопрос, руководил ли Анненков войсками в Славгороде или он сознательно не делал этого, предоставив им полную свободу пороть, насиловать, грабить.
– Вы отдавали приказы своим частям в Славгороде? – задает вопрос гособвинитель.
Сугубо штатский человек сформулировал свой вопрос неправильно, чем ввел Анненкова в недоумение и на некоторое время выбил его из седла. Ведь в понятии военного человека Анненкова приказ – это письменный документ, издающийся на основе анализа каких-либо событий и требующий значительного времени для подготовки и доведения до частей. В той обстановке, которую исследовал суд, издавать приказы было просто некогда. В такой обстановке отдаются не приказы, а распоряжения, что и делал Анненков. Гособвинителю нужно было спросить, принимал ли Анненков меры к пресечению беспорядков, и получить четкий ответ. Поэтому Аненков спокойно ответил:
– Нет!
– Значит, – обрадованно продолжает допрос гособвинитель, – воинские части в городе были без всякого руководства?!
– Нет! – пораженный таким восприятием его слов, отвечает Анненков. – Я давал отдельные распоряжения, не размножая их по частям!
– Значит, вы признаете, что ничего не предпринимали, чтобы прекратить бесчинства ваших частей в Славгороде? – гнет свое гособвинитель.
Но Анненков уже оправился.
– Нет! – твердо отвечает он. – Я принимал, но сейчас считаю предпринимаемые мной тогда меры недостаточными…
Впрочем, что он мог сделать? Зеленцовские войска, которые он неожиданно возглавил в Славгороде, его не знали и встретили настороженно, со скрытой неприязнью. Это, в своем большинстве, была не спаянная ни дисциплиной, ни традициями дремучая крестьянская масса, недавно наряженная в солдатскую форму и пораженная партизанщиной, неповиновением, склонная к разбоям, грабежам, насилию. Возглавляли это воинство не кадровые офицеры и унтера, почти поголовно выбитые на фронтах Русско-японской и Великой войн, а выходцы из этой же массы, достигшие офицерских и унтер-офицерских званий благодаря личной храбрости, проявленной на фронте. Став офицерами и унтер-офицерами, они ни за что не хотели терять завоеванные по́том и кровью привилегии и готовы были уничтожить всякого, в ком видели угрозу своему положению. Эту угрозу они видели и в славгородских бунтарях, которых и наказывали примерно.
В отличие от этого воинства отряд Анненкова отличался хорошей организацией и дисциплиной. Его костяк составляли кадровые офицеры, унтер-офицеры и нижние чины, многие из которых были сослуживцами Анненкова по мирному и военному времени. Они знали и любили его за справедливость, заботу, личную смелость, боевую удачу. Именно в это время родился девиз отряда «С нами Бог и атаман Анненков», который затем стал девизом всей его партизанской армии. Через этот костяк Анненков проводил свою дисциплинарную политику, поощрял одних и быстро, строго, справедливо и неотвратимо наказывал других. Новые бойцы, приходившие в отряд, попадали не в банду, не в ватагу разбойников и мародеров, а в крепкий воинский коллектив со сложившимися традициями, дисциплиной, принципами военной и партизанской демократии и растворялись в нем, становясь бойцами. Слава об Анненкове гремела по всему Уралу, где формировался отряд. К молодому, удачливому полководцу шли сотни добровольцев, а солдаты, мобилизованные в части других военачальников, старались перебежать к Анненкову. Поэтому, с одной стороны, у него было из кого и что выбирать, с другой – появились враги и недоброжелатели.
В руках восставших Славгород и уезд находился 9 дней (Чуев). Войдя в город, Анненков, естественно, вынужден был восстанавливать в нем порядок. О том, насколько это было необходимо, видно из рапорта начальника Славгородской уездной милиции от 17 сентября 1918 года (приводится отрывок. – В. Г.)
«Экстренно о происшествии
господину Алтайскому губернскому
<…> Вскоре после начала бунта гарнизон местных войск был совершенно уничтожен, милиция обезоружена, частью ранена, частью арестована. Бунтовщики начали неимоверно издеваться: рвали тело, били, садили на раскаленное железо и проч., после чего убивали или заключали под стражу. Бунтовщиками разбиты арестные дома в Славгороде и выпущены политические и уголовные преступники, которые и принялись за очистку населения, грабя и унося с собой, что попадалось под руку. Ограблена почтово-телеграфная контора: взято 7000 рублей» {70} .
В фондах Центра хранения архивного фонда Алтайского края (ЦХАФ А.К.) есть рукописные воспоминания уж известного нам Г. П. Теребило, написанные им 2 июня 1926 года в бытность автора уполномоченным ОК ВКП(б) по Истпарту. Они, в частности, добавляют еще один штрих к разгулу повстанцев: «Эсеровские руководители в лице Рамазанова и Девизорова и др. скрылись от преследований крестьян, которые искали их отомстить им за совместную работу с белыми, был найден только один эсер – городской голова Фрей, который был тут же убит повстанцами» {71} . В своей работе Г. П. Теребило подчеркивает, что никаких документов по работе организации ВКП(б) за 1917/1918 годы не сохранилось. Материал составлен из воспоминаний.
Сохранился приказ Анненкова, направленный на наведение порядка в городе и уезде и на пополнение казны:
Приказ
№ 8
18 сентября 1918 г.
г. Славгород
Волостные земства и сельские комитеты остаются на своих местах и продолжают функционировать. В виду военного положения в уезде, председателям волостных земских управ и сельских комитетов предоставляю права волостного старшины и сельского старосты, указанные в ст. 79 и 104 Общ(его) Пол(ожения) о кр(естьянах), не исполняющих требований и распоряжений, подвергать административным взысканиям, штрафу и аресту. Сходы и собрания общественного, делового характера разрешаются и собираются председателями волостных Управ, а в обществах – председателями сельских комитетов.
Для спокойной и непрерывной работы в волостных управлениях и сельских комитетах председатели назначают дневальство в числе 2 солдат, бывших на фронте, к(оторые) будут отвечать за порядок в Управе.
Призываю население уезда немедленно внести все недоимки казенных сборов, сейчас же провести раскладку всех причитающихся с сельских обществ казенных, уездных, волостных и сельских сборов, взыскать таковые в двухнедельный срок и сдать полностью по назначению.
За неисполнение сего приказа и за нарушение порядка в присутственных местах, а также за оскорбление волостных и сельских должностных лиц и неисполнение их законных требований, виновники будут караться военными законами.
Командующий войсками Славгородского района
Атаман Анненков {72} .
Приказ как приказ, ничего необычного, угроз и устрашений в нем нет. Спокойный, солидный тон. Звериное лицо Анненкова в нем не просматривается.
По данным следствия, в Черном Доле было расстреляно 10 человек, в Славгороде – 1667, а по уезду – 5667, количество же подвергнутых порке было в 4–5 раз больше. Порки и расстрелы, конечно, были, в том числе и со стороны анненковцев, однако количество жертв никто не считал и кем, на основании каких источников выведены эти цифры – неизвестно. Вменять такое количество убитых и поротых в вину только одному Анненкову некорректно. Хотя бы потому, что в район восстания его отряд прибыл тогда, когда оно солдатской дипломатией уже было прекращено, когда все эмоции и страсти уже улеглись, и зеленцовские отряды уже работали в селах по мобилизации, а пребывание отряда Анненкова в Славгороде и в его окрестностях было непродолжительным.
По воспоминаниям Ивана Илларионовича Романенко, на Черный Дол Анненков наложил контрибуцию в 500 000 рублей, на Новоплатово – 600 000 рублей, на Утянку – 800 000 рублей {73} .
Насильственные действия белых в Славгороде вообще сильно преувеличены. Следует отметить, что повстанцы тоже не отличались гуманностью: только за один день они убили 82 офицера и 10 добровольцев. Можно только гадать, сколько бы было еще трупов, если бы продержались дольше!
Один из защитников Анненкова и Денисова – Борецкий – в пух и прах разнес статистику следствия и суда о жертвах среди жителей Черного Дола и Славгорода и фактически снял с Анненкова обвинение в массовом их уничтожении и масштабах насилия:
– Теребило говорит, что в Черном Доле убито 18 человек, а Цырюлько показывает – 22. По материалам Парфенова было убито 400 делегатов, а по показаниям Теребило – 87.
Вчера, – продолжает Борецкий, – я слушал речь государственного обвинителя, что в Славгороде и его районе убито 1667 человек, но, по показаниям Теребило, они были убиты в течение полутора месяцев. Но и этих жертв было бы значительно меньше, а может быть, и не было вовсе, если бы повстанцы не перебили в Славгороде офицерский отряд в количестве 82 человек, составлявший его гарнизон. Анненков пояснял суду, что этот факт явился основной причиной насилия белых над местным населением, что это была месть офицеров за погибших товарищей. Государственный обвинитель эту цифру не отвергал, но сам факт уничтожения гарнизона пытался смягчить, цинично поясняя, что повстанцы сначала убили 20 офицеров, но потом, при отступлении их вдоль железной дороги, они были окружены и тоже «частично пощипаны».
Выше уже говорилось о задачах, с которыми часть отряда Анненкова была направлена в Славгородский уезд. Пребывание его отряда здесь было кратковременным, так как его ожидал Семиреченский фронт, где дела у белых тоже не ладились. Поскольку с восстанием было покончено без него, Анненков принял участие в мобилизации. Когда число мобилизованных достигло 11 тысяч человек, а число изъятых винтовок достигло двух тысяч, Анненков доложил в Омск о выполнении задачи и получил распоряжение возвратиться к своим основным силам на станцию Татарск и продолжать выдвижение своего отряда на Семипалатинский фронт.
– Мои отряды, – показывает Анненков, – вернулись в Татарск, куда прибыл командир 2-го Степного корпуса Матковский [28]28
Матковский Алексей Филиппович (17.3.1877–?.09.1919) – окончил кадетский корпус, Михайловское артиллерийское училище, академию Генштаба. В службе с 1894 г., офицером с 1897-го, генерал-майор (1918). Профессор академии Генштаба. Георгиевский кавалер. В Белом движении: командир 2-й Сибирской (кадровой) дивизии (10.–11.1918), командир Второго Степного Сибирского корпуса (12.1918–9.1919) и на других командных должностях. С замашками атаманщины и своеволия. Участник Омского переворота (18 ноября 1918 г.). Генерал-лейтенант. Командующий Сибирской армией. Пленен. Расстрелян большевиками в Омске.
[Закрыть], с которым я выехал в Семипалатинск. После, по его распоряжению, были переброшены в Семипалатинск все партизанские части.
Мятеж
Во второй половине XIX века в северном Семиречье, у подножия Джунгарского Алатау, возник ряд сел, основанных крестьянами, переселившимися сюда из центральных районов России в надежде найти свободные земли. Но свободных земель здесь уже не было: они уже давно была переданы в вечное пользование семиреченскому казачеству, поэтому переселенцы были вынуждены на тяжелых условиях арендовать землю у казаков и кулачества. Кабальные условия аренды, эксплуатация новоселов казачеством порождали их недовольство и вражду с ним.
Наиболее крупными из этих сел были Андреевское, Герасимовское, Глиновское, Колпаковское, Константиновское, Николаевское, Антоновское, Надеждинское, Петропавловское, Осиновское, Успенское и Черкасское [29]29
Герасимовское, Колпаковское, Константиновское и Осиновка были основаны во второй половине ХIХ в., остальные – в 1905–1907 гг.
[Закрыть] {74} .
Население этих селений, по данным 1913 года, составляло 28 444 человека, из них 14 515 мужчин и 13 929 женщин. По селам оно распределялось следующим образом (см. таблицу).
Весть об отречении Государя в Семиречье встретили спокойно. «Документами зафиксирован только один случай открытого неприятия свержения самодержавия – со стороны небольшой группы саркандских [30]30
Саркандских – из станицы Саркандской.
[Закрыть]казаков во главе с атаманом Назаровым. Они были подвергнуты публичному осуждению, а первый войсковой съезд принял решение арестовать их как злостных реакционеров» {75} .
А вообще-то страсти кипели и иногда прорывались наружу. Казак К. М. Арофьев вспоминает: «Когда Осипов искал Дегтярева, они зашли в дом Павличенковой и спросили, где она спрятала Дегтярева. Она подняла подол юбки, показала обнаженное тело задницы и сказала: вот тебе Дегтярев! Рассвирепевший полковник приказал Павличенкову высечь. Избили до потери сознания». «Казак Силин 2-го казачьего полка Тополевской станицы признался отцу, что он большевик. Отец собрал своих соседей, выкопал могилу в своем дворе и закопал живьем сына. Жена сына побежала по селу. Прибежали соседи, выкопали сына, но тот был уже мертв» {76}
Одним из первых шагов буржуазного Временного правительства было привлечение на свою сторону казачества – организованной по-военному силы, постоянно находящейся среди наиболее подверженной бунту части российского общества – крестьянства и способной в случае необходимости подавить его. Поэтому правительство немедленно заявило о незыблемости земельной собственности казачьих войск, санкционировало созыв во всех казачьих областях выборных представителей от станиц для выработки предложений по интересующих казаков проблемам, а также создание в станицах новых представительных органов – исполкомов. Естественно, власть в станицах, а в Семиречье и в переселенческих селах, находящихся на территории казачьих войск, и земля фактически остались в руках казачества, а крестьянство не получило ни того, ни другого.
Октябрьскую революцию в Семиречье встретили бы тоже равнодушно, если бы не Декрет «О земле», составленный на основании 242 наказов, доставленных крестьянскими депутатами на 1-й Всероссийский съезд крестьянских депутатов в Петроград в 1917 году.
Как известно, Декрет отменил частную собственность на землю, запретил ее продажу, аренду и залог, объявив ее всенародным достоянием. Право пользования землей получили все граждане при условии обработки ее своим трудом. Всякая плата за пользование землей отменялась. Крестьянам передавалось 150 миллионов десятин земли.
Но помещичьих, царских, монастырских, церковных и других земель, которые передавались Декретом крестьянам, в Семиречье почти не было. Поэтому, несмотря на то что пункт 5 Декрета особо оговаривал, что земли крестьян и рядовых казаков не конфискуются, казаки, особенно после возвращения с фронта солдат, учуяли угрозу своим земельным наделам.
В начале 1918 года процесс активного установления советской власти пошел и в Семиречье. 3 марта она победила в Верном, 10-го – в Джаркенте, 12-го – в Сергиополе, 14-го – в Капале и Лепсинске, 15-го – в Гавриловке, 18-го – в Урджаре. К лету этого года Советы в Семиречье были сформированы повсеместно.
18 марта 1918 года Капальский уездный земельный комитет принял постановление о выделении 150 десятин земли безземельным крестьянам, проживающим в селах Гавриловское и Ново-Алексеевское, без различия национальностей, а 20 марта та же комиссия передала 200 десятин безземельным жителям станицы Карабулакской за счет поливных земель Лебедевской и Каратальской волостей. 22 марта Верненская уездная земельная комиссия постановила отвести 300 десятин удобной земли казахским шаруа [31]31
Шаруа ( каз.) – бедняки; исторически – крестьяне-скотоводы, кочевники, составлявшие в феодальном обществе категорию зависимых, юридически закрепощенных крестьян, скотоводов и земледельцев. ( Примеч. ред.)
[Закрыть]в ауле Тогузбулак, 150 десятин – уйгурским дехканам, проживающим в селениях Османгазы, Балы-Казак и Среднем Аксу, 50 десятин – жителям села Кичак-Бура. По решению Джаркентской уездной комиссии от 10 мая безземельные и малоземельные крестьяне села Кольджат получили 100 десятин пахотной земли. В отдельных волостях области производилась конфискация скота у крупных баев, произведен передел сенокосных угодий. Такие мероприятия советской власти вызывали недовольство и злобу у богатых казаков, крупных баев, хуторян, кулаков. Весной 1918 года их скрытое сопротивление сменилось открытыми мятежами, целью которых было свержение советской власти.
16 апреля1918 года бывшее офицерство и казачье-байcкая верхушка станиц Малой и Большой Алматинских, Софийской (ныне г. Талгар), Надеждинской (ныне г. Иссык) в союзе с алашордынцами, эсерами и меньшевиками подняли антисоветский мятеж в г. Верном – центре Семиреченской области и окружили его. Борьба с мятежниками длилась более месяца. Мятеж был подавлен только с помощью красногвардейского отряда, прибывшего из Ташкента.
В это же время вспыхнули антисоветские мятежи в Северном Семиречье, в казачьих станицах Урджарской, Лепсинской, в селах Маканчи, Уч-Арале и других. Для ликвидации этих мятежей и укрепления советской власти Семиреченский облисполком направил в Капальский и Лепсинский уезды сильные красногвардейские отряды. Так, 31 мая туда вышел крупный, хорошо вооруженный отряд под командованием И. Е. Мамонтова, в состав которого была включена рота 1-го Семиреченского красногвардейского полка, 4 июня туда же выступил еще один крупный отряд под командованием Н. Н. Затыльникова в составе одной роты того же полка и взвода 27-й Туркестанской легкой батареи.
Соединившись северо-восточнее Верного, отряды двинулись в мятежные уезды, попутно пополняя свои ряды добровольцами. Однако ввиду захвата Джаркента белоказаками, бежавшими сюда после подавления Верненского мятежа, маршрут отряда Затыльникова был изменен, и он пошел на Джаркент.
Реализуя планы расчленения России и создания на ее национальных окраинах государств, зависимых от империалистических держав, интервенты 11 июня 1918 года захватили Семипалатинск, и вскоре в их руках оказалась вся территория, занимаемая ныне Северным и Северо-Восточным Казахстаном. Захват сибирской контрреволюцией Семипалатинска открыл ей дорогу на северные районы Семиречья – на Сергиополь, затем – Верный и далее вглубь Туркестана.
Взятие Семипалатинска явилось сигналом для активизации казачьих мятежей в Капальском и Лепсинском уездах. Казаки разгоняли местные Советы, арестовывали их членов и нередко расстреливали их, создавали вооруженные отряды. 15 июня 1918 года Сергиополь телеграфировал Семиреченскому облиспокому, что казачьи отряды в Урджаре «разобрали оружие <…>, предполагая нападение на село Благодатное. Районный Совет арестован. Телеграф прерван между Урджаром и Андреевкой». В этот же день облисполком направил Сергиопольскому Совету телеграмму, извещая, что к ним идет большой отряд Мамонтова, и призывая Совет держаться {77} .
17 июня Семиреченский областной Совет объявил область на военном положении и решил направить в северные районы еще несколько красногвардейских отрядов. Решение о формировании отрядов приняли и уездные Советы. В отряды записалось около тысячи человек. Командиром Лепсинского отряда, вопреки мнению уисполкома, предлагавшего на эту должность лепсинца, солдата-фронтовика и большевика Ивана Зенина, с подачи Верного был назначен некто Иванов как человек, сведущий в военном деле, а Зенин был назначен его заместителем.
Тем временем отряд И. Е. Мамонтова, численность которого достигла 500 бойцов, при двух орудиях и четырех пулеметах продвигался вперед. 3 июля 1918 года он без боя занял село Уч-Арал, а 4 июля, разбив под селением Рыбачье отряд белоказаков, начал наступление на главный опорный пункт мятежников – станицу Урджарскую, которая 8 июля пала. Разбитые мятежники, в поисках спасения, ринулись на китайскую территорию. Выбросил мятежников за рубеж и отряд Затыльникова. Китайские власти не на шутку переполошились.
«Власти провинции Синьцзян, – вспоминает Николай Никонович Затыльников, – обратились к нам с просьбой, чтобы отряды Красной гвардии воздержались от преследования белогвардейцев на территории Китая. Мы воспользовались этим случаем и предъявили требование выдать бежавших в Синьцзян белых офицеров, как уголовных преступников <…> Начавшиеся переговоры ни к чему не привели. Белых нам не выдали» {78} .
Власти Синьцзяна оказывали огромное давление и на консульские службы царской России, до той поры еще действовавшие здесь, требуя от них принятия мер к исключению возможности преследования красными мятежных казаков. Перепуганный успехами отряда И. Е. Мамонтова царский консул в Чугучаке полковник Долбежев В. В. [32]32
Долбежев Владимир Васильевич (1873–1958) – консул царской России в Чугучаке. Преданно выполнял обязанности по защите интересов России в Китае и ее граждан, оказавшихся на территории этого консульского округа. В период Гражданской войны оказывал дипломатическую, материальную, снабженческую, консультационную и иную помощь и поддержку Директории, Колчаку и другим руководителям Белого движения, в том числе атаману Анненкову и генералу Бакичу, затем эмигрантам. В ноябре 1920 г. уехал в Пекин, где занялся преподаванием китайского языка русским эмигрантам. Позже он поселился в Вермонте (США).
[Закрыть]направил в Омск паническую телеграмму, в которой писал: «Положение создалось неожиданно ужасное. По соглашению консульства с властями беженцам открыт свободный путь через границу в Чугучак. Одновременно весь чугучакский гарнизон находится под ружьем, чтобы воспрепятствовать отрядам большевиков преследовать беженцев за пределами границы на китайской территории <…> Одновременно мною дано указание Комитету спасения и начальнику Бахтинского гарнизона немедленно собрать все силы отрядов Комитета, организовать новую разведку и по возможности препятствовать большевикам подойти к Бахтам <…> Убедительно прошу Вас сделать все возможное, чтобы отряды из Семипалатинска выступили возможно скорее на Сергиополь» {79} .На телеграмме Долбежева командующий Западно-Сибирской армией полковник Гришин-Алмазов написал, что он с действиями Долбежева согласен и что приняты меры к ускорению активных военных действий.
Однако телодвижения Долбежева по воспрепятствованию продвижения Мамонтова к границе запоздали. 9 июля 1918 года пограничное укрепление Бахты им было взято, а его гарнизон проторенной дорогой бежал в Китай.
Выбросив мятежников за кордон, отряд Мамонтова вернулся в Уч-Арал.
Обеспокоенное событиями в Северном Семиречье, Временное Сибирское правительство, находившееся у власти до колчаковского переворота, решило вмешаться в события и захватить беглецов.
В составе армии Временного правительства находился тогда Степной корпус со штабом в г. Омске. В этот корпус входили: две Степных сибирских дивизии (1-я и 2-я), четырехполкового состава каждая, три Сибирских казачьих полка, Украинского гетмана Сагайдачного курень, 1-й польский легион, Сербская добровольческая конвойная рота, Новониколаевский отдельный эскадрон и 1-я и 2-я Сибирские Степные легкие батареи {80} . Степным корпусом командовал генерал-майор А. Н. Иванов-Ринов.
Для захвата Семиречья Ивановым был срочно сформирован сильный отряд в составе двух рот 5-го Степного сибирского пехотного полка, одной сотни 3-го казачьего полка и отдельной роты капитана Ушакова. Командование этими силами было возложено на старого семиреченца, около 30 лет прослужившего в этих краях и хорошо знавшего местные условия, полковника Ярушина [33]33
Ярушин Федор Гаврилович (17.06.1867–?) – полковник (1918), генерал-майор (1919). Окончил кадетский корпус и Павловское военное училище. Участник 1-й мировой войны. В казачьих войсках (1914–1917). На Семиреченском фронте с мая 1918-го по май 1920-го. В 1921 г. выведен в СССР. Другими данными автор не располагает.
[Закрыть]. Ближайшей задачей полковника Ярушина был захват Сергиополя и свержение здесь советской власти, следующей – формирование из зажиточной части казачества, кулачества и байства белогвардейских и алашордынских отрядов и свержение советской власти в северных районах Семиречья. Для вооружения этих отрядов Ярушину было выделено 1000 винтовок, 60 тысяч патронов, обмундирование и другое снаряжение.
Уже 11 июля по тракту Семипалатинск – Сергиополь запылила длинная колонна под командованием двух опытных, прошедших фронт, офицеров – капитанов Виноградова и Ушакова. Отряды провожали пышно. Вот как описывает современник проводы отряда капитана Виноградова: «Перед выступлением белогвардейского отряда было совершено молебствие, на которое собралась вся городская знать. Ярый монархист, черносотенец поп Правдин, махая кадилом, благословлял доблестное воинство Временного Сибирского правительства на борьбу с Советской властью и антихристами-большевиками. Командир отряда капитан Виноградов, один из организаторов контрреволюционного переворота в Семипалатинске, ползал на коленях перед иконами и хоругвями, клялся не возвращаться без победы. Он действительно не вернулся» {81} .
Первым препятствием на пути объединенного отряда был Сергиополь. Город играл важную роль на севере Семиречья, так как находился на перекрестке двух трактов: Верный – Семипалатинск и Семипалатинск – Чугучак. Захват Сергиополя обеспечивал бы белым возможность постоянной связи с сибирской контрреволюцией, установления тесных сношений с дальним зарубежьем через Китай и дальнейшее продвижение в Семиречье и в Туркестан.
В связи с приближением белых здесь был сформирован красногвардейский отряд во главе с Н. Апрошкиным и С. Габбасовым, а 19 июля был создан временный Военревком, к которому перешла вся политическая и военная власть в городе. Вокруг города отрывались окопы, строились укрепления. 15 июля на помощь Сергиополю из Лепсинска выступил отряд под командованием Иванова. В пути в отряде началось брожение. Многие красногвардейцы, вступая в отряд, рассчитывали защищать только свои села и очаги и не хотели идти на Сергиополь. Начались митинги, зазвучали призывы вернуться, началось самовольное оставление отряда. На привале за Уч-Аралом, у пикета Каракол, что у озера Сасыкколь, вновь начался митинг, после которого всем, кто не желал идти на Сергиополь, было разрешено оставить отряд, предварительно сдав оружие. Значительная часть «красногвардейцев» ушла, после чего в нем осталось около 400 бойцов.
Участник Черкасской обороны Г. Т. Харченко утверждает, что Иванов сам распустил отряд. Поверив непроверенным слухам, что белые отошли от города, он якобы решил, что для усиления Сергиопольского гарнизона теперь достаточно и 400 бойцов, и двинулся дальше {82} .
В описаниях боев за Сергиополь у красных историков и мемуаристов нет единства. В частности, ими называются разные даты прибытия отряда Иванова в Сергиополь. Так, по данным А. С. Елагина, это произошло 17 июля {83} , по данным Г. Т. Харченко – 21 июля {84} , что, видимо, наиболее верно, так как расстояние от Лепсинска до Сергиополя составляет более 500 километров, и отряд, вышедший из Лепсинска 15 июля, за двое суток, да еще с митингами преодолеть это расстояние вряд ли смог бы.
Дата штурма белыми Сергиополя также называется разная. По данным С. Н. Покровского, штурм Сергиополя был произведен 16 июля {85} , по данным А. С. Елагина, – 18-го.
В любом случае отряд Иванова в этом бою не участвовал, хотя некоторые исследователи утверждают обратное. Первый бой за город красные выиграли и вынудили противника отказаться от дальнейших попыток штурма до прибытия подкрепления.
21 июля отряд Иванова прибыл в Сергиополь, и в тот же день белые начали второй штурм города. На этот раз защитники города потерпели поражение, и город пал.
Одной из причин сдачи города советская историография называет преступное поведение, бездарность и трусость Иванова, бросившего во время боя отряд и бежавшего в Верный.
«С первых минут боя стало ясно, что Иванов совершенно не способен к командованию, – отмечает Г. Т. Харченко. – Положив под пулеметами белых значительную часть отряда и спасая свою шкуру, он бежал. Его бегство деморализовало бойцов. И, хотя отряд возглавил И. Зенин, который сделал все возможное, чтобы отразить натиск белогвардейцев, предательство Иванова сыграло свою роковую роль. Превосходящие силы белых потеснили красные цепи. Во время одной из очередных атак, когда И. Зенин пытался поднять бойцов в штыковую атаку, он был сражен вражеской пулей. Белогвардейцы ворвались в город» {86} .
Одной из главных причин падения Сергиополя Д. А. Фурманов также считает неудачный выбор командира лепсинского отряда и легкомысленное отношение к его формированию. «Выбрав совсем невзрачного, ледащего командиришку: по годам – мальчугана, по уму – отрока, а по опыту военному – малое дитя, послали его (лучшего в ту минуту не подобрали), наказали строго-настрого: „Патронов и винтовок бери по людям, орудий – одно, а народу соберешь по дороге, пока вот тебе небольшой отрядец, с ним и отправляйся“. Командир этот парень был шустрый, особенно в тылу, особенно пока опасности и видом не видать: храбро продефилировал со своими „молодцами“ во всеоружии перед начальством, нацелил путь, разметил, что надо по карте – и ходом»! {87} .
По-другому Фурманов описывает и поведение Иванова в бою. Обвиняя, как и другие авторы, его в трусости, Фурманов говорит, что Иванов не бежал с поля боя, а «отступил, оставив гарнизон на произвол судьбы, а сам ушел на Капал» {88} .
Между бегством с поля боя и отступлением – дистанция огромного размера! В действиях Иванова никто не разбирался: осудили его быстренько, по-революционному, приклеили ярлык – и пошел он с ним кочевать по всем исследованиям! А может быть, уж не таким он был «ледащим командиришкой» и в основе его решения об отступлении лежало не желание спасти свою шкуру, а здравый расчет увести остатки своего отряда от напрасной гибели, даже путем самопожертвования? Ведь у красных – большевиков-коммунистов действовало железное правило: в бою у бойцов и командиров был только один выход из двух – победа или смерть! Просто, красиво и со вкусом!