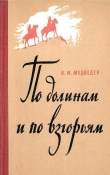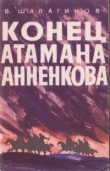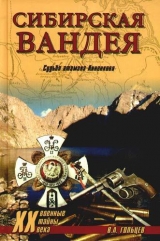
Текст книги "Сибирская Вандея. Судьба атамана Анненкова"
Автор книги: Вадим Гольцев
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
В «Истории Сибири» второй период чернодольского восстания уместился в нескольких строчках:
«Против восставших был послан вооруженный пулеметами и артиллерией карательный отряд атамана Анненкова. Плохо вооруженные, недостаточно организованные крестьяне потерпели поражение. 10 сентября анненковцы взяли Славгород. Началась дикая расправа с населением повстанческого района. С. Черный дол было сожжено».
Здесь же «История Сибири» неожиданно делает еще один комплимент Анненкову и его войску, наделяя их прямо сверхъестественными способностями:
«В конце сентября восстали крестьяне с. Шемонаиха Змеиногорского уезда Алтайской губернии. Оно тоже было подавлено анненковскими карателями» {59} .
Смею утверждать, что обвинения Анненкова в подавлении Шемонаихинского восстания несправедливы. Дело в том, что из Славгорода до Шемонаихи можно было добраться только по железной дороге через Семипалатинск, и Анненков прибыл со своим отрядом в этот город только 2–3 октября и подавлять это восстание ну никак не мог!
Перехожу к вариациям на ту же тему в исполнении Л. М. Заики и В. А. Бобренева. Они пишут:
«Как только весть о восстании дошла до Омска, Временное правительство отдало распоряжение военному министру Иванову-Ринову немедленно очистить от „большевистских банд“ Славгород и уезд. Ликвидация восстания была поручена „самому боевому и дисциплинированному полковнику Анненкову“.
Предчувствуя расправу, горожане стали убегать в степь. Но делегаты съезда, будучи уверенными, что с народными избранниками никто расправляться не будет, собрались в Народном доме, дабы быть в курсе надвигающихся событий и чтобы в случае необходимости принять меры для защиты революционной власти. Они избрали оперативный военно-революционный штаб, который и приступил к организации обороны города от белых. Однако должных мероприятий осуществить не успели, наступление Анненкова застало их врасплох. Город был занят без боя. Надежды делегатов на неприкосновенность не оправдались. Их арестовали, а затем Анненков приказал всех изрубить на площади против Народного Дома, что и было сделано. В последующие дни анненковцы расстреливали и рубили всех подозрительных.
Деревню Черный Дол, где находился большевистский руководящий штаб, сожгли дотла. Крестьян же, их жен и даже детей расстреливали, били и вешали на столбах. Молодых девушек из города и ближайших деревень приводили к стоящему на станции Славгород поезду Анненкова, насиловали, затем вытаскивали из вагонов и тут же расстреливали. При этом на каждом вагоне красовался лозунг: „С нами Бог“…
Ликвидировав Советскую власть, Анненков приступил к организации „нового порядка“: упразднил все волостные, земские и сельские комитеты, взамен которых стал насаждать институты старшин и старост. Все крестьяне под угрозой расстрела каждого пятого должны были вносить контрибуцию. Тем самым ему удалось собрать немало ценностей и денег. После произведенных расправ Анненков послал в Омск донесение о выполнении порученного ему дела. В нем он не преминул упомянуть, что Славгородский уезд не только признал власть Омского правительства, но и дал несколько тысяч добровольцев. Одновременно он ходатайствовал об оформлении добровольческой дивизии и присвоении ей его имени.
Получив столь благоприятные известия, военный министр Ива-нов-Ринов удовлетворил все ходатайства Анненкова» {60} .
Приведу выдержку из книги Государственного обвинителя на анненковском процессе П. И. Павловского. Он пишет: «Когда отряд Анненкова прибыл на станцию Татарскую осенью 1918 г., сам Анненков был вызван по прямому проводу военным министром Ивановым-Риновым и получил распоряжение отправиться в Славгородский уезд для взятия захваченного повстанцами города Славгорода с целью: 1) провести мобилизацию 1897/1899 г., 2) примерно наказать местное население за попытки противодействовать мобилизации и 3) собрать оружие, которого, по имеющимся в Омске сведениям, было в Славгородском уезде до 5–6 тысяч (винтовок).
Получивши распоряжение, отряд атамана Анненкова в составе двух рот стрелковых полков, двух сотен сибирского и оренбургского казачьих полков, гусарского эскадрона и батареи погрузился и двинулся в район Славгорода, где в этот момент оперировали 2-й офицерский егерский полк, 3-й офицерский полк и пулеметная команда.
В ночь с 10 на 11 сентября Анненков прибыл со своим отрядом; в 7 часов утра началось наступление на деревню Черный Дол, находящуюся от Славгорода в нескольких верстах. К 11 часам деревня Черный Дол была взята, а к 2 часам дня был взят и сам Славгород» {61} .
Свидетельство высокопоставленного чиновника, из первых рук получившего сведения о восстании, очень важны для нас, так как он, во-первых, зафиксировал и подтвердил данные В. Г. Мирзоева о незначительности сил Анненкова и, во-вторых, – указал точное время прибытия Анненкова в Славгород – 11 сентября. Правда, он, как и все остальные, утверждает, что и Черный Дол, и Славгород брал Анненков, хотя у него была возможность сказать правду. Он просто должен был в своей работе правдиво осветить ход восстания и дать его исследователям новые и достоверные факты, с тем чтобы исключить в будущем всякие домыслы об этом событии. Но он этого не сделал!
Обратимся, наконец, к рассказу еще одного очевидца славгородских событий – к Т. Чуеву {62} . Его рассказ о втором периоде восстания очень интересен и опровергает многое из того, о чем писали все авторы, работы которых мы только что цитировали.
Оказывается, никакого съезда в Славгороде не было. Да, была назначена дата съезда – 12 сентября, да, съехались делегаты, но съезд к работе не приступал, ибо «нагрянули анненковцы». Поэтому все рассказы о том, что на съезде был заслушан доклад представителей крестьянского штаба, – вымысел. «В действительности, – говорит Т. Чуев, – съезд не успели даже открыть». Критикуя П. Парфенова за неточность и искажение фактов, Т. Чуев говорит, что тот изображает дело так, будто славгородские повстанцы были сторонниками сибирского эсеровского правительства. Он рассказывает даже о попытке повстанцев войти в контакт с Сибирской областной Думой и Сибирским правительством. Все эти утверждения не соответствуют действительности. Не соответствуют действительности и утверждение, что начала выходить «Крестьянская газета», орган Временного крестьянского штаба. Никакой газеты повстанцы не издавали.
Парфенов слишком сгущает и без того жуткие картины анненковской расправы. В сборнике «5 лет советской власти» мы на стр. 40 читаем: «Всех арестованных делегатов съезда, членов крестьянского штаба и других активных большевиков», а в «Пролетарской революции» автор добавляет: «в числе более 500 человек», Анненков приказал изрубить на площади против Народного Дома и закопать здесь же в общую большую яму. Приказание это было доблестно исполнено.
Несколькими строками выше Парфенов говорит: «Народный дом, магазин Второва и земская управа были превращены в тюрьму, которая постепенно густо населялась».
А на стр. 70 «Пролетарской революции» Парфенов сообщает: «По распоряжению Анненкова в Славгороде были расстреляны: студент Владивостокского института восточных языков Некрасов, московский инженер Щербин, учителя Кузнецов, Капустин, Мурзин, Мотовилов и другие.
Мы, – говорит Чуев, – далеки от мысли обелять Анненкова и скрывать от читателя его „доблестные“ подвиги. Заявить, однако, должны, что никаких большевиков, да еще „в числе 500“ на площади против Народного Дома не изрубили и никого не закопали „здесь в общую яму“. Народного Дома в то время в Славгороде не было, не было никогда в Славгороде и магазина Второва. Места, превращенные в тюрьмы, не были „густо“ насажены, так как в те дни с захваченными не особенно церемонились, их не держали под арестом, а быстро чинили над ними расправу.
Среди убитых, поименованных в „Пролетарской революции“, есть такие, которых Парфенов преждевременно похоронил: немало, например, удивится Мурзин, который сейчас заведует Соцвосом*??? Славгородского окрОНО, когда узнает, что он уже мертв. В 1918 году Мурзин служил в земстве, участия в восстании не принимал, и поэтому никакая опасность ему не угрожала.
Жив и Кузнецов, который сейчас учительствует в Андреевской районной школе Славгородского округа.
Что касается остальных лиц, перечисленных Парфеновым, то мне никак не удалось установить, действительно ли они расстреляны» {63} .
Делаю столь длинную выписку, чтобы показать, как вольно авторы тех лет обращались с фактами, нередко сдабривая их своими придумками, и этот бред кочевал потом из одной научной работы в другую.
7 апреля 1957 года Т. М. Чуев закончил воспоминания о Чернодольском восстании 1918 года. Рукопись хранится в Центре хранения архивного фонда Алтайского края, как ныне называется Государственный архив края. Возвращаясь опять к тому, что в 1918 году Народного дома еще не существовало, Чуев пишет: «Народный дом организован работниками Славгородского Укома ВКП (б) в 1920 году. Приспособили для этого магазин каменского [26]26
Каменский – из города Камень-на Оби.
[Закрыть]купца Винокурова и примыкавшие к магазину складские помещения». Отсюда: раз не было Народного дома, не было и съезда!
Мы помним, как восставшие освобождали арестованных большевиков из тюрьмы, однако, по воспоминаниям И. И. Романенко, тюрьмы в Славгороде тоже не было, а арестованные содержались в трех местах: по улице Троицкая в дитенских магазинах, по улице Александровская, № 55 и в здании пожарной команды {64} .
Ну что ж, настало время ознакомиться с показаниями о Чернодольском восстании самого Анненкова, сначала – в изложении Л. М. Заики и В. А. Бобренева:
«Местное население упорно противилось мобилизации, а в городе Славгороде это сопротивление переросло в самое настоящее восстание. После объявленной Временным правительством мобилизации новобранцы перебили гарнизон Славгорода, овладели оружием и восстановили Советскую власть. Основная масса восставших находилась в деревне Черный Дол в трех верстах от города. Я получил предписание от военного министра Временного правительства Иванова-Ринова немедленно подавить славгородское восстание. Однако направленные против восставших два офицерских полка с пулеметной командой овладеть Черным Долом с ходу не смогли. Для исполнения поставленной задачи мною наступавшим было выделено подкрепление: стрелковый полк и три эскадрона кавалерии. Приблизительно 11 сентября мои части соединились с офицерскими полками и с рассветом мы начали наступление.
В 11 часов Черный Дол был занят. Затем полки повернули на Славгород, и к двум часам дня мы вошли в город. Наши потери оказались небольшими.
Тотчас же была восстановлена городская управа, ее члены находились в тюрьме и освобождены нами. Я дал следственной комиссии директивы установить активных участников восстания, а заодно и тех белых, которые виноваты в возникновении недовольства <…>. Стали изымать оружие. Все шло мирно, хотя имели место и случаи столкновений. Активных противников обнаруживали при содействии лояльно настроенных к нам жителей. Расстреливали, рубили. Но так поступали относительно мужчин, оказавших сопротивление, хотя случались эксцессы, в которых пострадали и женщины. Предотвратить это не было возможности. После выполнения поставленной задачи, моей дивизии было присвоено имя Анненкова и было получено предписание выступить на Семипалатинск…» {65} .
А теперь посмотрим на показания самого Анненкова, его соратников и участников Славгородского восстания, данными ими на Семипалатинском процессе, и, несомненно, почувствуем и разницу в языке изложения, и разницу фактическую, и посмотрим, как делается фальсификация:
На утреннем заседании 26 мая 1927 года Анненков рассказывает суду:
– В августе (1918 года. – В. Г.) я получил приказ перебросить партизанские отряды на Семиреченский фронт. Обосновавшись в городе Троицке, я доформировал свои полки и двинулся на Семиреченский фронт через Омск. В составе партизанских частей были: 1-й Оренбургский казачий полк, 1-й Верхне-Уральский полк, один стрелковый партизанский полк, один Сибирский казачий полк и две батареи при восьми орудиях.
Не доходя до Омска, мы узнали, что произошел арест Гришина-Алмазова. Вместо него командование принял генерал Болдырев [27]27
Болдырев Василий Георгиевич (1875–1933) – из крестьян. Генерал-лейтенант, командующий 5-й армией. Георгиевский кавалер, золотое георгиевское оружие. Хранил акт об отречении Николая Второго. В декабре 1917 – мае 1918-го – в тюрьме, содержался в «Крестах», Трубецком бастионе Петропавловской крепости (каземат № 7), затем в белых войсках Восточного фронта. Главнокомандующий войсками Уфимской Директории. Период колчаковщины провел в Японии. В 1920 г. вернулся, член правительства ДРВ, главком войсками Временного правительства Приморской областной земской управы во Владивостоке. Остался в СССР. В октябре 1922-го арестован, переведен в Новониколаевский местзак, освобожден летом 1923 г., служил в советских учреждениях. В 1933 г. вновь арестован и расстрелян.
[Закрыть].
По прибытии в Омск, я получил приказ военного министра Иванова-Ринова отправить часть своего отряда на подавление Славгородского восстания…
На секунду отвлечемся от показаний Анненкова и заметим, что, по свидетельству вахмистра анненковской артиллерийской батареи Вордугина, отправление этой части отряда было настолько спешным, что солдатам даже не удалось набрать кипятку.
Вернемся к показаниям атамана:
– На подавление восстания ранее было послано из бригады сибирских войск под командованием полковника Зеленцова две роты пехоты, три кавалерийских эскадрона, но они с повстанцами ничего не смогли сделать.
Вместе со следовавшим на подавление восстания Зеленцовым ехала и следственная комиссия из нескольких административных чиновников для выяснения дела и восстановления власти. По деревням уезда были высланы отряды для сбора оружия.
Выделив часть своих отрядов, 11 сентября из станции Татарск я двинулся на Славгород. К этому времени подоспели еще два сибирских полка.
Снова прервем показания Анненкова и еще раз заглянем в изложение Л. М. Заикой и В. А. Бобреневым. Итак:
«Приблизительно 11 сентября мои части соединились с офицерскими полками и с рассветом (т. е. 12 сентября. – В. Г.) мы начали наступление. В 11 часов Черный Дол был занят. Затем мы повернули на Славгород».
Таким образом, по Мирзоеву, Черный Дол и Славгород были взяты анненковцами 9 сентября, по данным «Истории Сибири» и Шелеста – 10 сентября, по данным Павловского, Заики и Бобренева – 11 сентября. Следует отметить, что даты, названные всеми авторами, кроме Мирзоева, являются одновременно и датами взятия Черного Дола и Славгорода.
Но мы уже познакомились с истинными показаниями Анненкова по этому эпизоду и знаем, что 11 сентября Анненков со своим отрядом был еще на станции Татарск, то есть в 320 километрах от Славгорода. При скорости движения поездов в то время по 30–40 километров в час преодолеть это расстояние можно было за 8–10 часов безостановочного движения. Но остановки, конечно, были. Несложные подсчеты показывают, что Анненов мог прибыть в Славгород лишь во второй половине дня 12 сентября. Славгородцы встречали его хлебом-солью, оркестрами, цветами, белыми лентами.
По воспоминаниям бывшего жителя Славгорода Я. С. Полякова, славгородская буржуазия организовала пышные празднества в честь победы над повстанцами. Купец Блохин выставил 30 ведер самогона, наварил баранины. У себя во дворе он велел ставить столы в длинные ряды. Над столами – черные знамена с оскаленным черепом и перекрещивающими костями и с надписями: «С нами Бог!» и «С нами Бог и атаман Анненков!».
Пьянка закончилась дракой, в которой было убито и ранено до 10 белогвардейцев.
В доме же купца гуляли офицеры-анненковцы, городская знать. Председатель уездной городской управы Девизоров, он же руководитель славгородской организации эсеров, лакейски поздравил карателей с освобождением города от повстанцев, выразил уверенность, что с большевиками на Алтае будет покончено. Поп Гордовский спел церковный гимн. Пьянка шла под непрерывный звон колоколов {66} .
И здесь мы должны сделать важное заявление: поскольку Черный Дол был взят 9–11 сентября, а Анненков прибыл в Славгород 12 сентября, значит, Черный Дол и Славгород он не брал! Их взял, конечно же, полковник Зеленцов! Глубоко обиженный тем, что над ним поставлен «безусый» мальчишка, он сделал все, чтобы овладеть Черным Долом и Славгородом до подхода Анненкова, и около трех суток уже хозяйничал в них! И не анненковцы, а зеленцовцы творили те безобразия (если творили!), которые семь лет спустя будут вменяться в вину Анненкову.
Многочисленные примеры истории свидетельствуют, что насилия над побежденными творятся сразу же после взятия населенного пункта. И это вполне объяснимо: азарт боя, гибель друзей и товарищей, месть, гнев, ярость, злость, напряжение, обострение эмоций и чувств, даже временное полоумие, низменные, наконец, желания царят здесь среди людей. Через некоторое время страсти утихают, разгул пресекается и становится наказуемым, устанавливается относительный, нужный победителю порядок.
У анненковцев просто не было причин для насилия: они не мерзли ночами в кулундинских степях, не терпели днем жажды, не понесли потерь, у них не было чувства озлобленности за то, что они, военные люди, топтались около какого-то мелкого селения, обороняемого неотесанным в боях мужичьем. А у зеленцовцев все это было, и они сполна могли выместить на побежденных всю накопившуюся на них злобу и в порыве безумной ярости спалить то, что осталось от села после нескольких штурмов. Но они не сделали этого, потому что село наполовину сгорело во время боев, а сжигать его после ухода из него жителей они не могли в силу достигнутого с ними соглашения.
К прибытию в Славгород Анненкова обстановка стабилизировалась, в городе работала следственная комиссия, которая занималась отнюдь не террором, а выявлением организаторов и активных участников восстания, восстановлением органов белой власти. Но отдельные эксцессы, конечно, были и до, и после прибытия Анненкова, и он это не отрицает, но отрицает лишь их массовость.
В результате боя в Черном Доле возникли пожары, и значительная часть домов сгорела. Но советская историография немедленно заявила, что никакого боя под Черным Долом не было, а оставленное жителями село было беззащитным и сожжено анненковцами после того, как они ворвались в него. Этот вымысел звучал на суде, и государственный обвинитель Павловский, который, вопреки реальным фактам, тоже заявил, что бой под Черным Долом – легенда, которая нужна была белым для оправдания сожжения села и массовых убийств в нем крестьян. Свое заявление Павловский обосновал ссылкой на показания об отсутствии боя за село свидетеля Теребило, который Черный Дол не оборонял, а скрывался в Волчихинском бору. Но это не помешало ему дать суду смехотворные, рассчитанные на наивных, показания, которые тот счел убедительными, а прокурор положил в основу своей речи. Теребило показал:
– Отряд Анненкова около 8 часов остановился около нашего села. В селе никакой охраны не было. Была одна детвора, которая нашла несколько бердан и засела на окраине в ожидании анненковцев. Я их разогнал.
Интересно получается: жители из села ушли, но почему-то оставили своих детей; враг – под селом и с минуты на минуту может войти в него, а один из главных руководителей мятежа бродит по селу и гоняет ребятишек; и кто из крестьян в это критическое и опасное время мог расстаться с такой ценностью вообще, а в данных условиях особенно, как бердана? Вот если бы был бой, то уход из села Теребило последним и случайная встреча с мужественными ребятишками, вооруженными берданами, взятыми у погибших защитников села, были бы вполне объяснимыми! Но боя-то, по показаниям самого Теребило, не было! Значит, все, рассказанное им на суде, – вымысел!
Но другие свидетели подтвердили, что бой за село был. Так, свидетель Вордугин, бывший артиллерист-анненковец, прямо подтвердил это, а свидетель Орлов рассказал, что в Черном Доле была стрельба.
О подробностях боя, ставших ему известными от полковника Зеленцова, сообщил Анненков: бой длился четыре часа, его следы Анненков видел через два дня после взятия Черного Дола. Оборона села была хорошо подготовленной; село было обнесено глинобитными стенами, а улицы – забаррикадированы.
– Два раза, – говорит Анненков, считая, как и все командиры, подчиненные войска своими, – мои части не могли его взять, боясь быть отрезанными.
Значит, повстанцы обладали значительными силами, если две роты пехоты и три кавалерийских эскадрона дважды ходили на село в атаку, а на третий – не пошли, боясь быть окруженными. Не взяв село с двукратной попытки, зеленцовцы решили больше не рисковать, а войти в село миром. Для этого они затеяли с повстанцами переговоры и договорились, что тем будет дана возможность беспрепятственно уйти из села, а зеленцовцы не будут подвергать его разорению. Обе стороны сдержали свое слово, что подтверждается оглашенными на суде материалами Алтайского ЧК, в котором говорится, что благодаря перемирию Черный Дол не подвергался разграблению.
Я пытался получить копию документа Алтайского ЧК о перемирии зеленцовцев и чернодольцев в ФСБ России по Алтайскому краю и в Центре хранения документов новой истории Восточно-Казахстанской области, как называется ныне бывший Архив Семипалатинской области. Из Центра хранения ответа я не дождался, а ФСБ России по Алтайскому краю не только сообщило, что перемирие между жителями Черного Дола и наступающими было, но и пригласила меня ознакомиться с делом при нахождении в Барнауле. Летом 2008 года я поехал в Барнаул. В ФСБ меня встретили приветливо и показали все документы по интересующему меня эпизоду. Оказалось, что зеленцовцы выполнили соглашение о сохранении Черного Дола, но с приходом Анненкова начались грабежи, и чернодольцы заключили мирное соглашение и с Анненковым. Вот выписка из дела Алтайской ГЧК 146: «От оставшихся граждан было подано Анненкову ходатайство о прекращении грабежей. Соглашение было достигнуто под ультиматумом сдачи всего оружия. Анненков со своим штабом на автомобиле приезжал в с. Архангельское (Черный Дол), где был отслужен молебен и сказано слово на тему „О напрасном и вредном выступлении“, после чего был устроен обед для всего штаба атамана Анненкова. Этим и были прекращены грабежи, творимые в то время» {67} .
Таким образом, легенда, придуманная советскими летописцами, о том, что боя под Черным Долом не было, а анненковцы сожгли без боя оставленное жителями село, на суде рухнула. Бой был, но закончился примирением. Но это не мешало советским историкам Белого движения эксплуатировать свою версию до самого последнего времени: отбросив первую половину события, они усиленно разрабатывали вторую, выдавая свободный уход из села его защитников и жителей по договоренности за оставление села без боя.
О том, что отряд Анненкова не принимал участия во взятии Черного Дола и, следовательно, не имеет никакого отношения к пожару в селе, грабежам и насилиям, если они были, свидетельствуют и другие факты. В частности, тот же анненковский вахмистр Вордугин, как артиллерист, должен был играть одну из основных ролей во взятии села. Однако о бомбардировках села он ничего не говорит, обстоятельства его занятия излагает только по слухам и рассказывает суду легенду, услышанную им от есаула Кузнецова о том, что атаман Анненков при штурме Черного Дола был одет в гражданское платье. К чести суда, он правильно оценил это сообщение и не придал ему значения, но один из присутствовавших на суде журналистов уцепился за эту «сенсацию» и в своей публикации радостно воскликнул: «Так вот почему Анненкова никто не видел среди наступавших на Черный Дол!» Догадка корреспондента абсурдна, хотя бы потому, что Анненков никогда не пошел бы в бой в цивильном платье! А не видели его под Черным Долом потому, что его и его отряда там не-бы-ло!
То, что Анненков Черного Дола не брал, подтверждает и его диалог с председателем суда на дневном заседании суда 28 июля:
– Вы сами, Анненков, были в Черном Доле? – спрашивает он.
– Да! – подтверждает Анненков, – был! – и уточняет: – Через два дня после его взятия!
– Ну и что же, – иронизирует председатель, – в прекрасном состоянии его нашли?
– Нет, – четко отвечает Анненков, – деревня была сожжена! {68} .
Этот диалог убедительно подтверждает, что Анненков село не брал, и позволяет сделать вывод, что, если бы Черный Дол брали его партизаны, он вошел бы в него сразу после взятия, одним из первых, а не через два дня после боя!
И еще одно доказательство неучастия отряда Анненкова во взятии Черного Дола. На суде Анненков, не называя своих сил, говорит, что он взял с собой на Черный Дол часть своих отрядов, а к этому времени в Татарск подоспели еще два сибирских полка. Говоря же о силах полковника Зеленцова, находившихся под Черным Долом, Анненков сообщает, что они составляли две роты пехоты и три кавалерийских эскадрона. Эти же цифры называет и Мирзоев, который, правда, по обычаю, именует их анненковскими {69} . Однако, зная уже кое-что из описываемых событий, мы легко догадаемся, что не только анненковского отряда, но и никаких сибирских полков под Черным Долом не было, потому что об этом сказали бы и Терибило, и другие свидетели, и Мирзоев в своем труде. И вообще следует усомниться в том, что для подавления столь незначительного, плохо организованного бунта были двинуты эти полки: трудно представить, что Омск в условиях неудач на Восточном фронте мог себе позволить отвлечь такое значительное количество сил и средств.
Из сказанного можно сделать только один вывод: силы, брошенные омским правительством на подавление чернодольского восстания, советскими источниками сильно преувеличены. Так, Л. М. Заика и В. А. Бобренев в своей работе указывают, что у полковника Зеленцова под Черным Долом было два полка пехоты, а отряд Анненкова составлял стрелковый полк и три эскадрона кавалерии. Кто же все-таки прав: Анненков и Мирзоев или Заика и Бобренев? Полагаю, что первые два. Мирзоев полностью подтверждает цифру Анненкова, никакого смысла занижать эту цифру для него не было. Наоборот, если бы он ее увеличил, то поднял бы тем самым еще выше престиж восстания и еще рельефнее показал бы панику перед ним омских правителей.
Подводя итог сказанному, можно сделать единственно правильный вывод: Анненков Черный Дол не брал и, следовательно, анненковцы к его сожжению и насилиям над селянами никакого отношения не имеют.
Мне могут возразить: а как понимать показания Анненкова о взятии им Черного Дола и занятии Славгорода? Таких показаний не было. При изучении судом этого эпизода Анненков совершил роковую ошибку: он понял местоимение «вы», с которым обратился к нему председатель суда, не как личностное, а как обобщающее понятие «белые», «ваша сторона» и т. д. и дал на вопросы правильные ответы. Придание судом этому местоимению личностного оттенка было его уловкой, на которую Анненков клюнул и оговорил себя. Все детали боя, которые он рассказал суду, были почерпнуты им из докладов полковника Зеленцова и других участников боя, а не из личных наблюдений.
Другим обвинением, вменяемым Анненкову, было уничтожение делегатов крестьянского съезда Советов, хотя мы уже знаем, что никакого съезда не было, потому что не существуют ни его протоколы, ни резолюции, ни решения. Однако, ради истины, было достаточно соотнести дату работы этого съезда с датой прибытия Анненкова в Славгород, чтобы этого обвинения не возникло. Однако оно было предъявлено, и Анненков обвинялся в убийстве 400 делегатов. Откуда взялась эта цифра – никто не знает. Почему этот крестьянский съезд называется съездом Советов, хотя таковых на территории уезда в то время не было, – можно только догадываться. Тем не менее цифра 400 легла в основу обвинительного заключения, ее же назвала в статье «Генерал Анненков и его сподвижники» газета «Известия» от 15 июля 1927 года. Однако на судебном процессе эта цифра продержалась недолго. Сначала ее почти в четыре раза вынужден был сократить главный свидетель славгородских событий, уже известный нам Теребило, заявив суду, что в Славгороде было арестовано только 80 делегатов. Приблизительно эту же цифру назвали и другие источники. Это вынудило гособвинителя Павловского оправдываться перед судом и народом за преподнесенную следствием цифру и заявить:
– Мы в этом отношении на судебном следствии установили ошибку в обвинительном заключении. Было убито 82 человека уездного крестьянского съезда вместо 400, которые указаны в обвинительном заключении, но, – продолжает оправдываться он, – общая сумма убитых в Славгороде доходит до четырех тысяч с лишним человек.
Количество убитых делегатов до сих пор никто не устанавливал, и до последнего времени фигурировали разные цифры. Так, Д. Л. Голинков, человек достаточно информированный, в прошлом следователь по особо важным делам в Прокуратурах РСФСР и СССР, называет 69. Сам Анненков на суде факт уничтожения делегатов съезда категорически отрицал и был абсолютно прав, так как еще задолго до процесса было точно установлено, что никакой рубки крестьянских делегатов под стенами Народного дома не было, как не было в то время и самого Народного дома.
Казалось бы, все ясно: Анненков под Черным Долом не был, в Славгород вошел 12 сентября, через два дня после его занятия зеленцовцами, и, следовательно, крестьянский съезд разгонять не мог. Но как раз последнего никак не может понять председатель суда, которому во что бы то ни стало нужно было доказать участие и вину Анненкова в разгоне съезда и в уничтожении его делегатов.
– Вы знали, что в Славгороде проходил крестьянский съезд? – обращается председатель к Анненкову.
– Я узнал об этом случайно, по прибытии в Славгород! – отвечает тот. – Делегаты съезда заблаговременно уехали из Славгорода!
– Но ведь есть сведения, что делегаты съезда, думая, что их, как представителей народа, не посмеют тронуть, остались в Славгороде!
– Я не допускаю того, ибо положение было военное, все равно что наступление. Не мог же этот съезд остаться в белой обстановке в Славгороде! – резонно заявляет Анненков.
– Следовательно, вы считаете, что он не был разгромлен?
– Да!
– Вы утверждаете, что по приходу войск в Славгород никаких повстанческих организаций: ни съезда, ни временного революционного штаба не было?
– Да!
Точно зная, что Анненков говорит правду и свернуть его с этого пути не удастся, суд больше к этому эпизоду не возвращался, разумно полагая, что дальнейшие «раскопки» приведут к снятию с Анненкова одной из важнейших статей обвинения.
Однако то, что знал суд, не знали люди, присутствовавшие на нем, и многомиллионная общественность всей страны, жадно глотавшая все, что появлялось об Анненкове и его процессе, в газетах и радио. Всякое отрицание Анненковым какого-либо эпизода, инкриминированного ему судом, расценивалось ими как запирательство для ухода от ответственности, что вызывало к Анненкову пролетарскую ненависть и удовлетворение тем, что наконец-то этот отпетый белогвардеец оказался на скамье подсудимых и получит крайнее возмездие!
Но Анненков был правдив перед судом.
– Не было ли случаев расправы без суда и следственной комиссии в момент Славгородского восстания? – спрашивает председатель суда.