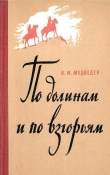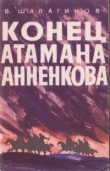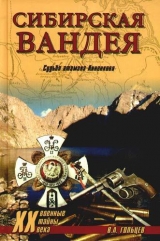
Текст книги "Сибирская Вандея. Судьба атамана Анненкова"
Автор книги: Вадим Гольцев
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Верхне-уральский фронт
В конце августа 1918 года белочехи и белоказаки Оренбургской армии атамана А. И. Дутова осадили Верхне-Уральск – захолустный, мещанско-купеческий уездный городишко Оренбургской губернии. Он и сегодня лежит в широкой долине реки Урал при впадении в него другой реки – Урляди, на восточном склоне Уральского хребта. Город был основан в 1734 году для ограждения восточных пределов государства от набегов киргиз и других кочевников как крепостца Верхнеяицкая. По переименовании реки Яик в реку Урал крепость получила нынешнее название. По переписи 1897 года (т. е. незадолго до описываемых событий. – В. Г.), жителей – 11 103 (5401 мужчин и 5702 женщин). Жилых зданий – 310, церквей – 6, часовен – 1, мечетей – 2. Вблизи – конный завод. Учебных заведений – 3 {44} .
Под городом было сосредоточено более 80 тысяч войск, но все попытки овладеть им были безуспешными. Объединенный красногвардейский партизанский отряд И. Д. Каширина [19]19
Каширин Иван Дмитриевич (1890–1937) – командир 2-й бригады 30-й стрелковой дивизии, особой казачьей бригады (1919). С марта 1920-го – председатель горисполкома Верхнеуральского горсовета, затем – в органах ВЧК и на хозяйственной работе. Награжден орденом Красного знамени. В 1937 г. расстрелян как враг народа. Реабилитирован.
[Закрыть]стойко удерживал город, нанося противнику значительные потери. Верхне-Уральск, как кость в горле, стоял на пути наступления белых на Москву. Возникла острая необходимость в устранении этого препятствия. Но командование белочехов, действовавших под городом, проявило нерешительность и бездарность, что потребовало его немедленной замены. Вот здесь-то снова и понадобился Анненков – молодой, инициативный, дерзкий боевой офицер, способный принимать неординарные решения. К июлю 1918 года численность отряда Анненкова была незначительной и достигала не более 200 человек. В первых числах этого месяца Анненков получил приказание Омского правительства прибыть в Омск.
– Когда чехи пришли в Омск, – рассказывает Анненков, – я вернулся в Исиккуль (орфография оригинала). Затем меня телеграммой вызвал Иванов, в которой указал, что все отряды, находящиеся в районе Омска, должны войти в состав 2-го Степного корпуса. Я вначале было не поехал: не знал, кто будет во Временном правительстве, кто его назначил и откуда оно. А затем все-таки поехал в Омск. В Омске Иванов-Ринов объявил, что Временное правительство поставило задачу первостепенной борьбы с большевиками в Сибири, а конечная задача будет объявлена, когда соберется Временное правительство.
– Сейчас не должно быть разногласий. Сейчас все внимание должно быть обращено на борьбу с большевиками, – говорил мне Иванов-Ринов и предложил отправиться на Уральский фронт.
Я ответил, что у меня всего 200 человек, и просил разрешить начать вербовку добровольцев в Омске. Это он мне разрешил.
Вскоре отряд Анненкова уже насчитывал около тысячи бойцов.
Прибыв под Верхне-Уральск, Анненков быстро сорентировался, оценил обстановку и противника, произвел перегруппировку войск, отстранил от командования безынициативных офицеров и твердо взял руководство войсками в свои руки. По показаниям Анненкова, он принял в подчинение 6 казачьих полков, по данным же М. Д. Машина и В. С. Семьянинова, под Верхне-Уральском находилось 2 конных полка по 1500 бойцов в каждом, сформированных в Кудравинской станице, один полк из Уйской станицы и несколько отрядов, сформированных в различных поселках {45} , что представляется точнее.
Под городом развернулись ожесточенные бои. Его судьба должна была решиться в пользу белых со дня на день. Чтобы избежать напрасных потерь и сохранить отряд, красные 5 июля оставили город и отступили в Белорецк, являвшийся в то время одним из крупных центров Южного Урала и базой партизанского движения. 6 июля названные выше полки и отряды, которыми командовал полковник Сукин [20]20
Сукин Николай Тимофеевич – из дворян. Офицер с 1878 г. Выпускник Академии Генштаба. Полковник Оренбургского казачьего войска. 24 декабря 1918 г. – командир 6-го Уральского корпуса, затем на других высших военных должностях. Генерал-майор. Награжден орденом Св. Владимира 3-й степени с мечами. В эмиграции в Китае. Вернулся в СССР. Умер после 1937 г.
[Закрыть], а также отряд Анненкова вошли в город.
В показаниях следствию о своей роли во взятии Верхне-Уральска Анненков допускает неточность, которую можно объяснить или его заблуждением, или намеренной рисовкой и бахвальством. Так, он утверждал, что, прибыв на Верхне-Уральский фронт, он принял командование над всеми частями Оренбургской армии, что противоречит фактам: командующим Оренбургской армией по-прежнему оставался атаман А. И. Дутов. Но то, что Анненков командовал всеми частями, действовавшими на день его прибытия под Верхне-Уральск, – несомненно, как несомненно и то, что ему принадлежит главная заслуга в овладении городом. Здесь же Анненков допускает и вторую неточность, говоря, что обороной Верхне-Уральска руководил Николай Каширин, а начальником штаба у него был Блюхер. Дело в том, что Анненков мог не знать, что Кашириных было двое – братья Николай и Иван Дмитриевичи, оба фронтовики, оба подъесаулы, сыновья станичного атамана, участники Первой мировой войны, вставшие на позиции большевиков. Обороной Верхне-Уральска руководил младший Каширин – Иван, а начальником штаба у него был не Блюхер, а командир Троицкого отряда Баранов. Старший Каширин, Николай [21]21
Каширин Николай Дмитриевич – командарм 2-го ранга. Занимал в Красной армии высшие командные должности: командира дивизии, корпуса, помощника командующих ряда военных округов. С июня 1931 по июль 1937-го – командующий войсками Северо-Кавказского военного округа, член Военного Совета Народного комиссариата обороны. Расстрелян как враг народа 14 июня 1938 г. Реабилитирован.
[Закрыть], в это время защищал от дутовцев Оренбург. С Кашириным Н. Д. и с начальником его штаба Блюхером Анненков «встречался» не при обороне Верхне-Уральска, а при попытке красных вернуть город.
Выше уже говорилось, что партизанские отряды, защищавшие Верхне-Уральск, отступили в Белорецк. Сюда же в середине июля отступили, после сдачи Оренбурга (3 июля), отряды Н. Д. Каширина и В. К. Блюхера. На совместном совещании командиров этих и других отрядов было решено объединить все находящиеся в Белорецке отряды и дружины в единый Южно-Уральский партизанский отряд. Командиром отряда был выбран Н. Д. Каширин, его первым заместителем – В. К. Блюхер [22]22
Блюхер Василий Константинович (1890–1938) – в Красной Армии – начальник 4-й дивизии (с ноября 1918 г. – 30-я), помощник командующего 3-й армии (1919). Октябрь – ноябрь 1919 г. командовал Перекопской ударной группой. Июнь 1921 – июль 1922-го – военный министр и главнокомандующий Народно-Революционной армией Дальневосточной республики (ДВР). После Гражданской войны – на высших командных должностях. В 1924–1927 гг. – Главный военный советник в Китае. В 1929–1938 гг. командует 5-й Отдельной Дальневосточной Краснознаменной армией. Маршал Советского Союза. В 1938 г. арестован. Умер во время следствия. Реабилитирован.
[Закрыть], а вторым – И. Д. Каширин.
Южно-Уральский отряд был фактически партизанской армией. В него входили: Верхне-Уральские пехотный и казачий полки, 1-й и 17-й Уральские стрелковые полки, 1-й Оренбургский имени Степана Разина казачий полк, Белорецкий полк, Архангельский полк, артиллерийский дивизион, отдельные отряды и кавалерийские сотни.
В объединенном отряде оказалось около 10 тысяч бойцов, 13 орудий, 60 пулеметов {46} . Однако боевое оснащение отряда было слабым: не хватало винтовок, снарядов, патронов, продовольствия, медикаментов, перевязочных материалов.
Оказавшись в глубоком тылу противника, отрезанные от основных сил Красной армии, отряды решили идти через Верхне-Уральск, выйти в Оренбургские степи и поднять там восстание против белогвардейцев.
С 18 по 29 июля вновь развернулись упорные бои за Верхне-Уральск. Они носили такой ожесточенный характер, и обе стороны несли настолько большие потери, что белые оставили город, а красные не стали занимать его и отошли обратно в Белорецк. Здесь 2 августа на совещании командиров, в связи с ранением Н. Д. Каширина, главнокомандующим отряда был избран В. К. Блюхер. Здесь же было решено идти на соединение с Красной армией. Продвигаясь с боями на север, отряд 13 сентября вышел на позиции 3-й армии Восточного фронта.
С занятием атаманом Дутовым Оренбурга и уходом красногвардейских отрядов из-под Верхне-Уральска, части, которыми командовал Анненков на этом направлении, вновь перешли под начало Дутова, а ему был поручен призыв новобранцев и формирование новых частей. С этой целью Анненков со своим отрядом повернул на Троицк и приступил к мобилизации призывных возрастов. Казаки, воодушевленные победами белых, шли в армию охотно, с рабочими и крестьянами приходилось сложнее. Но и при призыве казаков порой возникали эксцессы. Бывший вахмистр анненковского отряда Вордугин рассказывал на суде о расстреле жителей в станице Красинской, однако Анненков эти расстрелы отрицал.
– Там резко выявилось противоречие, – говорит он. – Отец был у Дутова в Белой армии, а сын был у Каширина, в Красной. Я знаю конкретный пример. Офицер Энборисов [23]23
Энборисов (Енборисов) Гавриил Васильевич – из казаков пос. Арсинского, станицы Верхнеуральской Оренбургского казачьего войска. В белых войсках Восточного фронта с января 1918 г., подъесаул, председатель военной комиссии войска, товарищ председателя войскового круга, командир 4-го отряда в Верхнеуральске. С лета 1918 г. – начальник Военного контроля, комендант штаба обороны и начальник отдела Государственной охраны 2-го округа. Войсковой старшина. Летом 1919 г. поступил рядовым в добровольческую Дружину Святого креста в Омске, но вскоре назначен начальником агитационно-вербовочного отдела в Семипалатинске. С 22 марта 1920 г. – дежурный генерал 3-го стрелкового корпуса и одновременно командир Добровольческого Егерского отряда своего имени, с 21 апреля помощник начальника личной охраны атамана Г. М. Семенова. Полковник (1919). В эмиграции с лета 1920 г. в Харбине. Умер 14 февраля 1946 г.
[Закрыть]из той станицы ушел к Каширину, а его отец, тоже офицер, был у Дутова. И когда молодой Энборисов пришел обратно к белым, то отец лично застрелил его из винтовки.
Анненков поясняет суду, что расстрелов в Красинской просто не могло быть, потому что станица – целиком казачья, реакционная, в ней скрывался Дутов.
В целом же мобилизация проходила успешно, и Анненкову удалось сформировать несколько частей и вспомогательных подразделений. В конце августа отряд Анненкова был отозван с Урала на Семипалатинский фронт и выехал в направлении Омска.
Черный Дол
В июне 1918 года для борьбы с войсками мятежного Чехословацкого корпуса и с эсеро-белогвардейскими формированиями большевиками был образовании Восточный фронт. К осени 1918 года обстановка на Восточном фронте резко изменилась – и не в пользу Омского правительства. Сюда один за другим прибывали и вступали в бой полки большевистских армий. Сдерживать их натиск силами добровольческих белогвардейских формирований и чешских отрядов становилось все труднее, и Омск срочно приступил к созданию регулярной армии.
Первоначально предполагалось строить ее на принципах добровольчества, однако, несмотря на широкую рекламу, обещания льгот и привилегий, попытка создания такой армии провалилась. Тогда 16 августа 1918 года была объявлена мобилизация лиц, родившихся в 1897–1898 годах, но мужик и рабочий воевать не хотели и мобилизацию саботировали, скрываясь в глухих деревнях и селах, укрываясь в лесах и на дальних заимках. Омск вынужден был принять жесткие меры. Командующий Сибирской армией подполковник Гришин-Алмазов [24]24
Гришин-Алмазов А. Н. – организатор офицерского подполья в Сибири и свержения большевиков в Новониколаевске. Командующий войсками Омского военного округа, Сибирской армией, одновременно – управляющий военным министерством. В сентябре 1918 г. убыл в Екатеринодар. Военный губернатор Одессы, командующий войсками Одесского военного района. В апреле 1919 г. направлен в Омск во главе делегации к Колчаку. Генерал-майор. Застрелился под угрозой плена (1919).
[Закрыть]издает приказ, в котором требует от соответствующих должностных лиц и учреждений «при осуществлении предстоящего набора новобранцев <…> приказывать, требовать, отнюдь не просить, не уговаривать, уклоняющихся от воинской повинности арестовывать и заключать в тюрьмы для осуждения по законам военного времени. По отношению неповинующимся закону о призыве, а также по отношению к агитаторам и подстрекателям к тому же должны применяться самые решительные меры, вплоть до уничтожения на месте преступления» {47} . Однако население продолжало противиться мобилизации. Направляемые с этой целью в села офицерские и казачьи отряды, несмотря на применение репрессий, справиться с саботажем не могли. «Вскоре на этой почве соседние села стали организовываться в боевые отряды, все шло стихийно, безо всякого руководства, вооружались винтовками, принесенными еще с фронта империалистической войны при демобилизации», – вспоминал житель села Орлеан Славгородского уезда И. Н. Господаренко {48} . Деревня митинговала, выносила резкие резолюции, окапывалась.
В этом участвовало и село Черный Дол Славгородского уезда, расположенное в 8 верстах от уездного центра Славгорода. Село имело и другое название – Архангельское, но в историю Гражданской войны в Сибири оно вошло под первым.
Одним из первых Чернодольские события описал житель Славгорода П. Парфенов {49} . Он рассказывает, что одновременно с приказом о призыве в села были направлены соответствующие отряды. Однако призыв саботировался. Начались порки. Чернодольцы написали письмо в уездную земскую управу с просьбой прислать своего представителя на сельский сход и разъяснить им приказ о мобилизации. Уездное земство, возглавляемое эсерами Девизоровым, Трубецким, Худяковым и др., направило просьбу селян начальнику славгородского гарнизона штабс-капитану Киржаеву.
Киржаев был местным жителем. Его отец имел мелкую торговлю. Во время Первой мировой войны Киржаев был на фронте, состоял в партии эсеров, избирался председателем полкового комитета, был выборным командиром полка. После Октября он не прочь был признать большевиков, если бы они сохранили чины и погоны, но, так как Крыленко [25]25
Крыленко Н. В. (1885–1938) – в 1917 г. – Верховный главнокомандующий. Народный комиссар по военным делам в первом cоветском правительстве. Расстрелян как враг народа. Реабилитирован.
[Закрыть]приказал «снять погоны и быть товарищами», Киржаев бросил полк и вернулся в Славгород. После установления здесь власти Директории он заявил о своем существовании и, как старший в чине, был назначен начальником гарнизона города.
Но ему не сиделось на столь маленькой должности, хотелось выдвинуться, выбраться из пыльного, степного, уездного захолустья, поэтому он поехал в Архангельское сам, чтобы отличиться и попасть в поле зрения Омска. Утром 21 августа архангельцы собрались на сельской площади. Вдруг раздался резкий гудок автомобиля, и Киржаев в сопровождении адъютанта и еще двух офицеров на автомобиле врезался в расступившуюся толпу.
Встав в автомобиле, Киржаев, к полному изумлению крестьян, громко, по-военному, закричал:
– Снять шапки! Встать, (некоторые крестьяне сидели) сукины дети!
И, не дав оправиться, заявил:
– Я – не большевик и не агитатор! Никаких собраний и митингов терпеть не буду, поэтому требую немедленно разойтись и беспрекословно приступить к выполнению приказа военного министра о мобилизации! Предупреждаю, что никакому обсуждению приказы военного министра не подлежат! В противном случае я не остановлюсь ни перед какими мерами и заставлю вас пулеметом подчиниться законным распоряжениям! Кто подлежит мобилизации, выходи в сторону!
Крестьяне сначала были ошеломлены, и многие растерянно опустили головы, некоторые стали робко снимать шапки и виновато топтаться на месте. Но скоро толпа заволновалась:
– Не запугаешь, не из трусливых!
– Мы тебя не выбирали и знать не знаем! Ты кто такой? Откуда взялся?
– Если офицеры хочут воевать с большевиками, пусть и воюют одни!
– Что с ним разговаривать?! Тащи их, да оземь!
Киржаев несколько смутился, затем выстрелил в воздух. Толпа отступила, Киржаев прокричал, что, если в 12 часам завтрашнего дня приказ не будет выполнен, он приедет сюда с целой ротой и всех перестреляет. После этого он поехал к председателю сельского комитета. Уезжать собрались поздно. Киржаев и офицеры были изрядно выпивши. К автомашине подошли несколько женщин с детьми и крестьяне. Показывая рукой на собравшихся, Киржаев схватил одну из женщин и закричал:
– Скажи, кто из них большевик, и мы тебя отпустим!
Среди крестьян – недовольный ропот. Тогда офицеры вплотную подошли к ним и, застрелив троих, нескольких ранив, уехали.
Слух пошел по окрестным селам и деревням. Молодежь многих сел объединилась, создав «крестьянский штаб», и начала готовиться к обороне.
Крестьянский штаб постановил освободить Славгород от офицеров. Воспользовавшись ближайшим базарным днем, когда в город можно войти без подозрений, крестьяне, руководимые крестьянским штабом, выступили, захватили врасплох офицерскую команду, заняли штаб гарнизона и другие правительственные учреждения и устроили мужицкий суд над офицерами. Все захваченные офицеры и солдаты (добровольцы) были убиты топорами и кольями – около 80 офицеров и 10 солдат. Чины штаба и Киржаев скрылись, при этом, по воспоминаниям Г. П. Теребило, Кержавин был ранен в ногу, но сумел удрать на лошади в сторону Павлодара, потеряв свою казачью бурку, и впоследствии выяснилось, что он скрывался у славгородского крестьянина и кулака Ализко {50} .
Земские работники, интеллигенция, часть обывателей ушли. Город начал наполняться крестьянами, спешившими сюда по делам и без дела.
Крестьянский штаб преобразовали в уездный, которому была вручена «вся полнота власти» до созыва уездного крестьянского съезда, назначенного на 30 августа, с представительством от каждого села и деревни. Этот съезд, наряду с другими вопросами, должен был решить вопрос о мобилизации.
Сибирской областной думе в Томск и Сибирскому правительству в Омск была послана повестка дня с покорнейшей просьбой прислать своего представителя для доклада о текущем моменте и информации.
Сидевших под арестом большевиков сначала освободили из тюрьмы, затем постановили вновь арестовать, желая показать, что не являются сторонниками советской власти, а стоят за Областную думу и Сибирское правительство. Постановление об аресте тоже было направлено в Омск и Томск, хотя арестован никто не был.
Начала выходить «Крестьянская газета», орган временного крестьянского штаба. Предложение о наступлении на Омск было отложено до уездного съезда и до заслушивания представителя Областной думы. Были закрыты только некоторые станции Кулундинской железной дороги и выставлены «сторожевые охраны» по направлению к Татарску.
30 августа, в 12 часов дня, в помещении большого зала Народного дома состоялось открытие крестьянского съезда. Открывал съезд председатель «крестьянского штаба» Смирнов. Присутствовало 400 делегатов. Из доклада съезду выяснилось, что, несмотря на признание штаба всеми волостями уезда и сочувствия ему всего крестьянского населения, со стороны Областной думы нет никакого ответа и имеются сведения, что с согласия Думы Сибирским правительством снаряжается казачья экспедиция для ликвидации крестьянской власти.
После доклада крестьянский штаб сложил с себя полномочия. На этом закончилось первое и последнее заседание съезда.
После обеда стало известно, что со стороны Татарска по железной дороге «едут казаки». Возникла паника. Делегаты начали расходиться, но часть их осталась. Был образован Оперативный военно-революционный штаб, который приступил к защите и обороне города от белых {51} .
Так описал развитие событий очевидец П. Парфенов.
Взяв за основу это описание, пролетарские историки революции сочинили свою, официальную, версию чернодольского восстания. Опираясь на факты Парфенова, но убирая из его повествования разные, на их взгляд, ненужности и некрасивости, разные авторы добавляли в него грани классовости, героизма, в результате чего описание восстания приобрело нужный большевикам окрас и заблистало новыми красками. В качестве примера приведу материал П. Парфенова в обработке В. Г. Мирзоева.
Восстания широкой волной прокатываются по всей Сибири. Одними из первых против эсеро-меньшевистского правительства выступили крестьяне Славгородского уезда. Почти все села уезда отказались выслать новобранцев на сборные пункты и вынесли резолюции протеста против мобилизации.
Наиболее революционно было настроено село Черный Дол (Архангельское). Здесь образовалась большевистская группа, взявшая в свои руки руководство крестьянами села. Под ее влиянием село отказалось от мобилизации. Большевистская группа готовила бедняцко-середняцкое население Черного Дола к восстанию за советскую власть. Она была связана с большевиками, сидевшими в славгородской тюрьме.
Почва для восстания было подготовлена настолько, что население ждало только сигнала для выступления.
Местные белогвардейские власти, убедившись в сопротивлении населения мобилизации, отправили в села офицерские и казачьи отряды для «шомпольного воздействия». 1 сентября 1918 года один из таких отрядов во главе с самим начальником славгородского гарнизона Кержаевым явился в Черный Дол. Эсеровский опричник приказал собрать сход, на котором произнес речь, угрожая расправой «бунтовщикам». Все более распаляясь от собственных речей, Кержаев по первому же пустячному поводу выхватил револьвер и выстрелил в самую гущу собравшихся, убив одного из крестьян.
Толпа обратилась в бегство, а пьяная офицерская свора стала носиться по селу, стреляя вверх и оглашая воздух ругательствами. После этой дикой сцены отряд умчался в город. Возмущенные чернодольцы собрались снова. Из соседних сел стали прибывать крестьяне, получившие вести о происшедших событиях. После бурных обсуждений был дан сигнал к восстанию. Всего собралось вместе с крестьянами соседних сел, присоединившихся к чернодольцам, около полутора тысяч человек. Отряд имел лишь 24 винтовки, остальные были вооружены батогами, вилами, лопатами и топорами. Около полуночи на 2 сентября 1918 года чернодольцы выступили. На рассвете они подошли к Славгороду и оцепили его, а затем, когда прибыли новые силы повстанцев, с криком «ура!» бросились в город. Белогвардейский гарнизон, после небольшой перестрелки, трусливо бежал.
По словам одного из советских историков, отряды восставших преследовали остатки гарнизона по линии железной дороги до станции Бурла, в 40 верстах северо-западнее Славгорода. Здесь на водном рубеже реки Бурла (в 45 километрах севернее Славгорода) белогвардейцам удалось закрепиться. Однако вскоре они вынуждены были отступить далее на северо-запад до станции Карасук. Недалеко от этой станции остановились и повстанцы {52} .
Вернемся к повествованию В. Мирзоева.
Повстанцы заняли все местные учреждения и освободили из тюрьмы большевиков. Из состава последних и руководителей восстания был избран «крестьянско-рабочий штаб», ставший центральным органом восстания. В его состав вошли Фесенко, Кононов и др.
Революционные власти обратились к трудящимся с несколькими воззваниями. Они призывали «к сплоченной силе рабочего класса и крестьянства» для борьбы против эсеро-меньшевистских властей, «восстановивших старое романовское время», «за завоеванную свободу», «за крестьянско-рабочую власть».
Штаб избрал своим местом пребывания Черный Дол – базу восстания, где повстанческое руководство чувствовало себя наиболее прочно. Руководители восстания понимали, что необходимо вовлечь в него как можно более широкие массы. Они считали восстание в Славгородском уезде началом всеобщего восстания сибирских трудящихся за освобождение Сибири и соединение с Советской Россией.
В Славгородский и Павловский уезды были посланы уполномоченные агитаторы, которые должны были поднимать население. В селах разгонялись земства и организовывались Советы. Было принято решение созвать 12 сентября в Славгороде уездный съезд Советов.
На подкрепление повстанческих сил из разных сел и мест группами и в одиночку в село Черный Дол шли люди. Повстанцы завязали сношения с Бийским, Барнаульским, Каменским и Павлодарским уездами.
На съезд начали прибывать делегаты. Вскоре собралось до 400 человек. Одновременно штаб восставших занимался формированием повстанческих отрядов. Боевая позиция была намечена на рубеже реки Бурла, а передовым опорным пунктом – станция Бурла. Здесь же находилась и военно-оперативная часть штаба.
Восстание в Славгородском уезде вызвало серьезную тревогу эсеро-меньшевистского правительства. Массовое восстание крестьян грозило тылу чехо-белогвардейской армии, отступавшей в это время под натиском Красной армии. Сибирские войска в начале сентября 1918 года заняли Уральск и вышли на ближайшие подступы к Казани, Вольску и Симбирску. В свете этих успехов Красной армии становится понятным страх, который охватил омских правителей перед восстанием, вспыхнувшим недалеко от белогвардейской столицы {53} .
На этом месте снова остановимся и приведем еще один вариант официальной версии, на этот раз в изложении генерала юстиции Л. М. Заики и полковника юстиции В. А. Бобренева:
«3 сентября 1918 года крестьяне Славгородского уезда Омской губернии, возмущенные чинимыми белым офицерством безобразиями и издевательствами над мирным населением, решили очистить от них город. Под руководством большевистской организации, находившейся в Черном Доле, было поднято восстание. Через несколько часов Славгород освободили от белых, в городе собрался уездный крестьянский съезд, на который съехалось свыше 400 делегатов со всех окрестных мест» {53} .
Не могу не привести изложение чернодольских событий в «Истории Сибири»:
«В начале сентября произошло Славгородское (Чернодольское) восстание в Алтайской губернии. В с. Черный Дол была создана нелегальная организация, в которой принимали участие и большевики, в том числе бывший член Славгородского Совета рабочий С. Г. Светлов (Топтыгин). Эта и другая сельские организации, состоявшие из наиболее сознательных и непримиримых к врагу крестьян, и сыграли главную роль в восстании. Захватив 2 сентября Славгород, повстанцы избрали Военно-революционный штаб из крестьян и рабочих под председательством фронтовика большевика П. И. Фесенко. Штаб призвал крестьян к борьбе за восстановление Советской власти. Повстанцы начали готовить созыв уездного съезда Советов» {54} .
Ну и, наконец, несколько строк из воспоминаний Г. П. Теребило, так называемого начальника штаба восстания:
«29 августа отряд Киржаева никого не убивал, а поспешно сел на грузовые автомобили и уехал в город <…>. 1 сентября вооруженный отряд, человек 30–40, часть офицеров и часть добровольцев белых, внезапно на автомобилях явилось в село Архангельское. Оставив группу белогвардейцев по трем имеющимся улицам, стали стрелять, где заметят мужчину или женщину. Белые не успели много сделать, увидев наступление крестьян по канавам с вилами, приближающихся к их стоянке, поспешно уехали, успев только избить несколько крестьян прикладами и захватить с собой арестованных пять человек, и белогвардеец спекулянт г. Славгорода Иван Гинтер застрелил крестьянина Мирона Первашего» {55} .
Следует отметить, что изложение официальной версии военными авторами и «Историей Сибири» очень и даже очень-очень кратки. Вряд ли и это можно объяснить экономией печатных площадей, видимо, таким образом они маскировали многие нестыковки этой версии с реальной действительностью.
Приведенная здесь первая часть этой версии в изложении разных авторов позволила показать, насколько небрежно она была разработана и как часто реальные события искажались в угоду пролетарской идеологии.
Как видим, официальная версия Чернодольского восстания существенно отличается от рассказа П. Парфенова.
Во-первых, называются разные губернии, на территории которых произошло восстание: одни источники относят Славгородский уезд к Омской губернии, другие – к Алтайской.
Приводятся и разные даты восстания: Парфенов называет 21 августа, Мирзоев – 1 сентября, «История Сибири» – начало сентября, Заика и Бобренев – 3 сентября. Такие же разночтения обнаруживаются и в датах взятия повстанцами Славгорода: у Парфенова это ближайший базарный день (следовательно – воскресение), у Мирзоева – 3 сентября, у Заики и Бобренева – через несколько часов после начала восстания, в «Истории Сибири» – 2 сентября.
Разными оказываются в этих текстах и причины восстания: Парфенов, Мирзоев объясняют их нежеланием крестьян быть мобилизованными в Белую армию, Заика и Бобренев – возмущением безобразиями и издевательствами, чинимыми белыми офицерами, «История Сибири» – намерением восстановить советскую власть.
Фамилия основного провокатора восстания и его чин также представлены по-разному: у Парфенова – это штабс-капитан Киржаев, у Мирзоева – капитан Кержаев. Не говоря уж о том, что это разные фамилии, разница между штабс-капитаном, относившимся к старшему офицерскому составу, и капитаном, относившимся к младшему, также немалая.
У Парфенова Киржаев приехал в село на автомобиле с несколькими офицерами (видимо – тремя, так как больше в автомобиль не могло бы поместиться), у Мирзоева он появился во главе конного отряда. По Парфенову, в селе было убито трое крестьян, по Мирзоеву – один. Отличаются в этих текстах даты взятия повстанцами Славгорода. По Парфенову, повстанцы освободили арестованных большевиков, но к своим делам не привлекали, по Мирзоеву, из числа освобожденных большевиков и крестьян был избран крестьянско-рабочий штаб, ставший центральным органом восстания.
Парфенов утверждает, что съезд собрался 30 августа, Мирзоев – что его открытие было назначено на 12 сентября.
Есть и другие существенные расхождения в освещении Чернодольского восстания, но о них будет сказано после рассмотрения второго его этапа.
Продолжим изложение рассказа П. Парфенова.
После обеда 30 августа, после получения известия о том, что в город «едут казаки», частью повстанцев был создан Оперативный военно-революционный штаб, который занялся организацией защиты и обороны города.
Не зная, что отряд Анненкова не входил в гарнизон Омска, а был повернут сюда во время следования с Урала на Семипалатинский фронт, П. Парфенов дает характеристики и Анненкову, и его отряду, видимо, на основании позже почерпнутых из официальных источников данных.
«Самой боевой и самой непослушной воинской частью в Омске в это время был добровольческий отряд полковника Анненкова, – говорит он. – Все, даже военный министр, его побаивались.
Гришин-Алмазов хорошо знал, что этот отряд содержится добровольными взносами Совета торгово-промышленников и выполнит любой его приказ. Он не только дорожил этим отрядом, но, желая оттенить его, показать, что он не как другие относится к нему, дал ему наименование отряда имени Анненкова. Отряду Анненкова было поручено ликвидировать славгородских большевиков. Анненков был назначен начальником фронта.
На станции Татарск скопилось много пассажиров. Анненков приказал отправить в Славгород пассажирский поезд, к концу которого были прицеплены вагоны с добровольцами. Их было около 500 человек» {56} .
Не удержался П. Парфенов от живописания зверств анненковцев в Славгороде. Он пишет, что всех арестованных делегатов съезда, членов крестьянского штаба и других активных большевиков в количестве 500 человек Анненков приказал изрубить на площади против Народного дома и закопать здесь же в глубокую яму.
По распоряжению Анненкова были расстреляны студент Владивостокского института восточных языков Некрасов, московский инженер Щербин, учитель Кузнецов, Ляпустин, Мурзин, Мотовилов и др. {57} .
Обратимся к Мирзоеву. Мы остановились на том, что восстание в Славгородском уезде вызвало серьезную тревогу эсеро-меньшевистского правительства. «Временно исполняющий должность военного министра Иванов-Ринов поручил подавление восстания атаману Анненкову, имя которого в Сибири стало символом садистской жестокости и кровавого разгула.
Получив распоряжение омского правительства, Анненков с двумя ротами пехоты, тремя сотнями казаков, артиллерией и пулеметами направился в Славгород. 7 сентября произошло первое столкновение с повстанцами. Пользуясь своим подавляющим превосходством, карательный отряд занял станцию Бурла и деревню Гусиная Ляга. Попытка повстанцев во главе с начальником штаба Фесенко перейти в контратаку была отбита огнем пулеметов. Сам Фесенко был убит на поле боя. Восставшие стали отходить. Многие, считая сопротивление бесполезным, покидали поле сражения и расходились по домам. Отряд повстанцев был рассеян.
9 августа анненковцы ворвались в село Черный Дол. Еще накануне все взрослое население вместе со штабом скрылось в лесу. Отряд разграбил и сжег село. В этот же день Анненков занял Славгород, где, по его собственному выражению, „ликвидировал советскую власть“. Здесь в руки белобандитов попали делегаты уездного съезда Советов. Их Анненков приказал рубить прямо на площади. Первых попавшихся под руку людей в крестьянской одежде расстреливали, вешали на столбах, били; женщин и девушек насиловали, а потом расстреливали. Степь была усеяна трупами обезглавленных и зарубленных. По подсчетам очевидцев, всего по Славгородскому уезду за это время отрядом Анненкова убито и замучено 1667 человек. Славгородское восстание проходило при активном участии рабочих Славгорода, сыгравших видную роль в подготовке восстания и вооруженной борьбе в городе» {58} .