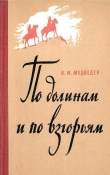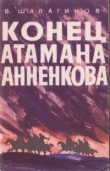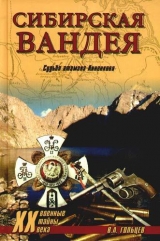
Текст книги "Сибирская Вандея. Судьба атамана Анненкова"
Автор книги: Вадим Гольцев
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Когда вопрос о разоружении отряда достиг критической точки, Анненков пошел в Реввоенсовет, который размещался на углу улиц Льва Толстого и Саратовской в белокаменном особняке последнего самарского губернатора. Три ступеньки между белыми колоннами привели Анненкова в приемную. Направо дверь с надписью золотом на стекле: «Председатель Самарской управы». За ней – кабинет Куйбышева, Политического комиссара 4-й армии, Председателя Самарского ревкома, руководителя губернского комитета большевиков.
Анненков называет себя, и Куйбышев, в семье которого чтили декабристов, интересуется, не имеет ли тот отношения к декабристу. Анненков подтверждает. В разговоре выясняется, что они годки, оба – бывшие кадеты, выпускники-одногодки, собеседники проникаются взаимной симпатией и договариваются, что отряд примет участие в демонстрации, чем окажет местному Совету моральную помощь и поддержку, после чего ему будет позволено, не разоружаясь, проследовать дальше. Оба они еще не знают, что их жизненные пути пересекутся в наступающем лихолетье Гражданской войны, где атаман Анненков будет драться с красногвардейским отрядами, которые посылал против него из Туркестана член Военного Совета Туркестанского фронта Куйбышев, несомненно, вспоминая при этом о своем самарском знакомце.
И уж совсем в финале, на утреннем заседании суда 27 июля 1927 года защита по просьбе Анненкова заявила ходатайство о вызове на процесс в качестве свидетеля В. В. Куйбышева, чтобы тот подтвердил участие Анненкова в советской демонстрации в Самаре. Однако суд не посмел побеспокоить Председателя Всесоюзного Совета Народного Хозяйства и в удовлетворении ходатайства отказал, мотивируя отказ мелким значением этой демонстрации в деятельности Анненкова.
Но вернемся к запискам Анненкова.
«Слава Богу! – пишет он. – Уральские горы остались позади и теперь, в случае чего, можно уйти походным порядком. Казалось бы, теперь нет опасности, но – увы! Едва успели пройти Челябинск, как начальник станции сообщил, что в Екатеринбург через несколько минут приходит карательный эшелон матросов, до его прихода не велено отпускать партизан. Действительно, через полчаса на станцию на всех парах подошел пассажирский поезд, весь украшенный красными флагами. Поезд остановился, и из вагонов повыскакивали матросы, вооруженные с ног до головы. Их оказалось до 200 человек. Начальник отряда, перевязанный крестообразно пулеметной лентой, подошел к атаману и протянул руку.
– Не имею чести вас знать! – сказал атаман, не подавая руки. Матрос несколько смутился.
– Нам приказали взять у вас оружие!
– Хорошо, сейчас сдам! – сказал атаман и приказал отряду строиться. Вмиг на платформе выстроились около 300 партизан с пулеметами.
– Берите! – предложил атаман. Матрос понял наше предложение:
– Мы не хотим с вами драться. Не хотите сдавать – не надо, уходите!
– Вы только каратели для безоружных, а где сила, там вы – трусы! – сказал атаман.
Партизаны сели в вагоны, и поезд стал медленно отходить от перрона. Вдруг сзади послышалась стрельба, и пули со свистом стали пролетать мимо вагонов. Это было неожиданностью. Поезд остановился, и партизаны, выскакивая из вагонов, рассыпались в цепь. Наступление на Челябинск было непродолжительным, ибо матросы, видя, что дело принимает другой оборот, быстро сели в вагоны и отошли под сильным обстрелом на запад.
Это был последний дорожный аккорд. До Омска отряд дошел уже спокойно».
Омская кадриль
Ко времени прибытия отряда Анненкова в Омск здесь уже была установлена советская власть. Однако, наряду с Советами рабочих и солдатских депутатов, в городе действовало Войсковое Сибирское правительство, возглавляемое атаманом Копейкиным, которое ведало делами казачества, а также так называемый Совет казачьих депутатов (Казсовдеп), который целиком и полностью стоял на позициях советской власти и вскоре вошел в состав Совета.
Город был переполнен военными. Только казачьих полков, прибывших с фронта и в большинстве своем не разоружившихся, скопилось здесь восемь.
Рядовые казаки при полном вооружении слонялись по городу, пьянствовали, устраивали дебоши и творили насилия. Не отличалось примерностью и поведение офицеров.
Все усилия Совета разоружить и расформировать казачьи части, а казаков отправить по домам наталкивались на упорное противодействие Войскового правительства. Однако вскоре среди казаков произошел раскол: часть из них подчинилась приказу Совета о разоружении и разбрелась по станицам, другая – встала на сторону Войскового правительства.
Воспользовавшись отсутствием единства среди казаков, Совет в ультимативной форме потребовал от них в течение трех суток сдать оружие и предупредил, что в противном случае они будут объявлены вне закона. Таким образом, с двоевластием в городе было покончено, и власть полностью перешла в руки Совета. В Омске остались лишь гвардейский казачий дивизион и партизанский отряд Анненкова.
«Войсковому атаману нужно было, опираясь на эти две части, арестовать самочинно введенный Совказдеп, но, к сожалению, слабохарактерный и нерешительный войсковой атаман, несмотря на убедительные просьбы атамана Анненкова и других командиров, не сделал этого, и кончилось тем, что Совказдеп предупредил войскового атамана и в одну ночь арестовал его помощников и экстренно отправил в Томск», – пишет Анненков в своих записках.
Началась борьба Анненкова с Совказдепом. По инициативе атамана все станицы послали протест и приговор о непризнании Совказдепа, но тот действовал энергично и не обращал на протесты станиц и Анненкова никакого внимания. Первым же приказом он расформировал гвардейцев и партизан. Гвардейцы сдали оружие и разошлись, но партизаны не подчинились. Анненков собрал тайный съезд делегатов от ближайших к Омску станиц. На съезд прибыли представители более чем от 2/3 станиц всего войска. Съезд вынес приговор:
1) Совказдеп не признавать.
2) Отряд не расформировывать.
3) Ввиду ареста наказного атамана и его помощника, выполнять все приказы атамана Анненкова.
4) За неисполнение этого приказа лишать звания казачества и выселять из станицы.
Приговор был послан во все станицы с приказом Анненкова, в котором говорилось, что отряд не расформировывается и, если большевики пошлют в станицы войска, он будет вести активную борьбу с ними. В нем также предписывалось вести тайные списки тех, кто стоит на сторона Совказдепа, дабы после переворота истребить их с корнем.
Совказдеп, чувствуя свое неуверенное положение, издал другой приказ, в котором объявил себя составной частью Омского Совдепа, отказавшись, таким образом, от самостоятельности. Здесь же он выступил инициатором призыва казаков в ряды красного казачества. Со слов Анненкова, на этот призыв откликнулось лишь 17 казаков. «Даже большевистские газеты подтрунивали на этой цифрой», – иронизирует атаман.
Тогда Совказдеп, являясь уже отделом Совета рабочих, крестьянских и казачьих депутатов, объявил отряд Анненкова незаконной организацией и просил Омский Совдеп ликвидировать отряд. Хитрый Анненков направил в Совдеп письмо, в котором утверждал, что против советской власти не идет, а идет только против своего казачьего органа. Письмо возымело действие, и большевики ответили Совказдепу, что атаман Анненков ничего незаконного не делает, а если отряд Совказдепу не нужен, то пусть он сам его и расформировывает. Обиженный Совказдеп решил созвать казачий съезд, однако казачество эту затею проигнорировало.
Офицерство в абсолютном большинстве отказалось разоружаться и перешло на нелегальное положение. Вместе с офицерами, сохранив оружие, на нелегальное положение перешла и часть рядового казачества, привыкшая уже к вольности и не желавшая переходить к мирному труду. Уходила в антисоветские отряды и зажиточная часть станиц, решившая бороться за утраченное положение.
В начале января 1918 года на одной из железнодорожных станций под Омском состоялось нелегальное совещание командиров нескольких офицерских групп, не подчинившихся Совету. Офицеры решили не признавать советскую власть, разойтись по ближайшим станицам, приступить к созданию и вооружению отрядов и ожидать дальнейшего развития событий.
Остатки фронтового отряда Анненкова, насчитывавшего 24 человека, ушли в станицу Захламинскую, находившуюся в шести верстах от Омска, и затаились.
Начиная с февраля 1918 года военное подполье в крае активизировалось. В Омске оно объединилось в организацию, названную «Тринадцать», по числу вошедших в нее отрядов. Одни исследователи считают ее монархической, другие – эсеровской. Вначале организация располагала незначительными войсковыми силами. Лишь отряды Анненкова и уже знакомого нам Волкова, ставшего к тому времени полковником, выделялись численностью: у первого было уже более 200, у второго – около 300 всадников {40} . Это давало Анненкову возможность занимать в организации независимое положение и действовать в значительном районе от Ишима до Иртыша, совершая набеги на хутора, деревни, аулы без согласования своих действий с организацией {41} .
Но этого Анненкову было мало; безделье для него было мукой. Его энергия, помноженная на ненависть к советской власти, требовала выхода. К тому же держать без дела три десятка казаков было опасно: падала дисциплина, вспоминались старые обиды, возникали ссоры, и боевой отряд мог превратиться в ватагу. Нужно было громкое дело, чтобы встряхнуть своих казаков и привлечь в отряд новые силы. И скоро такое дело Анненков нашел и осуществил.
В начале января 1918 года по Омску распространился слух, что все церкви и соборы, в том числе и Войсковой, будут упразднены, а их помещения отданы будут различным учреждениям.
Занимавший особое место в жизни казачества Свято-Никольский Войсковой собор был построен в 1838–1840 годах для Сибирского казачьего войска предположительно по проекту В. П. Стасова (1769–1848). В нем хранилась одна из святынь казачества – Знамя Ермака. В 1928 году был разобран его купол, затем и колокольня. После Отечественной войны здесь приютились кинотеатр «Победа», детская музыкальная школа, административные учреждения. В 1960 году Собор хотели снести, но омичи его отстояли. В 1983 году в нем расположился зал органной и камерной музыки, в 1989 году его передали Омской епархии.
Архиерей Войскового собора сообщил Анненкову об опасности, грозящей Войсковому Знамени Ермака и Знамени, врученному войску в честь 300-летия Дома Романовых: большевики решили их публично сжечь. В связи с этим в городе начались волнения, и власти были вынуждены ввести осадное положение. Всюду были расставлены пулеметы и патрули.
Анненков решил встряхнуть свое воинство и спасти войсковые святыни. В соответствии с его замыслом одна партия партизан, сбив патруль с окраины города, заняла позицию на Атаманской улице возле городского театра и открыла вдоль ее демонстративный огонь. Другая партия во главе с атаманом, пользуясь сильным переполохом в городе, ворвалась в него со стороны реки Иртыш, двинулась к Войсковому собору и захватила Знамена и ценную икону – дар партизан – и якобы орден генерала Колпаковского [16]16
Колпаковский Герасим Алексеевич (1819–1896) – генерал от инфантерии, генерал-губернатор Семипалатинской, Семиреченской областей, Степного края. Участвовал во взятии кокандских крепостей, руководил сражением в Узун-Агаче против кокандцев в 1860 г. Оказывал содействие экспедиции Пржевальского, был близко знаком с казахским ученым-просветителем Чоканом Валихановым.
[Закрыть]. Попрыгав в подоспевшие сани, анненковцы под сильным обстрелом прорвались назад к Иртышу. Современник писал: «Стоя на санях и с императорским штандартом в руке, Анненков помчался по льду Иртыша и без особого труда скрылся от погони».
Во время операции ранены были два офицера и пулями разбито стекло в футляре, в котором хранилось ермаковское знамя. Потери красных – четыре убитых и трое раненых.
Опасаясь преследования, Анненков разделил тогда отряд на несколько групп и, покинув станицу Захламинскую, увел отряд в сторону Кокчетава, Акмолы и Петропавловска, а затем – в киргизскую степь. Но его опасения были напрасны: вначале власти действительно намеревались направить в Захламинскую отряд красногвардейцев, но затем этому воспрепятствовал Совет, боясь обострить отношения между казаками и городским населением.
Не видя угроз со стороны омского Совета, отряд стал возвращатьмся в омские станицы. Одна из его групп осталась в степях для работы среди киргиз, другая, с атаманом Анненковым, в начале февраля скрытно возвратилась под Омск и расположилась в станице Мельничной, в 21 версте от города.
Поток добровольцев в отряд еще более усилился. К концу марта 1918 года под знаменем Ермака собралось до 600 бойцов.
Дерзкие набеги отряда Анненкова на Омск участились. В результате нападения на арсенал было испорчено 17 пушек – вся артиллерия Омска, а нападение на оружейный склад позволило довооружить людей и открыто выступить против советской власти. Одновременно с этим в Петропавловске был разгромлен Совдеп. Обещания большевиков выдать большие деньги за сообщение о местоположении отряда результатов не дали.
В это время к Анненкову начали вливаться некоторые отряды организации «Тринадцать». Прослышав про отряд, в него потянулись и неорганизованные добровольцы. К весне численность его отряда резко возросла и, по некоторым данным, достигла около 2 тысяч человек.
Большевики объявили атамана и его отряд вне закона и решили начать против него боевые действия.
К этому времени в Омске стояли один польский конный легион и украинский батальон (200 человек). Анненков встретился с командирами этих частей и предложил им совместно с партизанами поднять восстание и захватить город. Оба командира согласились. Боевые действия решено было начать из Захламино. За средствами через старшину И. И. Зайцева обратились к купцам. Те обещали, но этим и ограничились. Большевики обезоружили обе части, арестовали командиров и повели наступление на Захламино. Анненков решил дать бой и занял все высоты перед станицей. Не доходя двух верст, большевистский отряд остановился. Милиция, входившая в состав отряда, наступать отказалась, говоря, что это не ее дело. Полки тоже не хотели наступать первыми. Солдаты ушли, а милиция и красногвардейцы остались. Партизаны начали наступать, обходя красных с флангов и тыла. Те начали отходить, сначала организованно, но вскоре обратились в паническое бегство.
Анненков решил на время отойти от Омска. Его позиции в Омске были довольно сильны: главный комиссар почты и телеграфа был анненковский капитан. Он имел доступ к большевистскому секретному шифру и сообщал Анненкову нужные сведения. Был анненковцем и помощник начальника Омской милиции, бывший сотник, сообщавший о всех ее планах, были свои люди у Анненкова и в Совдепе. Таким образом, атаман был всегда и обо всем хорошо осведомлен. К этому времени ему удалось установить связь с атаманом Оренбургского казачьего войска А. И. Дутовым и выработать совместную программу действий. Оставив в самом Омске подпольный организационный штаб, Анненков с отрядом ушел в район Исилькуля. Большевики были рады этому, но опасались, чтобы он чего-нибудь не натворил на юге. Послав во все концы телеграммы, они стали выжидать.
Однако Анненков и его соратники хорошо понимали, что многочисленные, но разрозненные антисоветские эсеро-кулацкие мятежи, налеты казачьих и белогвардейских отрядов – это всего лишь мелкие укусы, которые советская власть быстро залечивает, одновременно нанося уничтожающие удары по повстанцам и отрядам. Понимал он и то, что силами для свержения советской власти даже в Омске не располагала вся контрреволюция Поволжья и Сибири. Не давала Анненкову покоя и мысль, что против него и его соратников поднималась еще одна, пока стихийная, сила – мужик, который больше не желал мириться с разбоями и насилием неведомо откуда взявшихся атаманов.
Анненков, его братья по оружию, все контрреволюционное подполье было бы неминуемо уничтожено, если бы не подарок Неба, не Божий дар в лице поднявшего мятеж так называемого Чехословацкого корпуса.
Белый дебют
Чехословацкий корпус численностью около 60 тысяч человек был сформирован на Украине из военнопленных чехов, словаков и добровольцев-эмигрантов еще при Временном правительстве для участия в войне с Германией на стороне Антанты [17]17
Антанта – тройственное соглашение Франции, Англии и России, созданное в противовес Тройственному союзу Германии, Австро-Венгрии и Италии. Во время войны 1914–1918 гг. – военно-политический союз Англии, Франции, России, Италии и Бельгии (совместно с США) против коалиции Германии, Австро-Венгрии, Турции и Болгарии.
[Закрыть].
После заключения Брестского мира и выхода России из войны с Германией надобность использования корпуса на русско-германском фронте отпала, и корпус, объявленный автономной частью французской армии, должен был с согласия советского правительства эвакуироваться через Владивосток в Европу, чтобы принять участие в войне с Германией на стороне союзников. Соглашаясь на эвакуацию корпуса, но опасаясь захвата чехами Сибирской железнодорожной магистрали, советское правительство требовало от корпуса невмешательства во внутренние дела России и сдачи основной части вооружения.
Во второй половине марта 1918 года части корпуса, не сдав оружия, начали покидать Украину. Большевики решили заставить чехов выполнять свое предписание. 27 марта в Пензе им был объявлен приказ, предписывавший каждому эшелону оставить для своей охраны только вооруженную роту, а остальное оружие сдать. Не возражали против сдачи оружия и союзники. Не желая конфликта с большевиками, приказывал сдать оружие и Президент Чехословакии Т. Г. Масарик. Однако чехи, опасаясь нападений красногвардейских отрядов и вооруженных большевиками отрядов германо-австрийских военнопленных, сдать оружие отказались. Тогда 25 апреля 1918 гола народный комиссар по иностранным делам Г. В. Чичерин отдал распоряжение о приостановке продвижения корпуса на восток, однако оно продолжалось. 25 мая, разгневанный неповиновением чехов, комиссар по военным и морским делам Л. Д. Троцкий телеграфировал всем Советам, расположенным вдоль железной дороги: «Все Советы на жел. дор. обязаны под страхом тяжелой силы, которым поручено проучить мятежников. Ни один эшелон с чехословаками не должен продвинуться на восток» {42} .
В этих условиях чехи утвердились в необходимости сохранения оружия, уверились в неизбежности конфликта с большевиками и постановили в случае необходимости пробиваться на восток силой. Одновременно они начали поиски контактов с антибольшевистскими отрядами. В это же время на эшелоны чехов начали производиться налеты Красной гвардии и интернациональных отрядов, сформиро-ванных большевиками, что тщательно скрывалось. Эшелоны продвигались медленно, но к концу мая они растянулись по сибирской железнодорожной магистрали от станции Ртищево (район Саратова) до Владивостока, и на протяжении семи тысяч километров не было ни одной крупной железнодорожной станции, где не стояли бы поезда с частями корпуса.
Советская историография утверждала, что эвакуация корпуса была одним из элементов тщательно разработанного Антантой плана свержения советской власти в России, возвращения ее в лоно капитализма и возобновления ее участия в войне с Германией. На самом деле намерения ее свержения с помощью корпуса у союзников в этот период не было, а конфликт корпуса с большевиками был для них неожиданным. Наоборот, еще в начале марта 1918 года союзники добивались от советского правительства эвакуации корпуса через Архангельск, считая, что вывоз его через Владивосток – пустая трата времени, денег и тоннажа. Однако большевики, видимо выполняя настойчивую просьбу Германии, которая старалась затянуть время прибытия корпуса в Европу и вступления его в войну против нее, пустили корпус через всю Сибирь.
Никакой интервенции в Сибири первоначально союзники также не планировали. Сначала они ввели свои войсковые подразделения в Сибирь для защиты корпуса от наседавших красногвардейских и германо-австрийских отрядов, и лишь потом, когда обстановка в Сибири накалилась и переросла в крупномасштабные боевые действия между красногвардейскими и германо-австрийскими отрядами, с одной стороны, и с чехословаками и русскими антибольшевистскими силами – с другой, союзники приняли решение об интервенции с целью оказания помощи антибольшевистским силам в восстановлении той власти, которую выберет большинство народа.
Но вернемся к Анненкову.
В мае большевики узнали, что Анненков в Мельничной, и повели на нее наступление силами до 2–3 тысяч человек. Однако Анненков о замысле большевиков знал и вывел отряд из-под удара. После ухода большевиков отряд разрушил Ишимскую железную дорогу, на разъезде № 55 захватил двух комиссаров и снял телеграфный аппарат. Снять телефонный аппарат Анненков хотел и на станции Лузино, но начальник станции предложил ему прослушать сначала разговор омских комиссаров с Петропавловском. Комиссар Омского Совдепа передавал, что чешский эшелон, следовавший на восток, отказался сдать оружие и ушел к Петропавловску.
– Не выпускайте больше эшелонов, а мы вышлем два больших отряда и заставим их сдать оружие! – кричал он в трубку.
Получив известие, что чехи рядом, Анненков без колебаний решил нанести урон большевистским эшелонам и установить связь с чехами. Вблизи железнодорожной станции Марьяновка, в 160 километрах западнее Омска, был выбран удобный для засады лог, заросший кустарником. Анненковцы навалили на рельсы шпалы и затаились. Вскоре показался эшелон с огромным красным флагом и с красногвардейцами на паровозе. Подойдя к завалу, эшелон остановился, а красноармейцы начали выскакивать из вагонов. Внезапно они попали под ружейно-пулеметный огонь анненковцев, а в вагоны полетели гранаты. Застигнутые врасплох, красноармейцы вскакивали в вагоны, а поезд задним ходом под огнем двух пулеметов тронулся обратно. Другой эшелон тоже стал быстро уходить на Омск. По данным Анненкова, вагоны первого эшелона были превращены в щепки, от 940 красных бойцов осталось в живых 64 человека.
Разгром эшелонов красные приписали чехам.
Оставив пехоту под Марьяновкой, Анненков с конницей пошел на Исилькуль. Здесь он встретился с чехами и их командиром майором Чанушей. Тот сообщил, что чехи получили распоряжение занять сибирскую железнодорожную магистраль, объявить мобилизацию по всей Сибири для борьбы с большевиками.
В чешском отряде насчитывалось до 650 бойцов. Но этого было недостаточно, и Анненков объявил мобилизацию казаков, на что те охотно откликнулись. Два отряда подошли из Петропавловска. Решено было совместно с чехами начать наступление на Марьяновку.
Объединенный отряд чехов и Анненкова двинулся на Марьяновку и занял ее в ожидании подхода Челябинской группировки белых, в задачу которой входило вместе с Ново-Николаевской группировкой взять Омск.
В это же время для воспрепятствования продвижению чехов и белых на восток из Омска на эту же станцию были направлены два больших отряда Красной гвардии.
Первый отряд под командованием Н. С. Успенского прибыл в Марьяновку утром. На перроне вокзала духовой оркестр исполнял сентиментальные вальсы. Никаких признаков наличия на станции чехов и анненковцев не было. Но как только началась высадка красногвардейцев, по ним был открыт кинжальный пулеметный огонь. За считанные минуты была потеряна почти половина отряда. Погиб и сам Успенский. Однако другая часть отряда сумела закрепиться и вступить в бой. Тем временем из Омска пришел второй, более сильный, отряд, насчитывавший более тысячи бойцов под командованием Андрея Звездова.
С прибытием подкрепления красногвардейцы потеснили белых. Понеся большие потери, те вынуждены были сдать свои позиции и отступить в сторону села Москаленок. Красногвардейцы вошли в Марьяновку, но для развития успеха сил у них уже не было.
5 июня 1918 года начался бой за возвращение Марьяновки. Белочехи перешли в решительное наступление, и бой за станцию принял ожесточенный характер. По воспоминаниям А. Звездова, «от беспрерывной работы стали выбывать пулемет за пулеметом, горели винтовки, растопилось орудие, начался рукопашный бой» {43} . Обе стороны несли большие потери, но превосходство объединенного отряда Анненкова и чехов было абсолютным.
Пехота Анненкова взорвала железнодорожный путь, повредила связь и развернула наступление на станцию с тыла. У красных началась паника, и они, расстреляв все патроны, обратились в бегство. На их несчастье, по дороге шли мобилизованные казаки, которые нанесли им дополнительный урон.
В этом бою кавалерия Анненкова действовала на флангах чешской пехоты. Его конники с ходу захватили станцию Любинскую, чем поставили Омск перед фактом почти полного окружения.
Бой длился 2 часа 10 минут. Основные силы, защищавшие Омск, потерпели поражение. Было убито около 3200 человек, захвачено 8 орудий, 83 пулемета, броневой автомобиль, 2 бронепоезда, 2 состава со снарядами и 2 санитарных поезда.
6 июня Военно-оперативный штаб принял решение отвести отряды Красной гвардии из-под Марьяновки, оставить Омск и отступить на пароходах по Иртышу до Тобольска.
– Чехи, – говорит Анненков, – предложили ему взять власть как единственному, имевшему на это право, но он отказался и, не заходя в Омск, двинулся к городу Ишиму. Разбив тамошний гарнизон, он собрал весь отряд в Исилькуле.
Через 3–4 дня чехами был взят Новониколаевск, и в Омск прибыло Временное правительство. Оно выступило с декларацией, в которой заявило, что после победы над большевизмом будет созвано Учредительное собрание, которому предстоит выбрать будущую форму правления в России.
«Меня вызвал к проводу генерал Иванов-Ринов [18]18
Иванов-Ринов П. П. – «Ринов» – подпольный псевдоним в эсеровской организации. Окончил Сибирский кадетский корпус, Павловское военное училище. До Гражданской войны – полицейский исправник в одном из городов Туркестана. Большой интриган, что помогло ему свергнуть военного министра Гришина-Алмазова и стать военным министром Директории. Восстановил погоны, ввел в армии царские порядки. При Колчаке командовал 2-м Сибирским Степным корпусом. Генерал-лейтенант. После падения Колчака – в Забайкалье, затем – в эмиграции в Китае. В 30-х гг. возвратился в СССР и был расстрелян.
[Закрыть]и сообщил мне, что в Омске – Временное правительство, он назначен командующим войсками, и все войска должны ему подчиниться, – пишет Анненков в своей „Колчаковщине“. – На мой вопрос, какие цели будет преследовать это правительство, он мне ответить не мог и только сообщил, что члены правительства еще не съехались, и части еще находятся в Новониколаевске».
В память о сражении в центре Марьяновки был воздвигнут памятник. На его постаменте – надпись:
Омским рабочим,
бойцам Красной Гвардии,
павшим в боях
с белогвардейцами
у станции Марьяновки
в мае-июне 1918 г.
Раньше, при советской власти, здесь всегда были цветы. Сейчас их не носят.