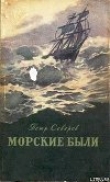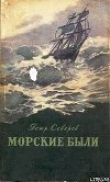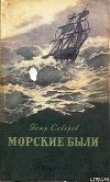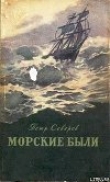Текст книги "Среди свидетелей прошлого"
Автор книги: Вадим Прокофьев
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 15 страниц)
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ ИЛИ УБИЙСТВО?
Золотая пушкинская осень облетела, откружила багрянцем, и теперь за окном хлещет холодный ноябрьский дождь да по утрам летают первые белые мухи.
В барском доме села Михайловского пустынно. Изредка проскрипит половицами нянюшка Арина, прикрикнет на собак конюх, и снова тишина.
В кабинете и днем потрескивают свечи да слышно, как царапает бумагу перо.
Первые сцены «Бориса Годунова» пишутся легко.
Воротынский.
Ужасное злодейство! Полно, точно ль
Царевича сгубил Борис?
Шуйский.
А кто же?
Кто подкупал напрасно Чепчугова?
Кто подослал обоих Битяговских…
Пушкин откидывается в кресле.
Кто?
Весь замысел его романтической трагедии построен на убийстве царевича Дмитрия Борисом Годуновым. А если Борис невиновен?
Пушкин листает X том «Истории» Карамзина. Нет, маститый историограф свидетельствует: «Начали с яда. Мамка царевича, боярыня Василиса Волохова и сын ее, Осип, продав Годунову свою душу, служили ему орудием; но зелье смертоносное не вредило младенцу, по словам летописца, ни в яствах, ни в питии. Может быть, совесть еще действовала в исполнителях адской воли; может быть, дрожащая рука бережно сыпала отраву, уменьшая меру ее, к досаде нетерпеливого Бориса, который решился употребить иных смелейших злодеев. Выбор пал на двух чиновников, Владимира Загряжского и Никифора Чепчугова, одолженных милостями правителя: но оба уклонились от сделанного им предложения…
Тогда усерднейший клеврет Борисов, дядька царский, окольничий Андрей Лупп-Клешнин представил человека надежного: дьяка Михаила Битяговского, ознаменованного на лице печатию зверства, так, что дикий вид его ручался за верность во зле… Битяговский дал и сдержал слово. Вместе с ним приехали в Углич сын его, Данило, и племянник Никита Качалов, так же удостоенный доверенности Годунова».
Нет, Карамзин не оставляет сомнений в том, что было совершено злодеяние. Но каков лукавый царедворец! Всячески поносит Годунова за убийство законного наследника престола, а сам так и льнет к царю-отцеубийце Александру I. Подождите, трагедия напомнит вам о кровавых делах, прикрытых царскими порфирами…
Поэт больше не заглядывает в сочинения Карамзина. Сцена за сценой, вот и Пимен в полутемной келье рассказывает Гришке Отрепьеву:
Ох, помню!
Привел меня бог видеть злое дело,
Кровавый грех. Тогда я в дальний Углич
На некое был послан послушанье,
Пришел я в ночь. Наутро в час обедни
Вдруг слышу звон, ударили в набат.
Крик, шум. Бегут на двор царицы.
Я Спешу туда ж – а там уже весь город.
Гляжу: лежит зарезанный царевич…
И вскоре Пушкин пишет Вяземскому: «Поздравляю тебя, моя радость, с романтической трагедией, в ней же первая персона Борис Годунов! Трагедия моя кончена, я прочел ее вслух, один, и бил в ладоши и кричал, ай да Пушкин, ай да сукин сын!»
И вот уже почти полтора столетия звучит со сцен оперных и драматических театров бессмертное творение русского поэта.
«И мальчики кровавые в глазах» не давали покоя царям. А загадка смерти малолетнего царевича Дмитрия осталась загадкой. И до сего времени историки спорят, был ли царевич убит или случайно наткнулся на нож.
Уже после того как прогремел пушкинский Борис, после смерти Н. М. Карамзина было найдено Углическое следственное дело. Допросы, возможно и под пыткой, следуют один за другим, и все в один голос твердят… Хотя, впрочем, вот как выглядел по следственному делу день 15 мая 1591 года в городе Угличе.
В шестом часу, в середине мая, самая погожая пора. Не жарко, но еще не спустилась вечерняя прохлада.
Лениво плещет Волга, обегая маленький городок Углич.
Лениво ворочаются мысли у дьяка Михаила Битяговского.
И только на царском подворье шумно играют в «тычку» большим ножом ребята.
Михаил Битяговский следит за ними, сонно сощурив глаза навстречу вечерним лучам солнца.
«Ишь ведь, царевич, а норовит словчить, как дворовые ребята. И не отличить, коли б не подергивался. Падучая. Небось на Москве, во дворце с боярской челядью так бы и не попрыгал. Кончилась для вас Москва. И все Нагие, дядьки его Мишка да Гришка, да и сама царица Марья. Вишь, чего задумали – царя Федора в монахи постричь, а малолетнего царевича на престол взгромоздить. А Борис Федорович Годунов про то дознался, ну и в Углич…»
Битяговский вздыхает. Его тоже – в Углич. Заслали, чтобы глаз не спускал с царицы да с родичей ее – бояр Нагих.
Они его лютой ненавистью ненавидят…
Битяговский незаметно задремал. И когда заголосил колокол у Спасса, вскочил, истово крестясь.
Но колокол взывал не к богу, а к людям. И они сбегались на царицыно подворье, со всех сторон, толпились у входа в Спасс, что-то кричали, махали кулаками.
На ступенях Спасса появилась простоволосая Мария. У нее на руках лежал царевич Дмитрий.
Битяговский широко открыл глаза. В них ужас. На шее царевича глубокая рана, и из нее медленно вытекает черная кровь…
Это было последнее, что видел дьяк. Толпа угличан убила его и его сына, разгромила дворы приверженцев Годунова.
И поползли по Руси зловещие слухи. «Борька Годунов царское семейство извести хочет. Подослал убийц к малолетнему царевичу». «Сам на престол метит. Царь Федор блаженненький, все по церквам ездит, в колокола звонит – не жилец, а шурин царевича прирезал наследника законного».
В Москве переполох. Противники Годунова вслух называют его цареубийцей, указывают пальцем.
Царь Федор денно и нощно земные поклоны кладет за упокой души малолетнего страдальца.
Борис нервничает…
И дальше Углическое дело скупо повествует о том, как велось расследование.
В Углич спешит комиссия расследовать обстоятельства смерти царевича. Во главе ее боярин князь Василий Иванович Шуйский и дьяк Вылузгин.
Люто ненавидит Шуйский Бориса. Боярская спесь играет да зависть. Эх, как он мог насолить «выкормышу» Грозного царя!..
Но нет. Князь Шуйский – «муж велеречивый и блудливый». Он понимает, что, пока жив Федор, пока Ирина, сестра Годунова, – царица, Бориса-правителя не свалить, а самому голову потерять недолго.
Но ничего, он потерпит, придет и его час.
Две недели шли допросы.
Василий Шуйский рвал и метал. Ну, будто сговорились – кого ни спроси, все твердят одно: «падучая его сразила». А как это «падучая» могла носком по горлу полоснуть?
И снова допросы. Царица Мария бьется в истериках, поносит Бориса Годунова, убийц подославшего. Но на показаниях опальной царицы не состряпаешь дела.
Да Василий Иванович Шуйский про себя и сам сомневается в том, что смерть царевича – годуновских рук дело. С какой стати ему было убивать малолетнего? Если боялся, что после смерти царя Федора царевич Дмитрий на престоле окажется и тогда Нагие ему, Борису, отомстят за все, так напрасные опасения: царевичу престол не достался бы. Федор по навету того же Годунова завещал бы его кому-либо другому, к примеру, Ирине, жене своей и Борисовой сестре.
Сам на престол метит? Тут уже и подавно убивать не следовало. Ведь если подтвердится, что он убийц подослал, то не только престола, а кроме крепких стен кельи далекого монастыря, не видать Борису ничего.
И забралась в голову Шуйскому мысль: «Ан уж не бояре ли, что супротив Борьки да патриарха Иова, царевича ножом полоснули, а потом на Бориса свалили? Оно бы сподручно – верное средство свалить ненавистного».
И вот в русской исторической литературе разгорелись споры. Убит или жертва несчастного случая царевич Дмитрий?
Карамзин был за то, что убит. Соловьев, много позже – также за убийство, ему вторит Костомаров. А вот Погодин, Арцыбашев и особенно Белов отрицают вину Бориса, признают правдивыми все строки следственного дела.
И по сей день в учебниках истории можно найти противоречивые показания: и убит, и зарезал себя сам.
Быть может, этот вопрос был бы и не столь существенным, но ведь он связан так или иначе с целой эпохой в жизни и борьбе русского народа с иноземными захватчиками. Что же касается Пушкина, царь-детоубийца – это очень своевременно. Это заставляло думать, делать выводы.
И вот когда мы уже готовы были поставить точку или еще один знак вопроса – убит или не убит, воскресное приложение к газете «Известия» – «Неделя» – опубликовало статью нашего крупнейшего источниковеда, блестящего исследователя истории древней Руси, академика Михаила Николаевича Тихомирова «Самозванщина».
Михаил Николаевич вновь обратился к следственному Углическому делу. В популярной статье он не рассказывает, почему это дело кажется ему сфальсифицированным. Академик Тихомиров уверен, что «факты в нем явно подтасованы, потому что главной целью следователей было все запутать, создать версию о случайной смерти». Не будем спорить с Михаилом Николаевичем, подождем, когда появится его специальное исследование. Он разрешил уже много исторических загадок, опроверг много ложных мнений.
Будем верить, что он разрешит и эту.
ИСТОРИЯ ОДНОЙ ОШИБКИ
«И на славной Красной площади отрубили буйну голову…» – так поется в казачьей песне XVII века о кончине Степана Разина.
Но позвольте, разве Разина казнили на Лобном месте? Имеются самые разнообразные свидетельства как русских, так и иностранцев, что Степан Разин был обезглавлен «за Москвой-рекой», на Болотной площади. Именно на Болотной Разину должны были воздвигнуть памятник.
А что по этому поводу говорят архивы?
Молчат архивы. Бумаги Казанского приказа, который занимался делом разинцев, сгорели во время пожара 1702 года.
Затихли споры. Трудно было спорить, не имея в руках достоверных документов.
Старший научный сотрудник Центрального государственного архива древних актов Е. Швецова просматривала дела Разрядного приказа. Дел много, и надо сказать, что в Разряде не всегда сидели писцы, отличавшиеся хорошим почерком. А тут, как назло, что ни дело, то такая тарабарская грамота – ничего не поймешь. Вот разве только небольшой отрывок, он написан более или менее читаемо:
«По злобе де своей проклятой и по лукавству начинания своего месть принял на Москве на Красной площади…»
О ком это? На Красной площади казнили не простых татей, а «воров» – преступников, поднявших руку на существующие порядки.
С трудом узнаются буквы, слова. Но труд не напрасный. Конец спорам! Расшифрованный документ говорит о казни самого Степана Тимофеевича Разина 6 июня 1671 года.
Значит, все-таки на Красной, а не на Болотной площади!
Швецова старается прочесть дальше этот на редкость неразборчивый текст.
«…вздеты на высокие деревья (это, конечно, не деревья, которые растут в лесу или роще, а копья или высокие колы, жерди. – Ред.) и поставлены за Москва-рекой на площади до исчезнутия». Теперь не трудно разобрать и предыдущую строку, в ней говорится об отсеченных руках, ногах и голове Степана Разина. Это они «вздеты на высокие деревья». Значит, вот почему некоторые современники, описывая казнь Степана, говорили о Болотной площади. Сами они казни не видели, а видели выставленные руки, ноги и голову Степана Тимофеевича и ошибочно решили: раз они стоят на «Болоте», то значит и казнь произошла здесь же.
СКОЛЬКО ЯЗЫКОВ ЗНАЛ ПУГАЧЕВ?
Десять лет работал в Архиве древних актов Р. В. Овчинников. Его всегда привлекал поиск нового. И если он находил, то немедленно публиковал. Особенно интересны его статьи, посвященные истории крестьянской войны под руководством Емельяна Пугачева. Овчинников не писал монографий, всякую находку, выяснение любой, даже, может быть, и не очень значительной детали он спешил сделать достоянием тех, кто интересуется отечественной историей, преподает ее в школах, институтах.
А ведь порою небольшое сообщение в журнале, газете скрывает за скупыми, короткими строками напряженную работу, многодневный труд.
Мы много раз восклицали: «И вот начался поиск!» Надо сказать, что поиск в архиве имеет свою специфику, отличающую его от поиска, который предпринял, например, писатель С. С. Смирнов в отношении героев Брестской крепости, и даже от архивных увлекательных поисков писателя Ираклия Андроникова.
Прежде всего нужно знать, что ищешь. Если Ираклию Андроникову, который ищет и находит многие частные коллекции, нередко приходится сталкиваться с тем, чего он не искал, но все равно интересным, то это, как правило, происходит потому, что в частных коллекциях обычно сохраняются реликвии. Само время их отобрало, проверило, просеяло, если так можно выразиться.
В архиве же документов, как-то связанных с тем или иным событием, обычно бывает очень много. Уже, кажется, не одно поколение исследователей работало над материалами по истории движения декабристов. Многотомные публикации, блестящие монографии Н. М. Дружинина, М. В. Нечкиной оставляли впечатление, что в этой проблеме ученые не пропустили ни одной мелочи, прошлись по архивам, что называется, «под метлу». И вот неожиданно известный воронежский писатель-историк Н. А. Задонский обнаруживает целую связку, более 300, писем декабристов, писем, о которых не знали ученые. Конечно, это случайная находка, Задонский искал совсем иные материалы. Но она свидетельствует о том, что архивные фонды буквально неисчерпаемы. И по ним можно блуждать долго, тщетно, и никакие описи и путеводители в этих блужданиях не помогут.
Занимаясь историей крестьянской войны под руководством Е. И. Пугачева, Овчинников прежде всего прочел все, что было опубликовано по этому вопросу. Сверил, какие документы были уже использованы учеными, отобрал неиспользованные и стал внимательно их изучать.
Вот он наткнулся на сообщение, что в секретных делах архива военного министерства А. С. Пушкин увидел уникальнейший документ – автограф Емельяна Пугачева. Овчинников проверил: действительно в приложении к «Истории Пугачевского бунта» в 1834 году Пушкин воспроизвел факсимиле подписи Емельяна Пугачева.
Подпись Пугачева? Но ведь ни для кого не составляет тайны, что Пугачев был неграмотным, не умел ни читать, ни писать. А подпись?
Может быть, все-таки Пугачев в конце концов научился писать? Может быть, напрасно Екатерина II злорадствовала по поводу его неграмотности и поспешила отругать своих высокообразованных генералов за то, что они не могли оправиться «с неграмотным мужиком»?
Овчинников был уверен, что он не найдет рукописей, «начертанных рукою Пугачева»; если бы Пугачев научился писать и после него сохранились бы какие-либо подлинные рукописи, то за два столетия, прошедших с момента восстания, об этом стало бы известно.
Но исследователя увлекла иная задача. Если Пушкину посчастливилось набрести на что-то, что означает подпись Пугачева, то не сохранились ли другие пугачевские автографы?
Листать дела? Страницу за страницей?
Нет, Овчинников пошел другим путем. Он для начала решил выяснить, знали ли ближайшие сподвижники Емельяна Ивановича о том, что тот «грамоте не умеет». Или, может быть, наоборот, они свидетельствуют о том, что Пугачев все же одолел ее?
Наиболее вероятным казалось найти ответ на этот вопрос в протоколах допросов участников восстания.
Это был уже поиск. Протоколы, написанные скорописью XVIII века. Надо сказать, что скоропись XVIII века читается вряд ли легче, чем скоропись предшествующего столетия, хотя в XVIII веке уже был гражданский шрифт. Это немного повлияло на практику делопроизводственного письма, стали раздельнее писаться слова, стало меньше и выносных букв, уменьшилось и количество их различных начертаний, и все же читать подряд протоколы – трудная работа.
Наконец Овчинников нашел искомое. Думный дьяк (секретарь) Военной коллегии – пугачевской коллегии (ведь восставшие во многом копировали учреждения, которые были в то время в России) – Иван Почиталин показал: «хвастал перед ними, что он умеет писать на двенадцати языках».
Зачем неграмотному предводителю понадобилось хвастаться перед своими сподвижниками, понять нетрудно. Ведь крестьянские восстания той далекой поры проходили под царистскими лозунгами – против царя плохого, за царя хорошего, крестьянского. В 1773–1775 годах крестьяне выступили против «плохой императрицы Екатерины II», за «хорошего императора Петра III». Таинственная смерть Петра III, народные слухи о том, что Екатерина сбросила своего муженька с престола за то, что тот-де волю крестьянам объявить хотел, легенды о его чудесном спасении и позволили Пугачеву воспользоваться этим именем. Трудно, конечно, гадать, насколько самому Емельяну Ивановичу была по душе роль «самозванца», но он довел ее до конца. Ну, а уж поскольку ты «царь», «император», «помазанник», то, конечно, должен уметь читать и писать, да и не только на «российском языке». Видимо, не многие, да и то из ближайших сподвижников Пугачева, знали о его самозванстве. Среди остальной же массы восставших Пугачев должен был поддерживать свой авторитет, а значит, и рекламировать свою грамотность.
Как-то раз, как выяснил Овчинников, Пугачев в присутствии членов своей «Военной коллегии», среди которых были и грамотные люди, решился исписать лист бумаги.
Овчинников и не рассчитывал, что найдет этот листок. Но ему надо было установить, какое впечатление на присутствующих произвел этот акт Пугачева. Ведь известно, что он любил говорить соратникам: де ему своей руки до самой Москвы показывать нельзя.
Исследователь выяснил, что на этом листе Пугачев начертил какие-то значки, некоторых из них отдаленно напоминали русские буквы. Видимо, Пугачев по памяти пытался их перерисовать.
Тот же Иван Почиталин показывал на допросе: «Писал один раз и сам Пугачев к губернатору письмо, но на каком языке, я не знаю, только слышал от него, что на иностранном». А вот показание и другого очевидца, другого секретаря пугачевской «Военной коллегии» Максима Горшкова: «Видел я один раз, что самозванец (он, наверное, знал о самозванстве Пугачева, но назвал его этим именем, конечно, только на допросе. – Ред.) сам писал почерком на бумаге и по написании с полстраницы показывал пред ним стоящим с сими словами: „Прочтите-де, что я написал“. Но как написано было не по-русски, то все тут грамотеи сказали: „Мы-де не знаем, ваше величество, это не по-русски“. На что самозванец, улыбнувшись, сказал: „Где-де вам знать“».
Но вот другое любопытное свидетельство. Этот факт не мог придумать Почиталин. Оказывается, Пугачев однажды отважился отправить собственноручное письмо к губернатору оренбургскому И. Рейнсдорпу. И при этом сказал Почиталину: «Я-де в город послал указ, а послушают ли оного или нет, не знаю».
Если письмо дошло до губернатора, тот наверняка отослал его в Военную коллегию, не пугачевскую конечно. Овчинников почувствовал, что стоит на пороге находки.
Донесений много, среди них и рапорты губернатора Рейнсдорпа.
Но вот донесения от 24 декабря 1773 года. «При сем сражении (сражение 20 декабря 1773 года. – Ред.) передано от злодея три соблазнительных листа, из коих первой – на российском, а другой – на немецком диалекте (видимо, писал пленный поручик, ставший секретарем Пугачева, Михаил Шванович. – Ред.), а третий самим вором Пугачевым для уверений находящихся в толпе его, намаранной и не изъявляющий никаких литер, которые в оригинале под № 2 при сем приобщаются».
Нашел Овчинников и письмо. Оно было в конверте. На нем что-то нацарапано, что должно было означать адрес.
Поиск Овчинникова начался в Центральном государственном архиве древних актов, окончился в Центральном государственном военно-историческом архиве, где хранятся дела Военной коллегии времен Екатерины II.
Но если есть два автографа, то могут быть и еще. Овчинников не прекратил поиск. И не ошибся. Найдены еще три «письма» Пугачева, писанные теми же знаками. Эти «письма» всегда были при Пугачеве и предназначались для удостоверения особы «законного императора Петра III». Пугачев именовал их манифестами. Они были найдены в Бердской слободе, в доме казака Ситникова, где в октябре 1773 – марте 1774 года находилась ставка Пугачева. Оренбургская секретная следственная комиссия переправила «манифесты» Екатерине II, а уже от нее они попали в следственные материалы о восстании. Эти материалы также хранятся в Центральном государственном архиве древних актов.
ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
Город замер. Город застыл в морозной ночи. Но город не спал. Светились окна Зимнего дворца. Подслеповато помигивали свечи сквозь ледяные узоры на окнах Главного штаба. Снег, высушенный стужей, визжал, потревоженный лошадиной подковой, пронзительно скрипел под тяжелой поступью патрулей.
К Зимнему подъезжали сани. Чем чернее становилась ночь, тем больше подкатывало саней.
В Зимний свозили «злоумышленников», осмелившихся открыто, с оружием в руках выступить против крепостничества, против русского самодержавия.
Это была страшная ночь после восстания. Ночь с 14 на 15 декабря 1825 года.
А ночь после битвы принадлежит мародерам. В Зимнем мародерствовал сам император всероссийский Николай I. Он допрашивал арестованных.
Верховный правитель России в первый день своего царствования превратился в царственного сыщика, коронованного следователя, венценосного тюремщика.
«…Николай Павлович мог гордиться тем, что материал, который лег в основу следствия, был добыт им и только им на первых же допросах. Без отдыха, без сна он допрашивал в кабинете своего дворца арестованных, вынуждал к признаниям, по горячим следам давал приказы о новых арестах, отправляя с собственноручными записками допрошенных в крепость и в этих записках тщательно намечал тот способ заключения, который применительно к данному лицу мог привести к обнаружениям, полезным для следственной комиссии».
Характеристика, скажем прямо, блестящая, для сыщика конечно. И П. Е. Щеголев, давший ее, не ошибся. Он писал на основании архивных материалов, ставших доступными для исследователей после революции 1905–1907 годов. В руки Щеголева попали «Записки» Николая I об обстоятельствах, сопутствующих его вступлению на престол.
Вот как венценосный мемуарист описывает ночь с 14 на 15 декабря 1825 года:
«В этих привозах, тяжелых свиданиях и допросах прошла вся ночь. Разумеется, что всю ночь я не только что не ложился, но даже не успел снять платья и едва на полчаса мог прилечь на софе, как был одет, но не спал. Генерал Толь всю ночь напролет не переставал допрашивать и писать. К утру мы все походили на тени и насилу могли двигаться. Так прошла эта достопамятная ночь. Упомнить, кто именно взяты были в это время, никак уже не могу, но показания пленных были столь разнообразны, пространны и сложны, что нужна была особая твердость ума, чтоб в сем хаосе не потеряться».
Этим словам Николая можно поверить, если судить по тому, что в первые дни следствие велось действительно стихийно, безо всякого плана. Однако Николай Павлович в своих записках хочет явиться перед потомством как судия справедливый, нелицеприятствующий. Напрасные потуги, столь типичные для многих и не царствующих мемуаристов.
Император запугивал, император запутывал, император лицедействовал. Он был палачом, но надевал на себя черный плащ иезуита. Он мог послать семье Рылеева денежное пособие, но он же приказал заковать в кандалы и содержать под строжайшим арестом в Алексеевском равелине князя Оболенского.
А потом, когда уже были повешены пять декабристов и более пятисот их развезли по тюрьмам, сибирским каторгам и рудникам, он мстил мертвым и живым. В «Записках» Николая декабристы – убийцы, изверги, тупые дегенераты.
«Сергей Волконский – набитый дурак, таким нам всем давно, известный, лжец и подлец в полном смысле, и здесь таким же себя показал…» «Он собой представлял самый отвратительный образец неблагодарного злодея и глупейшего человека…»
«Артамон Муравьев был не что иное, как убийца, изверг без всяких других качеств, кроме дерзкого вызова на цареубийство».
«Пестель был злодей во всей силе слова, без малейшей тени раскаяния… я полагаю, что редко найдется подобный изверг…»
Естественно, что эти характеристики никак не соответствовали действительному облику людей, впервые в истории России выступивших с открытым революционным действием, со своими программами революционного обновления родины.
Между тем образы декабристов, смысл их действий, их мечты, их жертвенность в течение XIX века обрастали самыми фантастическими слухами, вымыслами, которые не могли опровергнуть даже воспоминания многих из них, кто пережил Николая, был «прощен» Александром II и выступил в печати. И даже такой крупный буржуазный историк, как Ключевский, говорил: «Декабристы – историческая случайность, обросшая литературой».
Советские историки, руководствуясь ленинскими указаниями о декабристах, предприняли огромную изыскательскую работу, чтобы прежде всего сделать достоянием широких кругов читателей и специалистов материалы о первых русских революционерах-дворянах, дать правильную марксистскую оценку их идей и методов революционной борьбы. Центрархив к 100-летию восстания декабристов начал публикацию следственных материалов по делу дворян-революционеров. Эта публикация заняла XI томов и выходила на протяжении 1925–1954 годов.
Это очень интересная публикация не только с точки зрения содержания материалов. Они сами говорили за себя. Но архивисты не забыли обратить внимание читателей и на «мелочи», которые так часто и столь напрасно игнорируются исследователями. А именно эти «мелочи» помогли понять, выявить массу чрезвычайно важных деталей.
Нумерация дел – деталь. В конце концов разве важно, под каким номером числился тот или иной декабрист в черном «Списке лиц, коих по делу о тайных злоумышленных обществах предаются… Верховному суду». Оказывается, не все равно. Если внимательно просмотреть дела, то на многих из них можно обнаружить не один, а сразу два номера, причем, как правило, второй номер написан карандашом.
Публикаторы следственного дела хорошо знали, что царские следователи случайных номеров не ставили. Вспомнили историю с бумагами Пушкина. Она настолько показательна, что о ней стоит рассказать, ведь и Пушкин жил, творил и погиб в годы, когда и ему светили идеи декабристов, в годы страшного николаевского деспотизма.
Пушкин умер. Жандармский офицер Ракеев тайно вывез его тело из столицы. Жандармы же забрали архив великого поэта в Третье отделение. Бюрократы Третьего отделения зарегистрировали каждую бумажку и каждую пронумеровали, расставив в верхнем правом углу листа красным карандашом цифры. Потом бумаги были возвращены семье. И постепенно стали исчезать. Их раздаривали знакомым и приятелям. К этому приложили руку не только члены семьи поэта, но и его ближайшие друзья.
В 80-х годах сын поэта передал сохранившиеся рукописи Пушкина в Румянцевский музей, а уже в советское время все рукописное наследие поэта собирается Пушкинским домом в Ленинграде.
И вот тут-то и пригодилась жандармская нумерация. Ведь сохранилась масса стихотворений, которые по традиции приписывались Пушкину. Если просмотреть первое посмертное издание сочинений Александра Сергеевича, выпущенное Г. Н. Геннади, то количество не пушкинских произведений столь велико, что они умаляли и славу и художественную ценность творчества поэта. Недаром была сочинена эпиграмма:
О жертва бедная
Двух адовых исчадий!
Тебя убил Дантес,
А издает Геннади.
Выявляя доселе неизвестные произведения Пушкина, исследователи прежде всего обращали внимание на то, есть ли, или нет в правом верхнем углу красных жандармских цифр. Если есть, остается только сверить эти цифры с нумерацией основного пушкинского фонда. Если листа под таким номером в фонде нет – значит рукопись принадлежит Пушкину и попала в чужие руки после его смерти. Так были приобретены и так называемые «Онегинские рукописи» в Париже. Любопытно, что этот Онегин не пушкинский герой, а реальный русский барин, меценат, проживавший в Париже. Ему-то и подарил сын Жуковского пушкинские рукописи, пронумерованные жандармами.
Итак, вернемся к внешним «мелочам» следственного дела декабристов. Мы говорили о нумерации.
На обложке или на первых листах дела мы находим номер, обыкновенно сделанный карандашом и не совпадающий с тем, который проставлен в середине обложки. Трубецкой числится по спискам под № 1, а на первом листе его дела стоит № 21, Каховский и по номеру в середине обложки и по списку – № 5, а на первом листе его дела проставлен № 27 и т. д. Эта вторая нумерация станет ясной только тогда, когда мы обратимся к концу каждого дела. В конце дел приложены сводки или «выборка из показаний» на данного декабриста, то есть выборка из дел других декабристов тех мест, где упоминается о том обвиняемом, в деле которого помещена эта выборка. В этой выборке дела декабристы значатся под первоначальными номерами, не совпадающими с номерами по списку лиц, передаваемых суду, так как список (в котором декабристы размещены в соответствии с классификацией степени их виновности) был составлен в конце следствия. Таким образом, карандашные номера более ранние, а окончательное оформление и нумерация дел, степень виновности декабристов были определены только в конце следствия.
Помимо показаний, которые обвиняемые декабристы давали на допросе в заседаниях комиссии, им посылались еще по месту их заключения письменные вопросы, на которые они там же писали ответы. Эти вопросы именовались «допросными пунктами». Вместе с ответами их возвращали в следственную комиссию. Если для ответов заключенному не хватало бумаги, тюремное начальство выдавало несколько листов, точно просчитывая их и иногда обозначая тот бастион или каземат, где находился данный заключенный. Такое обозначение делалось и на конверте, в котором возвращались допросные пункты с ответами в комиссию. Это позволяет нам узнать, где находился тот или иной декабрист во время следствия (например, Рылеев находился в каземате № 17 Алексеевского равелина, Каховский – в «Аннинском бастионе», каземат № 5, там же Никита Муравьев в каземате № 4 и т. д.).
Любопытны наблюдения над некоторыми внешними особенностями дел отдельных декабристов.
В деле Якубовича важно обратить внимание на почерк. Якубович был темпераментным южанином, великолепным оратором, умевшим увлекать, убеждать. А вот его показания бессвязны, запутанны.
Сличаешь почерк его различных письменных показаний, и кажется, что их писали разные люди. И поэтому можно установить зависимость изменений почерка от изменения настроения Якубовича. На допросе в декабре Якубович писал: «Если нужна для примера жертва, то добровольно обрекаю себя». В начале 1826 года произошел перелом, и 9 января он уже говорит иное: «Чистосердечием и раскаянием я имею только надежду облегчить мою участь». И он дал все требуемые от него показания. Все эти изменения настроения Якубовича отразились на его почерке.
В конце каждого дела есть скрепа. Кажется, не все ли равно, кто «скрепил» дело? Нет, не все равно.
Возьмем дело А. С. Грибоедова. У Оболенского есть письмо с ясным намеком на участие Грибоедова в тайном обществе. Дела Оболенского и Грибоедова скреплены одним лицом – Ивановским, другом Грибоедова. Может быть, ему Грибоедов и обязан тем, что письму Оболенского не дали хода и Грибоедов к суду не был привлечен.