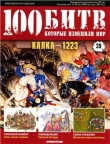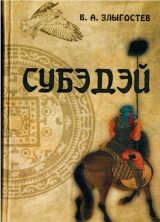
Текст книги "Субэдэй. Всадник, покорявший вселенную"
Автор книги: В. Злыгостев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 23 страниц)

Часть вторая. Непобедимый темник
Субэдэй – опора и поддержка в кровавых битвах, [он] отдает все силы служению нашему дому, мы весьма одобряем его!
Чингисхан. «Юань Ши», цзюань 121

Глава первая. Создание великого каганата

Центральным событием в истории Монголии, вне всякого сомнения, является Великий Курултай 1206 года, возвестивший миру о появлении новой степной державы. Но нельзя забывать о том, что годом раньше был совершен «…первый поход монголов против настоящего развитого государства… в страну тангутов» [6, с. 2791. И хотя этот поход, по сути, был набегом, он представлял из себя первую экспансионистскую акцию монголов. Елюй Ахай, который руководил нападением, «…захватил людей с их верблюдами и вернулся обратно» [12, с. 146]. Кроме того, была разграблена пара небольших городов. В это же время Субэдэй-багатур, ринувшись в погоню за меркитами, достаточно глубоко проник в район Дешт-и-Кипчак, осуществляя тем самым стратегическую разведку для будущих вторжений, которые Чингисхан, несомненно, планировал. Начиналась новая эпоха – эпоха завоеваний. Выдающийся русский ученый Г. В. Вернадский дал наиболее точное определение этому событию, подчеркивая значение монгольской экспансии в XIII веке. «Монгольская экспансия… была одним из важных и судьбоносных взрывов в истории человечества, которые время от времени меняют судьбы мира. По масштабам своего влияния на всемирную историю она может быть соотнесена с варварскими нашествиями V века, которые опрокинули Римскую империю, положив конец древнему миру, а также с триумфальным маршем ислама в VII столетии… Монголы прошли путем скифов, сарматов, гуннов, им предшествовали… печенеги и половцы», но, «принимая во внимание масштабность территории, завоеванной монголами, мы можем сказать, что монгольская фаза кочевнической экспансии составила кульминацию этих натисков» [24, с. 9–12].
Тем временем Чингисхан и не думал давать соседям никакой мирной передышки. В 1206 году состоялся «…карательный поход на найман…» [12, с. 147]. 1207 год «…вторично ходили… походом на Си Ся, овладели городом Орохай» [12, с. 147]. В том же году киргизы, приняв монгольских послов, добровольно перешли на сторону Чингисхана. А старший сын Великого каана Джучи в 1207 году совершил первый «самостоятельный» поход против «лесных народов». Военное предприятие, возглавляемое Джучи, можно назвать вполне удачным, были заняты огромные терри тории в районе верхнего Енисея, к северо-западу от Иртыша и Байкала. «Сокровенное сказание» дает длинный список племен, покоренных сыном Чингисхана, упоминается в этом списке и племя бажигидов (башкиров) [14, с. 190, 326]. Но в данном случае речь не идет о «покорении» – скорее всего, передовые отряды монголов повстречались с каким-то башкирским родом, откочевавшим на восток гораздо дальше, чем обычно.
О том, что в походе против «лесных народов» Субэдэй принимал участие, «Сокровенное сказание» не упоминает, но надо полагать, что без него эта кампания не обошлась хотя бы по той причине, что чуть более года назад он уже побывал на крайнем востоке Дешт-и-Кипчак и кому, как не ему, было сопровождать царевича. Тем более что в «Юань Ши», во 2-й биографии (цзюань 122) [12, с. 242], отмечены его заслуги в покорении земель к северу от «главного юрта» – «родовых земель Чингисхана» [12, с. 290]. Кроме всего, а это не подлежит сомнению, Субэдэй активно «разбирался» с лесными племенами не только к западу и северо-западу от оз. Байкал, но и к востоку и северо-востоку от него, в землях, именуемых у «мусульманских авторов вроде „стран Мрака“» [12, с. 290]. А кому, как не урянхаю, для которого тайга была родным домом, надлежало отвечать за покорение «лесных народов»?
В результате всех этих «мероприятий» у Чингисхана появились новые даньщики и еще один источник людских резервов для будущей войны, например, с Империей Цзинь, план которой он вынашивал, «…однако не осмелился двинуться необдуманно» [12, с. 147].

Начало монгольской экспансии (1205–1210 гг.)
В 1208 году Гохтоа-беки и Кучулук вновь кочевали вместе. Знамена этих вождей развевались над Тарбагатайским хребтом, напоминая Владыке монголов, что меркито-найманы еще не сломлены, и хотя им было не привыкать бегать от грозных полководцев Чингиса, они опять размахивали мечами. Но в этот раз все было гораздо серьезнее. Чингисхан в 1208 году двинул против них, видимо, сразу два войска «…под началом своих лучших воевод Джэбэ и Субедея» [7, с. 169]. Им были поставлены две задачи: Джебе – уничтожить Кучулука, Субэдэю – покончить с Тохтоа-беки. Кучулук и Тохтоа-беки разделились, «… царевич Кучлук со своими соплеменниками ушел в Семиречье, был там ласково принят гурханом Чжулуху» [2, с. 187] и таким образом ускользнул на время от Джэбэ. А вот Тохтоа-беки с сыновьями и всем войском кинулись удирать от Субэдэя на север, рассчитывая, что и на этот раз все обойдется. Не обошлось. Вождь ойратов Хотуга-беки и его люди послужили проводниками монголам. «В 1208 голу… Субэтэй настиг и вынудил к битве найманов и меркитов в долине Иртыша у впадения в него Бухтармы. Вождь меркитов Токта пал в бою, его дети бежали к кыпчакам (в северный Казахстан)…» [2, с. 187]. «Не имея времени и возможности унести его тело с поля боя, сыновья „из уважения“ отрезали ему голову, чтобы забрать с собой и воздать последние почести» [3, с. 128]. Итак, главная задача – покончить с Тохтоа-беки – была выполнена, его сыновья Куду, Гал и Чилаун, как и Кучулук, на какое-то время исчезли, но наверняка знали, что покоя им не будет. А нужен ли был им покой?
Субэдэй, вернувшись из похода, сразу же попал в круговорот придворных интриг, которые сотрясали трон самого Чингисхана. Субэдэй был очень нужен в этот момент своему хану и возвратился вовремя, так как в ставке повелителя возникла оппозиция во главе с главным шаманом Тэб-Тэнгри и родным братом Чингиса – Хасаром. Дошло до того, что Хасар решил отделиться от брата. «Его заставило „отложиться“ все более и более растущее „самовластие“ и авторитет Чингисхана, его стройная организация, основанная на строгой соподчиненности как по административной, так и по военной части, полноте его власти, чувствующейся везде и всюду, – все это стушевывало, обезличивало такую сильную, своенравную натуру, каким был Касар» [7, с. 94]. В конце концов Хасар, забрав тысячу триста своих нукеров, ушел от Чингисхана. Последнего не могли не тревожить замыслы брата, который был воином с большой буквы и обладал качествами, от которых враги замирали в страхе. Вот какую оценку давал Хасару в свое время Джамуха:
…Огэлун хатан сын
Сюда несется вскачь,
Он Хасаром зовется у врагов,
Вскормленный человеческий силач.
Верзила грозный, вымахал в сажень,
Блестя броней, напропалую мчится.
И кажется, навис уже, как тень.
Свежатиною жаждет поживиться.
Могуч!.. Тяни его хоть три быка —
Упрется Хасар, и не сдвинешь с места.
Утроба велика не велика —
Шутя трехлетку-коровенку съест он.
А доведется воина настичь,
Так тут ему и вовсе не задача:
Проглотит человека, словно дичь,
С колчаном и со стрелами в придачу.
Представьте, человек стоит живой,
Вдруг тень падет – и вмиг его не станет.
А злыдень помотает головой —
И жертва даже в горле не застрянет.
А если Хасар гневом распален,
Хватает из колчана стрелы он,
В намеченную цель проворно мечет.
Случится, жертва не видна порой
И от стрелка сокрыта за горой —
Стрела его сразит иль изувечит.
Взъярился Хасар и рассвирепел —
Возьмет охапку самодельных стрел
И вроде в пустоту метнет их кучей.
Перемахнут они за гребень гор,
И будет войску за горой разор:
Падет погибель на людей из тучи.
Здесь Хасар – и беды нам не отвесть,
Пред ним любой рассыпься неприятель.
В нем мощь нечеловеческая есть,
Ведь это мангас, людопожиратель.
Он тетиву натянет посильней —
Летит стрела на тыщу саженей;
Вполсилы лук натянет – и стрела
На пятисотой сажени легла.
[14, с. 154–155].
С таким «мангасом» справиться было непросто. Но Чингисхан мог решить эту проблему элементарно, послал бы в погоню одного из своих «псов», ну, например, Хубилая, о котором сам говорил:
Сильным ты шею сгибал,
Борцов на лопатки клал
[22, § 209],
и Хубилай разделался бы с «людопожирателем», это точно, но хан знал: прольется кровь, появятся недовольные, и опять возможна междоусобная склока, которая поломает все его планы. А кровь, тем более кровь Хасара, ему была не нужна. Когда-то он лично убил другого своего брата – Бэктэра [20]20
Бэктэр был братом Тэмуджина по отцу.
[Закрыть], стать двойным братоубийцей даже Чингисхану, наверное, не хотелось. Поэтому эту задачу, задачу по обузданию Хасара, он поручил Субэдэю. Монгольский повелитель разглядел в Субэдэе не только военачальника, но и дипломата, способного путем переговоров свести кризис, в данном случае кризис внутри «Золотого рода», к нулю. И уже ранним утром Чингисхан отправил Субэдэя в погоню за строптивым братом. «Когда он сделал… повеление, Субэдэй-багатур промолвил:
„Постараемся, как можем, и будем преследовать;
Будем гнаться изо всех сил!
Да будет счастье моему владыке“».
[25, стр. 487].
Естественно, отряд Субэдэя превосходил численно ту тысячу триста нукеров Хасара. Обложив бунтаря со всех сторон, он загнал его в такое урочище, вырваться из которого без огромных потерь преследуемым было невозможно. Хасар и его люди приготовились к худшему, но Субэдэй предложил переговоры, и они, еще совсем недавно плечом к плечу стоявшие рядом во всех битвах, в конце концов давшие клятву Чингисхану, испив "мутной воды" Балджуна, встретились.
"Хасару-владыке Субэгэтэй-багатур сказал слово:
Если разлучишься с родной семьей,
Станешь пищей для чужого человека. Да!
Если разлучишься с материнской родней,
Станешь пищей для монгольских людей. Да!
Если разлучишься с многосемейными людьми,
Станешь пищей для сироты. Да!
Если распадется многочисленный народ,
Станет он нищей для малого народа. Да!
Может, найдешь себе рабов и слуг,
Но родной семьи не найдешь.
Может, найдешь себе подданных,
Но родичей, рожденных в одном роду, не найдешь,
Так он сказал. Хасар был согласен с этими словами [и возвратился]" [25, с. 487].
Пройдет совсем немного времени, и Хасар на полях Северного Китая проявит себя как полководец, а тогда, «благодаря заступничеству С’убедея перед рассерженным повелителем, Хубуту-Хасар избежал не только неминуемой казни, но даже простого наказания» [26]. В будущем у Чингисхана и Хасара найдутся причины обижаться друг на друга. И опять же Субэдэй поможет Хасару, когда тот совершит глупость: во время пиршества, спьяну приставая к Хулан-хатун, одной из жен каана, он «…брал ее за руки» [25, с. 520]. Хасару после своего неразумного поступка пришлось посидеть пару дней привязанному к ограде. Субэдэй тем не менее убедил Чингисхана освободить Хасара и более не наказывать. В «Алтан-тобчи» этот фрагмент изложен следующим образом: «Субэгэ-тэй-батур доложил владыке: „…Освободи же Хабуту Хасара от наказания“. Такое слово он сказал. Владыка согласился…» [25, с. 521].
Между тем в главной ставке шаман Тэб-Тэнгри опять мутил воду, даже свой трон поставил на один уровень с седалищем Великого каана и попытался издавать вместе с ним общие указы. Да к тому же другого брата Чингиса – Тэмугэ-отчигина – унижал, на колени приказал перед собственной персоной поставить. Но тут терпение монгольского властелина закончилось, он "…вызвал в ставку зарвавшихся приближенных, и волхву сломали спину, а его отца [21]21
Отцом Тэб-Тэнгри был Мунлиг.
[Закрыть]и братьев, пристрожив, простили" [2, с. 308]. Велика вероятность того, что именно Субэдэй, когда брыкающегося Тэб-Тэнгри потащили за дальнюю юрту, махнул рукой: давайте, мол, поскорей хребет ему ломайте!
Итак, сломав хребет оппозиции в буквальном смысле, Чингисхан продолжал консолидацию своего государства с дружественными народами. Так в 1209 году уйгуры переходят под его руку. "Индикут, владетель государства уйгуров, явился представиться двору [хана как вассал]" [12, с. 149] и тут же предложил нанести удар по государству Си С я, напав на тангутов с запада. И тогда же Чингисхан начинает с ними войну [22]22
Источники умалчивают об участии в той войне Субэдэя, но, скорее всего, можно утверждать, что он находился при особе Чингисхана, который лично возглавил тот поход.
[Закрыть], «происходит окончательная обкатка армии в боевых действиях против городов и сильной армии тангутов, сравнимой с чжурчжэньской… побежденные тангуты, признавшие сюзеренитет Чингисхана, вынуждены выполнять его приказы, направленные на превращение Си Ся во вспомогательную силу против Цзинь, – в итоге монголы заставили тангутов начать войну против чжурчжэней. С китайцами Южной Суп завязываются отношения на основе общей враждебности к Цзинь, что довершает окружение Цзинь войсками античжурчжэньской коалиции во главе с монголами» [6, с. 282].
Таким образом, к 1210–1211 годам Чингисхан "…контролировал огромную территорию, размером с современную Западную Европу, но с населением всего лишь около миллиона человек и, вероятно, 15–20 миллионов голов скота. Он был не просто ханом татар, кераитов или найманов. Он стал властителем всего Народа Войлочных Стен, и для этой новой империи он принял имя, произведенное от названия своего собственного племени. Он назвал ее Екэ Монгол Улус, Великий Народ Монголов" [16, с. 153–154].
Великий Каганат был создан.
Отныне, обеспечив тылы и фланги, Чингисхан обратил свой взор на юг, где за Великой Стеной в огромных городах во владениях Алтан-хана хранились несметные богатства. Оставалось их только взять! Субэдэй-багатур, получив в командование полнокровный тумен, так же, как и его собратья по "цеху", готов был повоевать и на юге.
Глава вторая. Тумен Субэдэй-багатура
«После появления крупных контингентов воинов из консолидированных Чингисханом монгольских племен регулярной становится самая крупная армейская единица – тумен, насчитывающий, как правило, десять тысяч воинов. Командиров туменов (темников), как и тысячников, назначал сам каан. Однако в особых случаях такое назначение мог сделать или наместник Чингисхана, или командир отдельного корпуса или армии (состоявшей из нескольких туменов), который мог набирать воинов в завоевываемых местностях. В последнем случае такое назначение было временным, на период автономных действий такого отдельного корпуса, и требовало утверждения кааном после его возвращения» [6, с. 160]. В практике Субэдэя как командующего ему приходилось формировать крупные воинские соединения из местного населения, более-менее лояльного завоевателям и в Закавказье, и в Дешт-и-Кипчак, и в Китае.
Перед началом войны с империей Цзинь в постоянном ведении и непосредственном подчинении у Субэдэя находился тумен воинов. Возглавлять такое крупное воинское подразделение было очень почетно, но и ответственность за оказанное доверие была велика. Итак, наш герой, наряду с другими «военачальниками, вышедшими из простых солдат… стал командовать армией… [23]23
В данном случае туменом.
[Закрыть]Командующему армией в знак его высокого положения давался большой барабан, в который разрешалось бить только по его приказу» [21, с. 35]. Кроме того, командиру тумена выдавался особый знак различия – пайцза. Пайцзы представляли из себя серебряные, позолоченные или золотые дощечки с изображением головы дракона или тигра и выдавались согласно званию или положению. У темника пайцза была «золотая с львиной головой. Кроме того у военачальников от тысячника и выше имелись личные знамена – бунчуки» [6, с. 166]. Субэдэй по распоряжению Чингисхана сам формировал то воинское подразделение, которым командовал. Вначале это была тысяча, ну а затем и тумен, который «собирался» по той же схеме.
Формирование начиналось всегда с десятки, которая «подбиралась строжайше. Это были либо люди одной юрты, либо, в крайнем случае, соседних. Они были родней, вместе росли, знали все друг о друге и чего можно ожидать от каждого в бою» [27, с. 37]. Представители различных племен, собранные в арбаны, будь то найманы, уйгуры, ойраты, кераиты и т. д., распределялись по разным сотням и тысячам, что исключало возможность ненужных контактов между недавними врагами монголов, и таким образом возможность заговоров или измены сводилась к минимуму. Впрочем, в войске Чингисхана, в котором за любую провинность можно было потерять голову, заговорщиков или недовольных не водилось. Ни один источник подобного не сообщает.

Монгольский военачальник [21, с. 23]
Но говоря о таком грозном боевом соединении, как монгольский тумен, нельзя забывать о главном, что состояло на вооружении этого самого тумена, а следовательно, и всего войска. Речь пойдет о монгольской лошади, без которой никакой империи от моря и до моря не было бы. Вот что по этому поводу пишет Лео де Хартог: «Военную мощь монголов составляли не только прекрасно обученные солдаты, но также лошади, которые были экипированы и никогда не подводили своих хозяев. Они были привычны к резко континентальному климату и особенностям окружающей среды. Приземистые и неказистые на вид животные с могучей шеей и толстой кожей благодаря своей силе и неприхотливости становились прекрасными помощниками, не требовавшими серьезного ухода во время кампаний. Эти небольшие лошади, вне всякого сомнения, способствовали блестящим победам монголов в тяжелой обстановке гористой местности и жестких погодных условиях. Лошади были неприхотливы. В условиях степи монголы могли иметь много лошадей» [4, с. 66]. Конечно же, в тумене Субэдэй-багатура с подвижным составом было все нормально, стоит только взглянуть на карту и проследить за маршрутами его походов и рейдов. Многие тысячи километров остались за его спиной, а крепконогие кони все несли и несли. История общения лошади и человека, насчитывающая несколько тысячелетий, подошла к своему определенному рубежу. Это была эра монгольского всадника, который знал цену тому, на ком он покоряет вселенную. Всего в состав тумена входило 30–40 тысяч голов лошадей и иных животных. На них передвигались, на них воевали ими питались. «Всякий раз, когда (татары) выступают в поход, каждый человек имеет несколько лошадей. [Он] едет на них поочередно, [сменяя их] каждый день. Поэтому лошади не изнуряются» [28, с. 69].
Выше было сказано, что без лошади никакой империи не было бы – не могла она возникнуть и без всадника. Без монгольского воина гении Чингисхана и Субэдэя так бы и сгинули в пучине истории, не окружай их эти сильные, выносливые, жестокие и в то же время абсолютно покорные воле своих господ люди, которым сама их природа, среда обитания и быт дали возможность перемещаться по суше, будь то степь, тайга или горы, в любое время года в любую точку той самой суши. «Монголы были идеально приспособлены для дальних путешествий – каждый воин вез с собой именно то, что было ему необходимо, и ничего больше. Кроме дэла, традиционного монгольского халата, они носили штаны, меховые шапки с ушами и сапоги с толстой подошвой. Кроме одежды, которая могла защитить воина в любую погоду, каждый из них вез с собой кремень, чтобы разводить костры, кожаные фляги для воды и молока, напильник для заточки оружия, аркан, чтобы ловить пленников или животных, иголку для починки одежды, нож, топорик и кожаный мешочек, в который все это паковалось. К тому же каждый арбан вез с собой небольшой шатер» [16, с. 185].
На момент вторжения в Северный Китай тумен состоял из двух видов экипированной кавалерии. Это «легковооруженные конники» и «тяжеловооруженная конница [24]24
Тяжеловооруженных конников к 2011 году в монгольском войске было гораздо меньше, чем легковооруженных.
[Закрыть]» [27, с. 43]. И те, и другие имели по два, а то и по три лука для стрельбы на разные дистанции и по разным целям: «лук для дальней стрельбы легкими стрелами, для стрельбы по воинам в доспехах, лук с тяжелыми стрелами с закаленными наконечниками» [27, с. 43]. В колчанах, которых у монгольских воинов было также два или три, находилось суммарно 60-100 стрел, плюс «тридцать железных наконечников в запасе» [27, с. 43].
Кроме того, на вооружении были дротики, пики, часто с крюком или петлей, топоры и палицы. Вообще, среди оружия ближнего боя у монголов зафиксированы все виды рубяще-колющего оружия: мечи, палаши, сабли. Из защитного вооружения они имели щиты, панцири-хуяги и ламиллярные доспехи [25]25
Пластинчатые доспехи.
[Закрыть][6, С. 185–189], а также шлемы разных модификаций и «кожаные доспехи для коня» [27, с. 44].
Если сравнивать вооружение монголов и их ближайших противников чжурчжэней, а также рекрутируемых последними китайцев, можно говорить об определенном паритете в ударном и рубяще-колющем вооружении, более слабом защитном доспехе у монголов и многократном превосходстве их в метательном вооружении. Из разных типов луков монголы выпускали прицельно также разноснаряженные стрелы на дистанцию в 150, 200, 300 и более метров [26]26
Сущсствует надпись на так называемом «Чингисовом камне», в которой говорится, что племянник Чингисхана Есункэ отличился в стрельбе из лука, пустив стрелу на расстояние 335 алдов – «маховых саженей», т. е. свыше 600 м (Храпачевский Р. П. Военная держава Чингисхана. М.: ACT: Люкс, 2005. С. 188).
[Закрыть]. Точность стрельбы была высочайшая, что говорит о том, что лучники и в редкие дни мирной жизни постоянно упражнялись.
Все монгольское войско или отдельно взятый тумен, который, в сущности, являлся копией всей армии, всегда были готовы к войне, никогда не прекращая учений и маневров. Причем маневры проводились и с чисто хозяйственными целями, например, массовые облавные охоты на диких животных, польза от которых была двойная: во-первых, отлаживание действий кавалеристов в условиях, максимально приближенных к боевым, во-вторых, мясо для пищи. По окончании подобного мероприятия происходил анализ действий тех или иных отрядов, их командиров или отдельных рядовых, как после войсковой операции.
Субэдэй-багатур был взыскательными и чрезвычайно строгим военачальником. За малейшее нарушение дисциплины, неверное исполнение приказа, необоснованное отступление он должен был карать своих подчиненных согласно законам, установленным Чингисханом [27]27
«Юань Ши» (изюань 3) сообщает о случае, когда одного рядового воина, нарушившего приказ, запрещающий грабежи, предали показательной казни за то, что он «отобрал у крестьянина луковицу…» (Золотая орда в источниках. Т. 3: Китайские и монгольские источники. М.: Наука, 2009).
[Закрыть]. Субэдэй был из тех высокопоставленных командиров, который мог залезть в походный кожаный мешок любого воина и проверить его содержимое: все ли необходимое имеется для похода. Если у кого-то не хватало… иглы, дело могло кончиться казнью перед строем, причем сам Субэдэй мог, рубанув наотмашь, развалить виноватого от плеча до пояса на страх другим и дисциплины ради. Жестокий век!
В феврале 1211 года тумен Субэдэя располагался в одном переходе от ставки Великого каана, по приказу которого он готов был кинуться в пекло будущей войны с чжурчжэнями, да и с кем угодно. Очень скоро не только центрально-азиатские племена и тангуты почувствуют страшную мощь сплоченных дисциплиной и преданностью хану туменов. Надвигалась мировая война, в которой монгольский всадник будет господствовать на просторах Евразии. А сам тумен можно будет назвать оружием массового поражения XIII века, если хотите, атомной бомбой той эпохи.