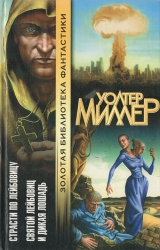
Текст книги "Страсти по Лейбовицу"
Автор книги: Уолтер Майкл Миллер-младший
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 23 страниц)
– Дорогой мой брат Френсис, – сказал аббат Аркос, – уверен ли ты, что видел старика?
– Уверен, – всхлипнул он, сдерживаясь изо всех сил.
Аббат Аркос оценивающе посмотрел на юношу, затем обошел вокруг стола и, хмыкнув, сел. Некоторое время он молча изучал клочок пергамента с буквами.
– Как ты думаешь, кто бы это мог быть? – рассеянно пробормотал аббат Аркос.
Брат Френсис открыл глаза, застилаемые пеленой слез.
– Что ж, ты убедил меня, мальчик, и я тебе не завидую. Тем хуже для тебя.
Френсис промолчал, вознеся про себя тихую молитву, чтобы необходимость убеждать в чем-либо своего суверена возникала не так часто. Повинуясь раздраженному жесту аббата, он привел в порядок свое одеяние.
– Можешь сесть, – сказал аббат, и в его голосе появились добродушные, если не любезные нотки.
Френсис подошел к указанному ему креслу, наклонился, собираясь сесть, но, моргнув, снова приподнялся.
– Если досточтимому отцу аббату все равно…
– Хорошо, можешь стоять. Я долго не задержу тебя. Можешь возвращаться к завершению своего обета, – он помолчал, заметив, как озарилось лицо послушника. – Только не радуйся! – фыркнул он. – На то место ты не вернешься. Тебе предстоит разделить отшельничество с братом Альфредом, и не думай приближаться к развалинам. Более того, я повелеваю тебе ни с кем не беседовать на эту тему, исключая, впрочем, твоего исповедника и меня. Бог знает, сколько неприятностей ты успел уже причинить. Знаешь ли, чему ты положил начало?
Брат Френсис покачал головой.
– Вчера было воскресенье, досточтимый отец, и мне никто не говорил, что я должен молчать, так что во время отдыха я только отвечал на вопросы братьев. Я думаю…
– Ну что ж, твои братья смогут состряпать весьма остроумные объяснения твоим рассказам. Знаешь ли ты, что тебе встретился самолично святой Лейбовиц?
Мгновенная бледность залила лицо брата Френсиса, но он снова отрицательно покачал головой.
– О нет, милорд аббат. Я уверен, что этого не могло быть, благословенный мученик не сделал бы такого.
– Не сделал бы чего?
– Он не стал бы никого преследовать, не стал бы пытаться ударить его посохом с гвоздем на конце.
Стараясь скрыть непроизвольную усмешку, аббат вытер пот. Он сделал вид, что задумался.
– Об этом я и не знал. Так, значит, это он тебя преследовал, не так ли? Думаю, так оно и было. Ты и об этом рассказывал своим друзьям-послушникам? Не так ли, а? Видишь ли, они-то не могут исключить такую возможность, что ты в самом деле встретился со святым. Я сомневаюсь, что найдется так уж много людей, на которых святой не мог бы замахнуться посохом, – он остановился, не в силах удержаться от смеха, увидев выражение лица послушника. – Ладно, сынок, но все же, что ты думаешь о том, кто бы это мог быть?
– Я думаю, что то был пилигрим, направлявшийся к нашим святыням, досточтимый отец.
– Святынь у нас еще нет, и ты не должен употреблять это выражение. И во всяком случае, его не было, точнее, не существовало. Он не входил в ворота нашей обители, разве что все стражники задремали. И к тому же уснул послушник, исполнявший те же обязанности, хотя он клянется, что бодрствовал весь день. Итак, что же ты на это можешь сказать?
– Если досточтимый отец аббат простит меня… я сам был на часах несколько раз.
– И?
– Ну, когда стоит жаркий день, и все в округе недвижимо, кроме стервятников, через несколько часов ты начинаешь следить только за ними.
– Ах вот как! И это в то время, когда ты должен не спускать глаз с дороги!
– И когда ты долго смотришь в небо, на тебя находит какое-то забытье… не спишь, но что-то вроде дремоты.
– Значит, вот чем ты занимаешься, пребывая на страже, – пробурчал аббат.
– Но не всегда. Я имею в виду, досточтимый отец, что я… Брат Дже… я хотел сказать, что брат, которого я пришел сменять, однажды был в таком состоянии. Он даже не знал, что пришло время ему сменяться. Он просто сидел на верхушке башни и с открытым ртом смотрел в небо. Он был в забытье.
– И когда ты придешь в себя от этого отупения, банда язычников из Юты уже ворвется в наши ворота, убьет несколько садовников, разрушит систему орошения, вытопчет наши овощи и разрушит стены, прежде чем мы спохватимся и сможем защитить себя. И нечего так смотреть на меня… ах да, я и забыл… ведь ты же родом из Юты, не так ли? Но, говоря откровенно, я сомневаюсь, чтобы стражник мог пропустить старика – вот в чем дело. Ты уверен, что он был самым обыкновенным стариком – и не больше? Он не был осенен ангельской благодатью? Может, на нем почивала печать святости?
Взор послушника обратился было в размышлениях на потолок, но вернулся к лицезрению своего суверена.
– Разве ангелы или святые отбрасывают тень?
– Ну… я думаю, что нет. Я думаю… хотя откуда мне знать! Он что – отбрасывал тень?
– М-м-м… это была такая маленькая тень, что ее трудно было заметить.
– Что?
– Был почти полдень.
– Болван! Мне-то ты не должен рассказывать, что он собой представлял. Я прекрасно знаю, что это было, раз ты его видел, – и аббат Аркос, подчеркивая каждое слово ударами по столу, сказал: – Я хочу знать… уверен ли ты… уверен ли полностью и безоговорочно, что это был самый обыкновенный старик?!
Весь ход разговора смущал брата Френсиса. Он считал, что во всем происшедшем трудно определить четкую линию, отделяющую естественное от сверхъестественного, скорее речь могла идти о некоей промежуточной, сумеречной зоне. Были явления, которые, вне всякого сомнения, имели отношение к естественному, натуральному миру, и были вещи и явления, которые столь же безоговорочно стоило отнести к миру сверхъестественному, а между этими крайностями была зона сомнения (его собственного), в которой такие простые субстанции, как земля, воздух, вода, огонь или пламя, могли переходить в нечто странное и непонятное, смущая и колебля все вокруг. Для брата Френсиса зона эта включала все, что он мог видеть и наблюдать, но что оставалось непонятным для него. И брат Френсис никогда не мог быть уверенным «полностью и безоговорочно», чего требовал от него аббат, что он в самом деле понимает все, что происходит вокруг. И сведя свои вопросы к этому требованию, аббат Аркос, сам того не желая, заставил пилигрима, которого встретил послушник, стать принадлежностью той самой сумеречной зоны, обрести тот облик, в котором послушник впервые увидел его, – черный штришок без рук и без ног, колеблющийся в жарком зеркале миража на дороге, рука с пищей, разорвавшая покров того мира, который послушник сплел вокруг себя. Если какое-то сверхчеловеческое существо решило бы избрать человеческий облик, как он бы мог проникнуть в его замыслы или заподозрить его в чем-то? Если бы такое существо не пожелало, чтобы его заподозрили в чем-то, неужели оно не позаботилось бы, чтобы отбрасывать тень, оставлять следы, есть хлеб и сыр? Неужели оно не стало бы жевать листок пряностей, плевать в ящерицу и забыло бы изобразить столь естественный для смертного поступок, как надеть сандалии, прежде чем ступать на раскаленный песок? Френсис не был готов оценивать ум или талантливость дьявольского или божественного озарения данного существа, а также уровень его актерских способностей, хотя и понимал, что кем бы оно ни было, ум его, родившийся в небесных высотах или в глубинах ада, будет исключителен.
– Итак, сын мой?
– Милорд аббат, вы же не предполагаете, что он мог быть…
– Я спрашиваю тебя не о предположениях. Я спрашиваю тебя о том, в чем ты должен быть совершенно уверен. Был ли он или не был обыкновенным существом из плоти и крови?
Вопрос испугал брата Френсиса. То, что он яростным выкриком сорвался с губ его суверена, делал вопрос еще более пугающим, хотя он ясно осознавал, что владыка задал его лишь потому, что жаждал обыкновенного ответа. Он жаждал его изо всех сил. Но если он так жаждал его, вопрос должен был нести в себе необыкновенную важность. И если вопрос был так важен для аббата, так тем более важен для брата Френсиса, который не мог позволить себе ошибиться.
– Я… я думаю, что он был существом из плоти и крови, досточтимый отец, но не совсем «обыкновенным». В какой-то мере он был сверхобыкновенным.
– В какой мере? – резко спросил аббат Аркос.
– Например… он мог легко сплюнуть. И, я думаю, он мог читать.
Аббат закрыл глаза и в приступе крайнего раздражения потер себе виски. Насколько проще было бы прямо и откровенно сказать мальчишке, что старик был не кем иным, как старым бродягой, и затем приказать ему не думать о нем вообще. Но мальчишка увидел, как важен для него вырвавшийся вопрос. Как любой достаточно умный правитель, аббат Аркос не приказывал попусту, когда видел возможность неповиновения и отсутствие достаточной силы для приведения в повиновение. Лучше поискать другой путь, чем приказывать впустую. Он задал вопрос, на который у него самого не было ответа, поскольку не видел старика, и таким образом он потерял право вырвать ответ.
– Убирайся, – наконец сказал он, не открывая глаз.
Глава 5
Несколько озадаченный всей этой суматохой в аббатстве, брат Френсис в тот же день вернулся в пустыню, дабы завершить свой обет, хотя его стремление к одиночеству претерпело определенный урон. Он ожидал, что найденные им реликвии будут встречены с восторгом, но пристальный интерес, который все испытывали к старику-страннику, удивил его. Френсис рассказывал о нем просто потому, что тот играл определенную роль во всем, что произошло – неважно, появился ли он там случайно, или же его привела рука Провидения – и в том, как он наткнулся на хранилище и его содержимое. Насколько Френсис мог понять, пилигрим должен был быть лишь небольшой составной частью всего круга событий, в центре которых были реликвии святого. Но его друзья, такие же послушники, проявили куда больше интереса к пилигриму, чем к реликвиям, и даже аббат дал ему понять это, спрашивая не столько о ящике и его содержимом, сколько о старике. Он задавал ему сотни вопросов, на которые Френсис мог отвечать только одно: «Я не заметил», или: «Я не обратил внимания», или: «Может, он так и сказал, но я не помню», а некоторые из вопросов вообще казались ему бессмысленными. Поэтому он то и дело вопрошал себя: «Должен ли я был это заметить? Неужели я настолько глуп и не заметил, что он делал? Но разве я не прислушивался к тому, что он говорил? Неужели я не обратил внимания на что-то важное, прежде чем потерял сознание?».
Погруженный в эти размышления, он брел в темноте, пока едва не наткнулся на волков, бродивших вокруг его нового укрытия, наполняя ночь воем. Он поймал себя на том, что даже в течение дня, который должен быть отведен для молитв и духовных упражнений, не может отделаться от навязчивых мыслей, и решил, когда отец Чероки во время своего следующего воскресного объезда посетит его, покаяться в этих своих прегрешениях.
«Ты не должен позволять, чтобы романтические образы, внушенные другими, мешали тебе; хватит тебе хлопот с твоими собственными, – сказал ему священник, предварительно отчитав за пренебрежение к молитвам и упражнениям. – Задавая тебе все эти вопросы, они исходят не из того, что могло быть правдой; они вопрошают разные небылицы, думая о том, что может потрясти воображение, даже если под этим кроется чистая правда. Но это же смешно! Могу сказать тебе, что досточтимый отец аббат приказал послушникам прекратить беседы на эту тему». И, помолчав, он с сокрушением добавил: «Неужели в старике не было ничего… ничего сверхъестественного?» – и в голосе его едва проскальзывала надежда на несовершившееся чудо.
Удивление не покидало и брата Френсиса. Если даже при этой встрече и промелькнуло нечто сверхъестественное, он не заметил этого. А теперь, придавленный грузом обрушившихся на него вопросов, был не в состоянии ответить, что он вообще видел. Обилие заданных ему вопросов заставило Френсиса прийти к выводу, что его ненаблюдательность заслуживает порицания. Он испытывал благодарность к пилигриму, давшему ему возможность найти убежище. Но он рассматривал все события отнюдь не с точки зрения своих собственных интересов, в соответствии с которыми его стремление заполучить хоть толику свидетельств своей правоты должно было дать понять, что его стремление посвятить все свои дни и труды благу родной обители идет из глубин души. Возможно, все происшедшее с ним имело гораздо большее значение, чем он мог себе представить…
Что ему остается делать? О возвращении домой, в Юту, не может быть и речи. Маленьким ребенком он был продан шаману, который натаскивал его, стараясь сделать из него своего слугу и помощника. Сбежав от шамана, он отрезал себе пути к возвращению, разве что он был готов встретиться с наводящим ужас «справедливым судом» племени. Он похитил собственность шамана (которой был он сам, Френсис). Несмотря на то, что воровство считается в штате Юта профессией, достойной уважения, на пойманного преступника возлагается грех чудовищного преступления, тем более что жертва воровства – маг племени. Не мог он себе представить и возвращения к примитивной жизни среди неграмотных пастухов после обучения в аббатстве.
Что еще? Континент был почти пустынен. Он припомнил карту во всю стену, висящую в библиотеке, на которой лишь кое-где были заштрихованные районы, где была если не цивилизация, то хоть какая-то форма законности, за которой по своим правилам следили суверенные племена, населяющие эти регионы. Остальная часть континента была почти пустынна, отданная во власть людей лесов и долин, которые хотя большей частью и вышли из состояния дикости, но представляли собой простые, слабо организованные сообщества кланов, живших охотой, собиранием плодов, примитивной агрокультурой, уровень рождаемости в которых был едва достаточен, чтобы пополнять число умирающих (не считая рождающихся монстров и уродов). Основное, чем занимались жители континента (кроме нескольких прибрежных районов), были охота, возделывание земли, сражения и колдовство; для любого юноши, решившего сделать карьеру, которая даст ему максимум влияния и здоровья, колдовство и шаманство были самым многообещающим занятием.
Знания, которые Френсис получил в аббатстве, не имели никакой практической ценности в темном и грубом мире повседневности, где о грамотности практически и не слышали, а молодой человек, умеющий читать, не представлял никакого интереса для своего племени, – если только в нем не проявлялись какие-то особые таланты по обработке металла, нырянию в глубину или умению безнаказанно воровать имущество у соседнего племени. Даже в разбросанных тут и там графствах, где существовало какое-то подобие гражданского правопорядка, тот факт, что Френсис умел читать и писать, ничего не значил, если бы ему пришлось влачить существование вне стен Церкви. Правда, иной раз кичливые бароны нанимали одного-другого писца, но случаи эти были настолько редкими, что их не стоило принимать во внимание, тем более что должности эти, как правило, доставались монастырским законникам.
Единственную потребность в писцах и секретарях испытывала сама Церковь, чья тонкая иерархическая сеть была раскидана по всему континенту (порой достигая и самых отдаленных его границ, хотя епископы той стороны практически были самостоятельными правителями, чувствовавшими на себе Святой Взор Церкви лишь в теории и никогда на практике, ибо пространства редко пересекаемого океана отделяли их от Нового Рима надежнее, чем отлучение от Церкви по обвинению в ереси), и ее существование поддерживалось лишь сетью коммуникаций. Порой единственным смыслом существования Церкви, без всякого на то ее желания и намерения, становилась возможность передачи новостей через весь континент – от места к месту. Если на северо-востоке начинала свирепствовать чума, вести об этом быстро доходили до юго-запада, как и слухи и сплетни, что имели своим источником Новый Рим, рассказываемые и перерассказываемые посланцами Церкви.
Если вторжение орд кочевников угрожало с северо-востока какому-нибудь христианскому епископству, в самом скором времени со всех кафедр к югу и западу читалась энциклика, предупреждающая об угрозе и рассылающая апостольское благословение: «Доблестным людям, где бы они ни жили, способным носить оружие, готовым с благочестием в сердце двинуться в дорогу, с тем чтобы присягнуть на верность Нашему излюбленному сыну имярек, законному правителю округи и предоставить себя в его распоряжение на то время, которое он сочтет необходимым на создание войска для защиты христиан от орд язычников, чья безжалостная жестокость известна всем, и кто к Нашей величайшей печали пытает, мучает и убивает тех пастырей, которых Мы Самолично послали им со Словом, чтобы они могли кроткими агнцами войти в Наше Стадо, для паствы которой Мы на Земле являемся Пастухом. Мы никогда не теряем надежду в своих непрестанных молитвах, что этим диким детям тьмы откроется Свет и они войдут в Наше царство в мире и покое (ибо невозможно и помыслить, чтобы мирные странники покинули столь обширные и пустынные земли: о нет, те, кто придут с миром, будут встречены с благоволением, так как они пришли в объятия Зримой Церкви и ее Божественного Основателя, и, если они углубятся в суть Естественного Закона, который вписан в сердца и души всех людей, духом своим они обратятся к Христу, даже не зная доподлинного Его Имени), но пока Мы молимся о мире, углубленно размышляем о внутренней сущности Христианства и увещеваем язычников, Мы должны, опоясавшись мечами, готовиться к защите Северо-Восточных земель, где уже собираются орды язычников и вот-вот вспыхнут стычки с ними, и на каждом из вас, возлюбленные дети мои, кто может носить оружие и в состоянии добраться до Северо-Запада, лежит обязанность присоединиться к силам, собирающимся, дабы защитить свои земли, дома и свои храмы. И Мы провозглашаем и тем самым простираем над вами знак Нашего особого благоволения, Наше Апостольское Благословение».
Френсис быстро подумал, что, если ему не удастся получить посвящение в ордене, он может отправиться на северо-запад. Но хотя он был достаточно силен и ловко управлялся с мечом и копьем, все же он был невысок ростом и легок во плоти, в то время когда язычники, по рассказам, достигали девяти футов роста. Он не мог клятвенно поручиться, что эти слухи соответствуют истине, но не видел и причин, почему они должны оказаться ложными.
И если ему не удастся посвятить себя ордену, он не видел иного смысла в своей жизни – смысла, о котором стоило бы говорить – кроме как умереть в битве.
Его уверенность в правильности своего выбора не поколебалась, хотя он не мог не обратить внимания на сухость легкого поклона, дарованного ему аббатом. Мысли эти навеяли на него тоску, и он не смог побороть искушение, в силу которого отец Чероки за шесть дней до конца поста услышал от Френсиса (или, точнее, от выжженной и обугленной оболочки, в которой еле теплилась душа Френсиса) произнесенные хриплым шепотом несколько коротких слов, заключавших в себе самое лаконичное признание, которое Френсис был в силах сделать. Отец Чероки услышал: «Дайте мне благословение, отец, я съел ящерицу».
Приор Чероки, который в течение долгих лет был исповедником торопливых послушников и так же, как могильщики из преданий, считал, что все суета сует, принял это признание не моргнув глазом и осведомился с прекрасной лаконичностью: «Был ли то день воздержания и была ли она специально приготовлена?».
Одиночество во время святой недели было не так томительно, как прочие недели Великого поста, хотя особенного внимания послушникам и не уделялось, но из-за стен аббатства доносились звуки литургии Страдания Христа, которые до слез трогали бодрствующих отшельников. Дважды они были удостоены причастия, и в среду сам аббат, сопровождаемый Чероки и тринадцатью монахами, посетил их, чтобы дать свое благословение каждому из отшельников. Облачение аббата было скрыто под рясой с капюшоном, и когда он склонял колени, то производил впечатление льва, возлежащего рядом с ягненком, экономными движениями – ни одного лишнего – он омывал ноги тех, кого удостаивал своим посещением, легко целовал их в то время, пока все остальные тянули антифон.
В Святую пятницу крестный ход, воздев над собой задрапированное распятие, делал остановку у обиталища каждого отшельника, где медленно поднималось облачение изображения, дюйм за дюймом, и отшельники приникали к его изножью, пока монахи скандировали:
«Народ мой, что сделаю я для тебя? Чувствуешь ли ты скорбь мою? Все силы души моей отданы во благо твое, ты же распял меня на кресте…»
И наконец наступила Святая суббота.
Изголодавшиеся монахи с нетерпением ждали ее. Френсис стал на тридцать фунтов легче и значительно ослабел. Когда его довели до кельи, он пошатнулся и, не дойдя до лежанки, упал. Братья подняли его, умыли и побрили, умаслили его кожу – а Френсис в блаженном забытье бормотал что-то о бродяге с препоясанными чреслами, время от времени обращаясь к нему как к ангелу или святому, а временами вплетая имя Лейбовица и пытаясь извиняться.
Его собратья, которым аббат строго-настрого запретил говорить на эту тему, просто обменивались многозначительными взглядами или загадочно кивали друг другу.
Известия достигли аббата.
– Доставьте его ко мне, – пробурчал он в раструб переговорной трубки, как только ему стало известно, что Френсис уже может ходить.
– Ты подтверждаешь, что говорил это? – рявкнул аббат.
– Я не помню, чтобы я говорил, милорд аббат, – сказал послушник, не спуская глаз с жезла аббата. – Должно быть, я бредил.
– Допустим, что бредил, – а теперь ты снова будешь говорить то же самое?
– О пилигриме, который показался мне святым? О нет, магистер меус!
– Я хочу услышать, что ты отказываешься от своих слов.
– Я не думаю, что пилигрим в самом деле был святым.
– Почему бы тебе не сказать прямо: он не был!
– Ну, так как мне никогда не доводилось видеть благословенного Лейбовица своими глазами, я не могу…
– Хватит! – приказал аббат. – Более чем достаточно! И пройдет много, очень много времени, прежде чем мне захочется снова увидеть или услышать тебя! Вон! И еще одно – НЕ ПЫТАЙСЯ принести покаяние на исповеди в этом году! Отпущения грехов ты не получишь!
Френсис испытал ощущение, словно его ударили бревном в живот.








