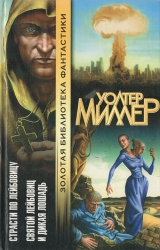
Текст книги "Страсти по Лейбовицу"
Автор книги: Уолтер Майкл Миллер-младший
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 23 страниц)
– Мой.
– Он задерживает вас как пленницу?
– Нет.
– Что бы вы хотели делать, мэм?
Она помолчала.
– Вернуться в машину, – подсказал ей Зерчи.
– Придержите язык, мистер! – рявкнул офицер. – Леди, что с ребенком?
– Мы обе выходим здесь, – сказала она.
Зерчи, захлопнув дверцу, попытался стронуть машину, но рука офицера нырнула в открытое окно, нажала кнопку «Отмена» и вырвала ключ из гнезда зажигания.
– Попытка похищения? – крикнул ему один из офицеров.
– Возможно, – сказал тот и открыл дверцу. – А теперь убери лапы от ребенка!
– Чтобы ее здесь убили? – спросил аббат. – Вам придется применить силу.
– Фел, зайди-ка с другой стороны.
– Нет!
– А теперь перехвати-ка ему горло дубинкой. Вот так, дави! Все в порядке, леди – вот ваш ребенок. Хотя я вижу, что вы его не удержите, особенно с вашими костылями. Корс? Где Корс? Эй, док!
Аббат Зерчи увидел знакомое лицо, пробивавшееся к нему сквозь окружающую толпу.
– Возьмите ребенка, пока мы держим этого психа, ясно?
Доктор и священник молча поглядели друг на друга, когда ребенка вытащили из машины. Офицер отпустил руки аббата. Один из полицейских, обернувшись, увидел, что окружен послушниками, высоко вздымавшими вверх свои лозунги. Он решил, что плакаты могут быть потенциальным оружием, и рука его потянулась к пистолету.
– Назад! – рявкнул он.
Удивленные послушники повиновались.
– Вылезай!
Аббат вышел из машины и оказался лицом к лицу с толстеньким судейским чиновником. Тот хлопнул его по руке сложенным листом бумаги.
– Вот ордер на ваше задержание, выданный судом. Я должен зачитать его и объяснить вам. Вот вам копия. Офицеры засвидетельствуют, что вы препятствовали вашему задержанию, на что вы не имеете права…
– Давайте его сюда.
– Вот это правильно. Вы будете привлечены к суду по следующему обвинению: «Принимая во внимание, что истец ссылается на серьезное нарушение общественного порядка…»
– Бросьте лозунги вон в ту кучу пепла, – дал указание послушникам Зерчи. – Потом залезайте в машину и ждите, – не обращая внимания на произносимые слова, он, сопровождаемый по пятам судебным исполнителем, продолжавшим монотонно зачитывать текст, подошел к офицеру. – Я арестован?
– Мы подумаем об этом.
– «…и он должен предстать перед судом в назначенный день, дабы дать объяснения по поводу указания…»
– В чем меня обвиняют?
– Если потребуется, мы представим четыре или пять обвинений.
Из ворот показался вернувшийся Корс. Женщину с ребенком уже проводили на территорию лагеря. На озабоченном лице доктора читалась тень вины.
– Послушайте, отче, – сказал он. – Я знаю, как вы ко всему этому относитесь, но…
Кулак аббата Зерчи с размаха врезался в лицо врача. Корс потерял равновесие и тяжело шлепнулся на асфальт шоссе. На лице его было неподдельное изумление. Он несколько раз шмыгнул носом. Внезапно из него потекла кровь. Полицейский заломил руки священнику.
– Подведите его к машине, – сказал один из офицеров.
Автомобиль, к которому его подтащили, был не его собственным, а тяжелым бронированным полицейским лимузином.
– Судье ты не очень понравишься, – мрачно пообещал ему полицейский. – А теперь стой тут и не дрыгайся. Одно движение – и на тебя наденут наручники.
Аббат и полицейский стояли, дожидаясь у лимузина, пока судебный исполнитель, врач и другой офицер полиции совещались на обочине шоссе. Корс прижимал к носу платок.
Беседовали они минут пять. Преисполненный стыда, Зерчи прижался лбом к гладкому металлу и попытался погрузиться в молитву. Его совершенно не интересовало, что они могут с ним сделать. Он думал только о ребенке и о молодой женщине. Он видел, что она уже была готова передумать, и ей был нужен только приказ: «Я, священнослужитель Божий, повелеваю тебе!..», которому она с благодарностью подчинилась бы – если бы только они не заставили его остановиться, где она увидела, как «священнослужитель Божий» стал нарушителем целой кучи законов, сцепившись с «Королевскими автоинспекторами». Никогда еще Царство Божье не казалось ему столь далеким.
– Ну ладно, мистер. Ну и повезло, скажу я вам.
Зерчи взглянул на него.
– Что?
– Доктор Корс отказывается подавать на вас жалобу. Он сказал, что сам разберется. За что вы его ударили?
– Спросите у него.
– Мы спрашивали. Я пытаюсь решить, то ли взять вас с собой, то ли влепить вам штраф. Судейский говорит, что вас в округе хорошо знают. Чем вы занимаетесь?
Зерчи покраснел.
– Так ли это для вас важно? – он притронулся к нагрудному кресту.
– До тех пор пока тип с таким украшением не бьет кого-то по носу, меня это совершенно не интересует. Чем вы занимаетесь?
Зерчи подавил последний приступ гордости.
– Я аббат братства святого Лейбовица в монастыре, расположенном ниже по дороге.
– И это дает вам право нападать на людей?
– Я прошу прощения. Если доктор Корс согласен выслушать меня, я готов извиниться перед ним. Если вы вручите мне повестку в суд, я обязуюсь явиться.
– Фел?
– Тюрьма забита «ди-пи», перемещенными лицами.
– Послушайте, если мы предадим забвению все, что здесь было, обещаете ли держаться подальше от этого места и не подпускать к нему свою команду?
– Да.
– Отлично. Езжайте. Но если вы позволите себе хотя бы сплюнуть, проезжая мимо, этого будет достаточно.
– Благодарю вас.
Когда они двинулись с места, где-то в глубине парка заиграл орган. Обернувшись, Зерчи увидел, как стала вращаться карусель. Офицер помял ладонями свое лицо, хлопнул судейского по спине, и, разойдясь по своим машинам, они тоже уехали. И хотя за спиной его сидели пять послушников, Зерчи чувствовал, что он остался наедине со своим стыдом.
Глава 29
– Убежден, что тебя предупреждали о недопустимости таких вспышек гнева? – допрашивал отец Лехи кающегося грешника.
– Да, отче.
– Ты признаешь, что в определенном смысле у тебя было намерение убить обидчика?
– Намерения убивать у меня не было.
– Ты пытаешься найти себе оправдание? – спросил исповедник.
– Нет, отче. У меня не было намерения причинить вред. Я обвиняю себя в том, что и в мыслях, и в деяниях нарушил пятую заповедь, что согрешил против справедливости и милосердия. И навлек бесчестие и неприятности на мою обитель.
– Ты признаешь, что нарушил обет никогда не прибегать к насилию?
– Да, отче. И глубоко раскаиваюсь в этом.
– Единственное смягчающее обстоятельство заключается в том, что, увидев, как красная волна гнева захлестывает тебя, ты отступил. Часто ли ты позволяешь себе так распускаться?
Допрос продолжался, и владыка аббатства стоял на коленях перед приором, который судьей возвышался над своим учителем.
– Хорошо, – сказал отец Лехи. – Теперь что касается наказания, ты должен дать обет…
Зерчи приехал к часовне через полтора часа, но миссис Грейлс все еще ждала его. Она стояла в исповедальне на коленях у кресла с высокой спинкой и, казалось, дремала. Растерянный и усталый, аббат надеялся, что уже не застанет ее. Он должен был сам принести покаяние, прежде чем сможет выслушать ее. Он преклонил колени перед алтарем и минут двадцать читал покаянные молитвы, которые отец Лехи возложил на него в виде епитимьи, но когда он вернулся в исповедальню, миссис Грейлс по-прежнему была там. Он дважды обратился к ней, прежде чем она услышала и, поднимаясь с колен, слегка споткнулась. Оправившись, она прикоснулась к лицу Рашель, погладив скрюченными пальцами ее сомкнутые ресницы и губы.
– Что-то не в порядке, дочь моя? – спросил он.
Она подняла голову к высоким проемам окон. Взгляд ее блуждал по сводчатому потолку часовни.
– Ох, отче, – прошептала она. – Я чувствую приближение Великого Ужаса. Великий Ужас близок, он совсем рядом с нами. Мне нужно принести покаяние, отче, – и кое-что еще, если будет на то ваша воля.
– Что еще, миссис Грейлс?
Она прошептала еле слышно в сложенные ладони.
– Мне нужно дать Ему отпущение грехов.
Священник отшатнулся.
– Кому? Я не понимаю.
– Отпущение грехов… тому, кто сделал меня такой, какая я есть, – прохныкала она. Но затем губы ее растянулись в медленной улыбке. – Я… я никогда не прощала его…
– Простить Бога? Как ты можешь?… Он же… Он – Справедливость, Он – Любовь. Как ты можешь говорить?
Ее глаза умоляюще обратились к священнику.
– Неужели старая помидорница не может чуть-чуть простить Его за ту Справедливость, что Он даровал ей? Прежде чем я покаюсь перед Ним?
Дом Зерчи сглотнул комок в горле. У ног его простиралась двухголовая тень. Ее очертания напоминали об ужасе той Справедливости, что досталась этой женщине. Он не мог заставить себя обвинить ее в том, что она прибегла к слову «простить». На ее простом языке это означало, что она имеет право простить и справедливость и несправедливость, и Человек имеет право простить Бога, так же как Бог прощает Человека. «Да будет так, и имей с ней сам, Господи, дело», – подумал он, накидывая епитрахиль.
Прежде чем войти в исповедальню, она перекрестилась перед алтарем, и он заметил, что во время крестного знамения пальцы ее прикоснулись и ко лбу Рашель. Опустив тяжелую занавесь, он прошел в свою половину кабинки и шепнул сквозь решетку:
– Чего ты взыскуешь, дочь моя?
– Благословите меня, отче, ибо я грешна…
Говорила она, запинаясь, и то и дело останавливаясь. Он не мог видеть ее в сумраке, который царил за решеткой. Оттуда доносился лишь низкий непрестанный шепот женщины. Все то же, все то же, вечно все то же, и даже двухголовая женщина не может найти путей сопротивления злу, кроме как бессмысленно подражать тому существу, на которого она должна была быть похожа. По-прежнему мучаясь стыдом за свое поведение по отношению к женщине и девочке, доктору и полицейскому, он почувствовал, что ему трудно сосредоточиться. Руки по-прежнему дрожали, пока он слушал исповедь. За решеткой исповедальни было слышно глухое непрерывное бормотание, напоминавшее далекий рокот. Гвозди пронзают ладони и глубоко входят в древесину. Словно воплощение Христа, он почувствовал невыносимую тяжесть той ноши, которую Он в тот же момент перенял на себя… Дело касалось ее сожителя. Темное это было дело, темное и тайное, которое, завернутое в старую газету, было где-то тайно схоронено в ночи. Он плохо понимал, что она ему говорит, чувствуя лишь, как в нем растет ужас.
– Если ты хочешь сказать мне, что повинна в аборте, – прошептал он, – должен сообщить, что отпущение таких грехов дает только епископ, и я не могу…
Он остановился. Издалека донесся слабый раскат грома, и он услышал мерный рокот ракет, идущих к цели.
– Великий Ужас! Великий Ужас! – завопила старуха.
Волосы у него на голове зашевелились.
– Быстрее! Кайся! Возлагаю на тебя десять «Аве, Мария», десять «Отче наш». Позже повторишь исповедь, а пока принесешь покаяние.
Он слышал, как она что-то бормотала с той стороны решетки. Быстро, на одном дыхании он дал ей отпущение грехов: «Ныне отпущаеши во имя Господа нашего Иисуса Христа…».
Прежде чем он завершил формулу отпущения грехов, сквозь толстую ткань занавеси исповедальни проникло сияние. С каждой долей секунды оно слепило все больше и больше, пока внутренность кабинки не озарилась ослепительным полуденным светом. Занавес задымился.
– Ждать! – простонал он. – Ждать, пока все не прекратится!
– Ждать, ждать, ждать, пока все не прекратится, – эхом отозвался странный мягкий голос из-за решетки. Это не был голос миссис Грейлс.
– Миссис Грейлс? Миссис Грейлс?
Она ответила ему еле слышным сонным бормотанием:
– Я никогда не думала… никогда не думала… никогда не любила… любила… – голос угас, но это был не тот голос, который он слышал несколько мгновений назад.
– А теперь бежим – быстрее!
Не оглядываясь, дабы убедиться, что она следует за ним, он выскочил из исповедальни и побежал по проходу нефа к алтарю. Свет чуть померк, но он по-прежнему жаром обжигал кожу. Сколько секунд осталось? Церковь была полна клубов дыма.
Ворвавшись в святилище, он перепрыгнул на верхнюю ступеньку, торопливо перекрестился и подбежал к алтарю. Дрожащими руками он схватил хранилище тела Христова, снова перекрестился перед Престолом и с телом Бога своего выскочил наружу.
За его спиной рухнуло здание.
Когда он пришел в себя, то не увидел ничего, кроме сплошной пыли. От пояса и ниже он был придавлен к земле. Он лежал, уткнувшись лицом в пыль и грязь, пытаясь пошевелиться. Одна рука была свободна, а вторая придавлена тем же грузом, который обрушился на него. В свободной руке он по-прежнему держал дарохранительницу, но она ударилась при падении, и крышка ее слетела, высыпав несколько облаток.
«Он вышвырнут взрывом из церкви», – решил аббат. Лежа на земле, он видел остатки розовых кустов, заваленных обломками камня. На ветке остался один нетронутый бутон – Армянская Оранжевая, заметил он. Листья и почки были опалены.
Высоко в небе был слышен рев моторов, и пыльный сумрак озарился синей вспышкой. Сначала боли он не чувствовал. Он попытался вывернуть шею, чтобы взглянуть на сидящего на нем бегемота, но тут же ощутил резкую боль. Он тихо вскрикнул. Больше смотреть назад он не осмеливался. Пять тонн камня подмяли его под себя. Точнее все, что оставалось от него ниже пояса.
Он начал собирать облатки, торопливо двигая свободной рукой. Каждую из них он заботливо отряхивал от земли. Порывы ветра отбросили несколько частиц тела Христова. «Во всяком случае, Господи, я старался, – подумал он. – Кому нужен этот последний обряд? Кто причастит умирающего? Им придется ползти ко мне, если это потребуется. Но остался ли кто-либо в живых?».
Сквозь чудовищный грохот до него не доносилось ни одного голоса.
Кровь стала заливать ему глаза. Он вытер ее предплечьем, чтобы не касаться облаток окровавленными пальцами. «Это не та кровь, Господи, она моя, а не Твоя».
Большинство разбросанной плоти господней ему удалось собрать в сосуд, но до нескольких облаток он так и не смог дотянуться. Он было напряг тело, но снова потерял сознание.
– ИисусМарияИосиф! На помощь!
Он разобрал, как ему кто-то отвечает, и в реве, идущем с неба, он едва услышал в отдалении трудно различимый голос. То был странный незнакомый мягкий голос, который он слышал в исповедальне, и снова он повторил его слова:
– иисусмарияиосиф на помощь.
– Кто это? – вскрикнул он.
Несколько раз он обращался с призывом, но ничего не услышал. Пыль начала оседать. Он закрыл дарохранительницу крышкой, чтобы пыль не попала на плоть Христову. И какое-то время просто лежал с закрытыми глазами.
Одна из тревог, которая была связана с саном священника, заключалась в том, что ты неизменно должен был следовать советам, которые давал другим. «“Природа не требует ничего из того, что не мог бы вынести сам”. Эти слова стоиков я и должен был бы поведать ей перед тем, как передать ей божьи указания», – подумал он.
Боль почти стихла, но начался яростный зуд в той части тела, которая ему больше не подчинялась. Он попытался почесать ноющее место, но пальцы наткнулись на голую поверхность камня. Несколько мгновений он скреб ее, но потом, содрогнувшись, отвел руку. Зуд сводил его с ума. Разможженные и изуродованные нервные окончания посылали в мозг дурацкие приказы. Он чувствовал унизительность такого положения.
«Итак, доктор Корс, будете ли вы утверждать, что боль – куда более страшное зло по сравнению с зудом?»
Он улыбнулся при этой мысли. Смешок заставил его погрузиться в черное забытье. Выкарабкиваясь из него, он услышал, как кто-то стонет. Внезапно священник понял, что стонет он сам. Зерчи внезапно испугался. Зуд заставлял его испытывать муки агонии, но стон был продиктован неподдельным ужасом, а не болью. От страдания у него даже перехватывало горло. Агония не прекращалась, но он мог терпеть ее. Ужас поднимался к нему из черных безоглядных глубин. Тьма наваливалась на него, терзала, жадно ждала его – огромная темная пасть, разъятая в ожидании его души. С болью он еще мог бороться, но не с этим Темным Ужасом. И стоит только тьме навалиться на него, он уже будет не в состоянии что-то делать.
Устыдившись своих страхов, он попытался обратиться к молитве, но слова ее звучали скорее как извинение, а не как мольба, словно уже отзвучала на земле последняя молитва и умолкли звуки последнего гимна. Страх не отпускал его. За что? Он попытался понять, что случилось. «Ты же видел, как умирают люди, Джет. Ты видел многих на смертном одре. Все очень просто. Они постепенно уходят, а потом небольшая конвульсия – и все кончено. Эта чернильная Тьма – всего лишь провал между «здесь» и «там», непроглядный Стикс между Господом и Человеком. Слушай, Джет, а ты в самом деле веришь, что на том берегу есть Что-то? Тогда почему ты так трясешься?»
Строфа из псалма «День Гнева» всплыла у него в памяти, и он принялся повторять ее: «Что я, нищ и наг, могу поведать? К кому могу припасть я за защитой и опорой, когда в простом человеке еле теплится жизнь?».
Почему «еле теплится жизнь?». Ведь Он же не отнимет от себя простого человека. Тогда почему же тебя бьет дрожь?
«Нет, доктор Корс, зло, с которым вы боретесь, – не страдания, а слепой страх ожидания страданий. И когда вы всецело поймете это, ваше страстное желание дать миру безопасность, чтобы воцарился рай земной, и приведет вас к пониманию “корней зла”, доктор Корс. Уменьшить страдания мира и как можно надежнее обеспечить его спокойствие – вот достойная цель любого общества и правителя. Но этот искаженный, изуродованный мир пришел к другому концу. Ясно, что стремясь к высоким целям, он добился предела страданий и беззащитности мира.
Все беды мира проходят через меня. Прими их на себя, дорогой мой Корс. Нет “всемирного зла”, кроме того, что воплощено в Человеке, – и отец лжи лишь чуть содействует ему. Проклиная всех, проклиная даже Господа. – О, только не меня. Доктор Корс? Единственное зло, ныне оставшееся в мире, заключается в том, что мира больше не существует». Почему его терзает такая боль?
Он снова попытался рассмеяться, но это ничтожное усилие обрушило его в чернильную тьму.
– Я суть Адам и Христос во мне, я суть Человек, я суть Адам и Христос во мне, – громко сказал он. – Знаешь что, Пат?.. они были… были вместе… и лучше быть распятым, но не оставаться в одиночестве… и когда они истекали кровью… они смотрели друг на друга. Потому что… потому что так оно и есть. Потому что Сатана жаждет, чтобы Человек нес в себе свой ад. Я имею в виду, что Сатана жаждет претворить ад в образе Человека. Потому что Адам… И все же Христос… Но я все же… Слушай, Пат…
На этот раз ему потребовалось больше времени, чтобы выкарабкаться из Тьмы, но он должен успеть все растолковать Пату прежде, чем снова свалится туда.
– Слушай, Пат, все потому, что… потому что я должен был сказать о ее ребенке… вот почему. Так я думаю. Я думаю, что Иисус никогда бы не потребовал сделать такую вещь человеку, если бы сам не был готов пойти на такое. Почему я не смог остановить ее, Пат?
Он моргнул несколько раз. Пат исчез. Из рассеивающейся тьмы перед ним снова предстал мир. Как-то ему стало теперь ясно, чего он боялся. Прежде чем Тьма сомкнется над ним навсегда, он еще должен кое-что сделать. «Боже милостивый, позволь мне успеть». Он боялся, что умрет раньше, чем на долю его выпадет столько же страданий, сколько достанется ребенку, который даже не понимает их, ребенку, которого он старался спасти для дальнейших мук – нет, не ради них, а несмотря на них. Он приказывал матери именем Христа. Он не ошибался. Но ныне он боялся скользнуть опять в темноту до того, как примет на себя столько страданий, сколько Бог соизволит ему послать.
«Ради ребенка и его матери. Я должен принять то, что будет мне ниспослано».
Решение это, казалось, уменьшило боль. Какое-то время он лежал неподвижно, а потом не без любопытства снова посмотрел на груду камня, завалившую его. Здесь, пожалуй, больше, чем пять тонн. На нем все восемнадцать столетий. Взрыв разрушил гробницы, потому что он заметил среди камней несколько костей. Он с усилием вытянул свободную руку и наконец получил возможность дотянуться до находки. Он положил ее на землю рядом с дарохранительницей. Челюсть черепа исчезла, но сам он был цел, если не считать дырки во лбу, откуда торчали остатки полусгнившего древка. Они напоминали остатки стрелы. Череп был очень древен.
– Брат, – шепнул он, ибо никто, кроме монахов ордена, не находил себе успокоения в этих гробницах.
«Чем ты служила им, Кость? Учила их читать и писать? Помогала им вставать на ноги, несла им слово Христово, помогала восстанавливать культуру? Не забывала ли ты их предупреждать, что Эдем недостижим? Конечно, они это слышали от тебя. Благословляю тебя, Кость, – подумал он и пальцем начертил крест у нее на лбу. – За все свои страдания, ты, брат, заплатил стрелой между глаз. Ибо это больше, чем пять тонн камня и восемнадцать столетий за моей спиной. Я думаю, что за этим стоит два миллиона лет – с тех пор как на земле появился Человек одушевленный».
Он снова услышал голос – тихий, отдающийся эхом голос, который недавно отвечал ему. На этот раз он пел что-то вроде детской песенки: «Ла, ла, ла, ла-ла-ла…».
Хотя это был тот же самый голос, который он слышал в исповедальне, он, конечно же, принадлежал не миссис Грейлс. Она простила Бога и поспешила к себе домой, если успела вовремя выбраться из часовни. «И прошу тебя, Господи, прости ее отступничество. Он не был так уж уверен, что имел дело с отступничеством. Слушай, Старый Череп, а не поведать ли мне это Корсу? Слушайте, дорогой мой Корс, а почему бы вам не простить Бога за допускаемые им страдания? Ведь перед ними и человеческое мужество, и храбрость, и благородство, и самопожертвование – все становится бесполезным. Да и кроме того, в таком случае вы останетесь без работы, Корс, если он прислушается к вам.
Может, об этом мы и забываем, Череп? Бомбы и вспышки гнева и ярости царят в мире, чем все дальше уходим мы от полузабытого рая. И ярость эта направлена против Бога. Слушай, Человече, ты должен отбросить ее – «я хотела бы простить Бога», как она говорила, и пусть это желание простить придет раньше всего, даже раньше любви.
Иначе останутся только бомбы и ненависть. Они не забывают ничего».
Он забылся во сне. Это был настоящий сон, а не уродливое беспамятство Темноты. Пошел дождь, прибивая пыль к земле. Проснувшись и оторвав подбородок от земли, он обнаружил, что не один. С похоронной торжественностью на куче щебня сидели уже трое и смотрели на него. Он пошевелился. Они распростерли черные полотнища крыльев и нервно зашипели. Он бросил в них обломок. Двое взлетели и стали кругами ходить над ним, а третий остался сидеть, переминаясь в странном танце с ноги на ногу и серьезно глядя на него. Сумрачная и уродливая птица, но в ней нет ничего от Другой Тьмы.
– Обед еще не совсем готов, брат мой птица, – раздраженно сказал он. – Тебе придется подождать.
«Много мяса тебе не достанется, – отметил он, – если ты сама раньше не пойдешь на пищу своим собратьям». Оперение ее было сильно опалено вспышкой, один глаз заплыл и не открывался. Птица нахохлилась под дождем, каждая капля которого, как понял аббат, несла в себе смерть.
– ла ла ла ла-ла-ла подожди подожди пока умрет ла…
Снова возник тот же голос. Зерчи испугался, что у него начинаются галлюцинации. Но птица тоже услышала его. Она подняла голову и стала всматриваться в то, что было вне поля зрения Зерчи. Наконец она гневно зашипела и поднялась в воздух.
– Помогите! – слабым голосом крикнул он.
– Помогите, – попугаичьим эхом отозвался странный голос.
Обойдя кучу щебня, перед глазами его показалась двухголовая женщина. Остановившись, она посмотрела вниз на распростертого Зерчи.
– Слава Богу! Миссис Грейлс! Посмотрите, сможете ли вы найти отца Лехи…
– слава богу миссис грейлс посмотрите сможете ли вы…
Он проморгался от крови, заливавшей ему глаза, и внимательно присмотрелся к ней.
– Рашель, – выдохнул он.
– рашель, – ответило существо.
Она опустилась на колени рядом с ним и присела на пятки. Глядя на него холодными зелеными глазами, она улыбнулась невинной улыбкой. Глаза ее были полны тревоги, удивления, любопытства, может, чем-то еще – но было ясно, что она не понимала его страданий. В глазах ее было нечто, от чего он несколько секунд не мог отвести от нее взгляда. Но вдруг он заметил, что голова миссис Грейлс бессильно свесилась на то плечо, с которого улыбалась Рашель. Улыбка ее была полна юной застенчивости, которая взывала к дружбе. Он снова попытался обратиться к ней.
– Послушай, есть тут кто-то еще в живых? Иди и…
Ответ ее был торжественен и мелодичен:
– послушай есть тут кто-то еще в живых… – она смаковала каждое слово. Она отчетливо произносила их. Она улыбалась, слыша их. Ее губы старательно артикулировали, когда голос произносил звуки. То было больше, чем рефлекторное подражание, понял он. Она хотела что-то сообщить. Повторением она старалась поведать: «Я похожа на вас».
Но она только сейчас начала жить.
«И ты совершенно иная», – с благоговейным ужасом подумал Зерчи. Он припомнил, что миссис Грейлс страдала от артрита в обеих ногах, но тело, принадлежавшее ей, присело на пятки с мягкой грацией юности. Более того, морщины на коже старой женщины несколько разгладились, она порозовела, словно ее старая ороговевшая плоть стала омолаживаться. Внезапно он увидел ее руки.
– Вы же ранены!
Зерчи показал на ее руки. Вместо того чтобы посмотреть, куда он показывает, она повторила его жест, глядя на его палец и вытягивая свой, прикоснувшись к его, – для этого она пустила в ход пораненную руку. Крови на ней было немного, но на руке было не меньше дюжины ссадин, и одна из них была довольно глубокая. Он взял ее за палец, чтобы притянуть руку поближе. Он вытащил из разрезов пять кусков битого стекла. То ли она выбила руками окна, то ли, что скорее всего, при взрыве ее засыпало битым стеклом. Только он вытащил дюймовый остроконечный осколок, как пошла кровь. Но когда вытащил остальные, на их месте остались лишь синеватые следы, и раны больше не кровоточили. Это напомнило ему сеанс гипноза, свидетелем которого он однажды был, оценив нечто подобное, как обман и жульничество. Снова взглянув на ее лицо, он почувствовал, как в нем вздымается ужас. Она по-прежнему улыбалась ему, словно извлечение осколков стекла не доставило ей никаких неудобств.
Он перевел взгляд на лицо миссис Грейлс. На нем лежала серая маска смертных мук. Губы были бескровными. Как-то ему стало ясно, что она умирает. Он представил себе, как она съеживается и наконец отпадает от тела, как струп или отрезанная пуповина. Но кто же, в конце концов, Рашель? Или что?
Политые дождем камни по-прежнему сочились сыростью. Смочив палец, он поманил ее, чтобы она наклонилась пониже к нему. Кем бы она ни была, скорее всего, ей досталось столько радиации, что долго она не проживет. Хладным пальцем он начал чертить крест у нее на лбу:
– Ныне крещу тебя… – зашептал он знакомые слова на латыни.
Больше ничего сделать ему не удалось. Она стремительно отпрянула от него. Улыбка застыла на ее лице и исчезла. Казалось, она тщится крикнуть «Нет!». Она отвернулась от него. Вытерев влажный след со лба, она закрыла глаза и позволила рукам безвольно упасть на колени. На лице ее было теперь выражение полного бесстрастия. Было похоже, что, склонив голову, она готовится молиться. Постепенно бесстрастность исчезала, и на лице Рашель снова появилась улыбка. Она росла и ширилась. Когда она открыла глаза и снова взглянула на него, он увидел в них ту же теплоту. Она стала озираться, словно в поисках чего-то.
Взгляд ее упал на дарохранительницу. Прежде чем он успел что-то сделать, Рашель взяла ее.
– Нет! – хрипло выкрикнул он и попытался схватить ее. Она оказалась проворнее его, а усилие стоило ему еще одного обморока. Когда он снова пришел в себя и поднял голову, ему все окружающее предстало словно сквозь пелену тумана. Она по-прежнему стояла перед ним на коленях. Наконец он сумел разобрать, что она взяла золотую чашу в левую руку, а правой осторожно держит большим и указательным пальцами одну облатку. Хотела ли она предложить плоть Христову ему, или же, как это было недавно, ему только померещилось, что он разговаривает с братом Патом?
Он подождал, пока рассеется туманная пелена. На этот раз она все не уходила.
– Господи, – прошептал он, – не покинь меня, и да не падет на меня гнев твой…
Он взял у нее из руки облатку. Она закрыла дарохранительницу крышкой и надежно пристроила ее в более защищенное место, под прикрытием нависшего камня. Она не сделала ни одного продуманного движения, но почтительность, с которой она протянула к нему руку, убедила его, что она чувствует присутствие. Она, которая еще не умела произносить слов и не понимала их, действовала словно по прямому указанию, как ответ на его попытку крестить ее.
Он попытался сфокусировать глаза на лице этого существа, которое одним лишь жестом сказало ему: я не хочу, чтобы ты первым давал мне Причастие, ибо я сама могу дать тебе причастие к Вечной Жизни. Теперь он понял, кем она была, и слабо всхлипнул, не в силах снова взглянуть в спокойные холодные зеленые глаза существа, которое родилось свободным.
– Прими душу мою, Господи, – прошептал он. – Душа моя славит Господа, а дух мой воссоединится со Спасителем, ибо он не позволит остаться в одиночестве творению рук своих… – он хотел, уходя, напоследок научить ее этим словам, ибо был уверен, что в ней есть что-то от Богоматери, которая первая сказала их.
Он задохнулся прежде, чем кончил фразу. Все плавало перед ним как в тумане, он плохо различал, кто находится перед ним. Но холодные пальцы коснулись его лба, и он услышал, как она сказала одно лишь слово:
– Живи.
И она ушла. Он слышал, как ее голос затихал в свежих руинах:
– ла ла ла ла-ла-ла…
И пока он жил, перед ним стояли эти холодные зеленые глаза. Он не задавался вопросом, почему Бог вызвал к жизни это существо с его первозданной невинностью, выросшее на плече миссис Грейлс, и почему Бог одарил ее сверхъестественным ощущением близости Эдема – вручил ей этот дар, который человек все время пытался обрести грубой силой с тех незапамятных времен, когда был изгнан из него. В этих глазах он видел ничем не затуманенную невинность и обещание воскрешения. Один лишь этот взгляд столь щедро одарил его, что он заплакал от благодарности. Затем он опустил лицо во влажную грязь и затих в ожидании.
И ничего более не пришло к нему – ничего, что он мог бы видеть, слышать или чувствовать.








