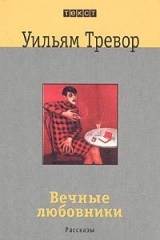
Текст книги "Вечные любовники"
Автор книги: Уильям Тревор
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 14 страниц)
– Что именно?
– Про унитаз.
– Послушай, Боланд…
– Ты что, обиделся? Прости, я не хотел.
– Да нет, нисколько я не обиделся. Просто не понимаю, чего ты на этом застрял…
– Давай поговорим о чем-нибудь другом.
– Если честно, я уже немного тороплюсь.
Он вновь натянул вторую перчатку, пробежал пальцами по пуговицам своей гладкой черной куртки – все ли застегнуты. Затем снова стащил с руки перчатку – вероятно, вспомнил, что без рукопожатия не обойтись.
– Спасибо за все, – сказал он.
Уже во второй раз Боланд, к своему удивлению, почувствовал, что не в состоянии оставаться один. Может, дело в виски? Сначала ведь он долго ехал на машине, а потом пил на пустой желудок – позавтракать, как всегда, было нечем, в доме даже куска хлеба и того не было. «Я спущусь и сделаю тебе яичницу с беконом, – обещала она ему накануне вечером. – Надо же что-то съесть перед дорогой».
– Ты сказал, что собираешься определить туда своих детей, – неожиданно для самого себя сказал он. – Ты что, имеешь в виду ваших с Аннабеллой детей?
Лердмен посмотрел на него так, будто он спятил. Его узкий, похожий на щель рот раскрылся в изумлении. Было непонятно, пытается он улыбнуться или у него тик.
– А каких же еще? – Лердмен, не переставая удивляться, покачал головой. Он протянул Боланду руку, но тот ее не пожал.
– Я думал, ты имеешь в виду каких-то других детей, – сказал он.
– Не понимаю, о чем ты?
– У нее не может быть детей, Лердмен.
– Послушай…
– И это медицинский факт. Эта несчастная женщина не способна испытать радости материнства.
– Ты перепил. Пьешь одну за другой. Потому и от школьных воспоминаний никак отвлечься не можешь. Аннабелла меня об этом предупреждала…
– А она, случайно, тебя не предупреждала, что навяжет тебе своих кошек? Не говорила, что не может родить? Что со скуки приходит иногда в такое бешенство, что лучше держаться от нее подальше? Поверь, Лердмен, я знаю, что говорю.
– А про тебя она говорила, что не проходит и дня, чтобы ты не напился. Что из-за этого тебя даже на скачки не пускают.
– Я не играю на скачках, Лердмен, и без повода вроде сегодняшнего практически не пью. Во всяком случае, гораздо меньше, чем наша общая подруга, уверяю тебя.
– В том, что у Аннабеллы нет детей, виноват ты. Впрочем, она ни в чем тебя не винит – ей просто тебя жалко.
– Ей меня жалко? Да она за всю свою жизнь еще ни разу никого не пожалела.
– Послушай, Боланд…
– Это ты меня послушай. Я с этой женщиной двенадцать лет прожил. Забирай ее, я не против, только не говори о разводе. Говорить о разводе, Лердмен, в Англии или где-нибудь еще, нет никакой необходимости. Можешь мне поверить. Она будет жить с тобой в твоей семикомнатной квартире и в доме, если ты его купишь, тоже будет жить – но жди хоть до Второго пришествия, а детей тебе от нее не дождаться. Вместо детей ты получишь двух сиамских котов, которые искусают тебя до полусмерти.
– Ты ведешь себя непотребно, Боланд.
– Я говорю тебе правду, чистую правду.
– Ты забываешь, что мы с Аннабеллой все это предусмотрели. Она знала, что ты воспримешь случившееся близко к сердцу. Знала, что выйдешь из себя. И я тебя понимаю. Я же перед тобой извинился.
– Ты – жалкое ничтожество, Лердмен. Всю жизнь тебя головой в унитаз макают. Интересно, когда они тебя отпустили, ты так весь день мокрый и ходил? Жалко, я этого не видел, Лердмен.
– Заткни свою вонючую пасть. И не нарывайся на ссору, слышишь? Сегодня утром я настроился на серьезный разговор, не думай, я прекрасно понимаю, что ситуация возникла деликатная, и я не изображаю из себя святого, вовсе нет. Но оскорблений я от тебя сносить не стану. И Анннабеллу оскорблять не дам.
– Если не ошибаюсь, Мазурик-Смит стад ветеринаром.
– Плевать, кем он стал.
И тут Лердмен вдруг исчез. Боланд же и голову в его сторону не повернул. Он пробежал глазами по бутылкам, стоящим за стойкой бара, и минуту спустя закурил очередную сигарету.
После ухода своего обидчика он пробыл в баре еще с полчаса. Стоял у стойки, курил и думал о Лердмене, мальчишке, на которого все в школе показывали пальцем из-за того, что учинили с ним два хулигана. Рассказывая об этой истории, истопник, старик Макардл, покатывался со смеху. Иногда, когда радиатор в классе грел плохо, жившие в школе ученики спускались к Макардлу и садились вокруг печки.
Старик развлекал их неприличными историями, в которых неизменно участвовала экономка (она же повариха), или же рассказом про Лердмена. Чем больше Боланд вспоминал школу, тем ясней в его памяти возникал Лердмен-подросток. Изменился он мало: тот же щелевидный рот, из кармана пиджачка торчат автоматический карандаш и шариковая ручка.
Боланд вспомнил, что у Лердмена был велосипед, новый велосипед, «Золотой орел», который ему купили вместо старого. «Мы с ним познакомились у Филлис», – сообщила она ему, но понять, говорила она правду или врала, было невозможно. Очень может быть, все это было враньем от начала до конца.
Боланд обедал в ресторане отеля. За столиками сидели люди, которых он не знал, но которые, судя по всему, обедали здесь регулярно. Говорить, что спиртного он заказывать не будет, ему не пришлось – официантка его об этом даже не спросила. На столе в графине была кипяченая вода, и он решил, что протрезвеет и вернется домой сегодня же.
– Треска, – сказал он официантке. – Да, треска под соусом с сельдереем.
Ему вспомнилось, как тринадцать «живущих» разбили окно в школьном флигеле, уже давно стоявшем без всякого употребления. Оконные рамы в большинстве своем и без того уже были сломаны, крыша давно провалилась, а через всю стену тянулась трещина, да такая большая, что казалось, стена вот-вот обвалится. В это небольшое, ветхое здание ученикам входить строго запрещалось, и «живущие» этот приказ не нарушили. Они стояли ярдах в двадцати от дома и кидались камнями в окна с еще не побитыми стеклами точно так же, как бросают камни по мишени на ярмарках. Делали они это без всякого злого умысла, не понимая того, что школьный флигель, и без того уже сильно поврежденный, стоило бы сохранить. Расплата не заставила себя ждать. На следующее же утро Граф в присутствии «домашних» примерно отделал «живущих» своей тростью.
Лердмен – размышлял, доедая суп, Боланд – наверняка присутствовал при экзекуции и мог бы при желании напомнить ему об этом эпизоде. Точно так же, как он, Боланд, напомнил ему историю с мытьем головы в унитазе. Но Лердмен, разумеется, был выше этого. Лердмен всегда ходил в умниках – и теперь, и во времена «Золотого орла» тоже.
Боланд отламывал хлеб, лежавший на маленькой тарелке справа, и перед тем, как проглотить очередную ложку супа, отправлял его в рот маленьким кусочками. Он представил себе, как, уже совсем скоро, будет входить в свой пустой, погруженный в тишину дом. Как летним вечером распахнет стеклянную дверь, ведущую из гостиной в сад, и будет прогуливаться среди кустов фуксий и яблоневых деревьев. В этом доме, последнем в городке, стоявшем напротив автомастерской О’Коннора, он прожил всю жизнь, с самого рождения. Блекло-желтый, ничем не примечательный, он был ему очень дорог.
– Вы ведь заказывали рыбу, сэр? – донесся до него голос официантки.
– Да.
Свадьбу сыграли в Дублине – Аннабелла была дочерью дублинского виноторговца. Тогда его старик, да и ее мать тоже еще были живы. «Ну, ты и лакомый кусочек отхватил!» – как-то раз заметил отец, но сказано это было игриво, без всякой задней мысли – в те дни Аннабелла и впрямь была «лакомым кусочком». Интересно, что старик сказал бы о ней сейчас?
– Тарелка очень горячая, сэр, – предупредила официантка.
– Большое спасибо.
Всем знавшим его с детства она очень нравилась. Его останавливали на улице, поздравляли, говорили, как ему повезло. В городе были за него рады, ведь он привез из Дублина, как кто-то выразился, «корону с брильянтами». И тем не менее те же самые люди наверняка будут рады, когда она уедет. Тяжкое разочарование, которое она постоянно испытывала из-за невозможности иметь детей, превратило красоту в нелепую эксцентричность. Из-за этого-то все и пошло наперекосяк. Только из-за этого.
Он медленно ел треску под соусом с сельдереем, капустой и картошкой. Разговоров о том, что между ними произошло, скорее всего, не будет. В городе узнают про ее отъезд и будут говорить, что когда-нибудь он обязательно женится снова. Женится ли? Он рассуждал с Лердменом о разводе, но на самом деле о том, что происходит в Ирландии с разводами, ровным счетом ничего не знал. Институт брака, смутно казалось ему, должен захиреть, должен сгнить и умереть; в отличие от рака, вырезать его невозможно.
Боланд заказал яблочный торт со сливками и кофе. Он был рад, что все кончилось; целью его визита в Дублин было поставить точку, и в результате состоявшейся встречи точка в каком-то смысле была поставлена. Все встало на свои места, он согласился с истинным положением дел, о котором обязательно должен был услышать от кого-то еще, кроме жены. Когда Аннабелла в первый раз все ему рассказала, он подумал было, что это выдумки. Приходила эта мысль ему в голову и потом. Даже когда он ждал Лердмена в баре отеля «Бушвелл», он сказал себе, что нисколько не удивится, если никто на встречу с ним не придет.
Когда он шел на стоянку, двое нищих, мальчик и девочка, стали просить у него милостыню. Он понимал, им нужны не медяки, а его бумажник или что-нибудь столь же ценное. Мальчик протянул ему картонную коробку, девочка, держа руки под платком, подошла к нему вплотную. Этот трюк он знал – вот во что превратился Дублин!
– Пошли отсюда! – прикрикнул он на детей.
А все потому, что ей нечем было себя занять, подумал он, выезжая со стоянки на оживленную городскую улицу. И потом, с самого начала провинциальная жизнь ей претила. Бездетной женщине, живущей в захолустном городке, как никому другому, видны все его недостатки. Она поменяла мебель в доме, сама выбрала обои, которые впоследствии разодрали ее сиамские кошки. А вот играть в бридж и теннис Аннабелла упорно отказывалась и постоянно твердила, что ей не хватает кинотеатра, пусть и при кафе. Ему всегда казалось, что он ее понимает. Хотя сам Боланд к провинциальному прозябанию давно привык, он прекрасно сознавал, что жизнь, которую он ей предложил, едва ли может ее увлечь. Вначале, пока она не стала сама ездить в Дублин в гости к Филлис, он старался возить ее туда почаще. Уже очень давно, много лет назад, он вполне отдавал себе отчет в том, что Аннабелла с ним несчастлива, но до тех пор, пока она не раскрыла ему свои карты, никогда не подозревал, что она завела себе любовника.
В Маллингаре он остановился выпить чашку чая. Только что начали продавать вечерние дублинские газеты. «Геральд» писала о перестановках в итальянском правительстве после инцидента с Акилле Лауро. Доллар опять падает, в Корке закрывается завод по переработке мяса. Он вяло просматривал газету – домой ехать не хотелось. Лердмен, надо думать, уже ей звонил. «Почему бы тебе не переехать сегодня же?» – мог сказать он. Собирать вещи она, очень может быть, начала с самого утра – наверняка понимала, что встреча в «Бушвелле» будет носить формальный характер. «Он не станет чинить препятствий, – скорее всего, сказал ей Лердмен. – Он даже готов представить основания для развода». Теперь, когда все трое понимали, на каком они свете, когда ей удалось от него избавиться, ее уже ничего не удержит – останется только собрать вещи и уехать.
В кафе жарко пылал камин.
– Так уютно, как у вас, в наши дни бывает нечасто, – сказал он женщине, которая его обслуживала, и подвинул стул поближе к огню. – Выпью, пожалуй, еще чашечку.
Маленький белый «фольксваген», который он ей подарил, возможно, уже мчится навстречу по дублинскому шоссе. Записку она не оставит – ни к чему. Если «фольксваген» уже проехал, она, наверно, удивится, что не встретила его на шоссе, – машину, припаркованную у входа в кафе, она ни за что не заметит.
– Да, в такую погоду камин не помешает, – сказала, вернувшись с чаем, женщина. – Целый месяц холодно и туман.
– Бывали деньки и получше, прямо скажем.
Выпив в общей сложности три чашки чая, он вновь выехал на шоссе, поглядывая на встречную полосу – не едет ли белый «фольксваген». Может, она ему погудит? Или он ей? Там будет видно.
Он проехал миль пятьдесят, однако машины жены видно не было. Ничего удивительного, сказал он себе, да и с чего он взял, что она уедет сегодня днем? Вещей ведь у нее столько, что за один день все не соберешь. На протяжении последующих нескольких миль он пытался представить себе, каким будет ее отъезд. Из Дублина, чтобы помочь ей, приедет Лердмен? Этот вариант не обсуждался и даже не рассматривался – он бы сразу наложил на него вето. Или Филлис? Такой вариант, естественно, не вызвал бы у него возражений. Чем больше он думал об этом, тем менее вероятным ему казалось, что Аннабелла сможет собраться и уехать без посторонней помощи. Она имела обыкновение, когда возникали сложности, обращаться за помощью к другим. Он представил, как она сидит на второй ступеньке лестницы и болтает по телефону. «Слушай, а ты бы не могла…» – с этих слов начинались обычно ее просьбы и уговоры.
Фары выхватили из темноты знакомый знак с надписью по-английски и по-ирландски; его городок – следующий. Он включил радио. «Танец в темноте», – мурлыкал низкий женский голос, напоминая ему о жизни, которую, вероятно, вели сейчас Лердмен и его жена. В песне говорилось о прелестях незаконной любви, о жарких объятьях. «Бедная Аннабелла», – произнес он вслух. Угораздило бедняжку выйти за владельца пекарни из заштатного городка. Еще слава Богу, что подвернулся этот проныра Лердмен! Что бы она без этого сосунка делала? Песня продолжалась, и он представил, как они, точно влюбленные в кино, бегут навстречу друг другу по пустой улице. Как бросаются друг другу в объятья, а потом, прежде чем обняться вновь, нежно улыбаются. На этом его роль – не злодея, но третьего лишнего – подходит к концу; больше ему в этой пьесе делать нечего.
Но стоило ему въехать в свой город, увидеть первые дома по обеим сторонам знакомой улицы, как он вдруг понял: все, что он вообразил себе дорогой, к реальной жизни отношения не имеет. Мало того, что она не уехала к Лердмену на своем белом «фольксвагене» в его отсутствие, – не уедет она к нему и завтра, и послезавтра, и через неделю. Не уедет и через месяц, и на Рождество, и в феврале, и весной следующего года. Не уедет никогда. Незачем было напоминать Лердмену о том унижении, которое он испытал в школе. Незачем было говорить ему, что она врунья, обзывать его скупердяем. Во время «мужской встречи без свидетелей» все эти подначки и уколы воспринимались естественными и предсказуемыми – тем более под воздействием виски «Джон Джеймсон». Однако что-то заставило его пойти еще дальше – низкорослые мужчины вроде Лердмена всегда ведь хотят иметь детей. «Это гнусная ложь», – наверняка уже сказала она Лердмену по телефону, и Лердмен попытался ее утешить. Но одного утешения и для него и для нее маловато.
Боланд выключил радио. Он подъехал к пивной Донована и с минуту сидел в машине, вертя в указательном и большом пальцах ключи. Подойдя к стойке бара, он поздоровался со знакомыми, заказал бутылку «Смитвика» с лаймом и стал слушать разговоры о скачках и политике. Постепенно завсегдатаи разошлись, а он все стоял у стойки, выпивал и раздумывал о том, почему же все-таки ему не удалось сплавить ее Лердмену.
ЛИТОГРАФИИ
В большой комнате Шарлотта развешивает сушить свои литографии, как сушат на веревке белье. Три вороны сидят под выменем коровы, над ними коровье брюхо, по бокам ноги, и этот суровый, черно-белый, с прозеленью образ заполнил собой всю комнату.
Дело было во Франции, много лет назад, это Шарлотта знает наверняка, а вот когда она эту сцену подсмотрела, вспомнить не может. При этом ее не покидает чувство, что взгляд, брошенный тогда ею из окна спальни или из автомобиля, она сохранила в памяти на всю жизнь. «Это все еще земля Ланжвенов», – сказал ей по-английски месье Ланжвен, когда в первый раз вез ее в своем белом «ситроэне» в Сен-Сераз, находившийся в пятнадцати километрах от Массюэри. Она покорно изучала тянувшиеся справа от нее поля: ни одного дерева, уныло, пасется скот. Возможно, были там и эти три вороны.
Развешанные сушиться литографии внимательно рассматриваются, и каждая седьмая или восьмая отбраковывается. Длинные, тонкие пальцы отпускают крошечные, разноцветные прищепки, на которых литографии держатся, и плохо отпечатавшиеся копии мягко оседают на голый деревянный пол. В эти минуты Шарлотта, которая непрестанно двигается по комнате среди своих вездесущих и одинаковых творений, напоминает привидение. В тридцать девять лет она такая же стройная, как раньше, угловатая, с выдающимися лопатками, на совсем еще детском лице светятся огромные голубые глаза. Лишь седина в волосах некогда цвета спелой пшеницы да чуть потрескавшиеся ладони, напоминающие, что солнце и погода оставляют свой след, свидетельствуют о том, что время свое дело делает.
Одну за другой она поднимает упавшие на пол литографии, разрывает каждую пополам и бросает в деревянную коробку с мусором. Затем изучает, подняв на свет, один из висящих листов: не высох ли. Убедившись, что высох, она распускает зажим прищепки и подрезает лист в своей гильотине. Подписывает его, проставляет в углу карандашом 1/50 и вкладывает в бледно-зеленую папку. То же самое делает со всеми остальными литографиями, после чего закрывает папку и завязывает ее растрепавшимися ленточками.
«Вон там, – сказал в тот день, это была среда, месье Ланжвен, – l’eglise Сен-Сераз». Он остановил машину на Пляс де ля Пэ и показал в сторону церкви. Смотреть в юроде особенно нечего, предупредил он. Парк рядом с Maison de la Presse, кондитерские и кафе, Hostellerie de la Poste. Но церковь весьма любопытна. «Фасад, во всяком случае», – добавил месье Ланжвен.
Шарлотта подошла к церкви, полюбовалась фасадом и вошла внутрь. Пахло то ли свечным салом, то ли ладаном – запах ладана ведь совершенно неуловим. Шарлотте тогда было девятнадцать, пожить у Ланжвенов ее отправил отец, который придавал огромное значение тому, что он называл «безупречным французским». Какой-то его дальний знакомый знал двоюродного брата мадам Ланжвен – и договоренность была достигнута. «Я вовсе не против, чтобы ты рисовала, – сказал ей отец со свойственной тому времени родительской рассудительностью. – Я только хочу, чтобы ты поняла, сколь необходим тебе безупречный французский язык». Отец не верил в ее талант художницы; бизнесмен, он мечтал определить своего единственного ребенка в какую-нибудь международную коммерческую фирму, где французский язык, которым она в совершенстве овладеет, вознесет ее на желаемую высоту. В душе отец Шарлотты преследовал ее интересы – какими он их себе представлял. А уж потом можно будет подумать и о выгодном браке. Всему свое время. Представления о жизни у него были традиционные.
В церкви Сен-Сераз она прошла вдоль исповедален, пробежала глазами по Кальвариям. Все это ее, девятнадцатилетнюю девушку, интересовало не слишком; она думала о том, как жаль, что отец настоял на ее поездке в Массюэри. Обычно в среду, во второй половине дня, когда мадам Ланжвен уезжала с детьми кататься верхом, она была предоставлена самой себе. Располагала она собой и во второй половине дня в воскресенье и, кроме того, каждый вечер после того, как дети ложились спать. Но чем было себя занять по воскресеньям? Ходить гулять в лес? А по вечерам Ланжвены обижались, если она не сидела с ними. Всего детей было пятеро, самый младший – еще совсем крошка. Близнецы были шалунами и, в свои шесть лет, уже научились дразниться. Колетт постоянно дулась. Больше всего Шарлотте нравился Ги, темноволосый десятилетний мальчик.
Обо всем этом, об угрюмой Колетт, о непослушных близнецах, об обаятельном Ги, о пухленьком младенце, говорилось в лежавшем в сумочке Шарлотты письме домой. Ее мать умеет читать между строк, она заметит, что дочь несчастна, хотя в письме об этом ни слова; отец же будет читать невнимательно, многое пропустит. «Здесь сейчас гостит сестра г-жи Ланжвен. Она высокая и томная, заядлая курильщица, глаза всегда подведены, красиво одевается. Г-жа Ланжвен совсем на нее не похожа, она тоже хорошо одевается и тоже по-своему хороша собой, но приятнее – в том смысле, что хочет, чтобы у других все было хорошо. Она все время улыбается и беспокоится. Месье Ланжвен неразговорчив».
В сквере перед кафе она дописала письмо, часто прерываясь, чтобы продлить удовольствие. Был июль, и сидеть приходилось в тени. «С тех пор как я здесь, на небе ни облачка». Шарлотта пила чай с лимоном; запечатав конверт и надписав адрес, она стала смотреть на проходивших мимо. Из-за жары людей было немного: женщина в синем платье, в темных очках и с пуделем, мальчик на велосипеде, мужчина, вынимавший из фургона обувные коробки. Шарлотта купила марку в tabac и вдруг увидела, что за Maison de la Presse раскинулся парк. На скамейках лежали пыль и птичий помет, сквозь листву не проникал солнечный свет, зато здесь было прохладно и пусто. Она села и раскрыла книгу, которую взяла с собой, – «Прекрасные и проклятые».
Прошло уже двадцать два года, а Шарлотта по-прежнему видит себя сидящей на скамейке в парке, и даже помнит, как выглядит иллюстрация на обложке романа: девушка с сигаретой, мужчина во фраке. «Мадам Ланжвен старается говорить со мной по-французски, – говорилось в ее письме. – Месье практикуется в английском». Тогда Шарлотта была девушкой робкой и простодушной. В детстве она узнала цену ревности и всегда испытывала нежные чувства к отцу и матери, однако в сердечных делах была малосведуща, и в Массюэри страдала первое время лишь от одиночества.
В комнате, отведенной для работы, Шарлотта снимает с плечиков зеленый непромокаемый плащ, проверяет, в кармане ли перчатки, а в глазах у нее по-прежнему стоит парк в Сен-Сераз. В тот день, воспользовавшись тем, что в парке никого не было, она, кажется, даже расплакалась; да, и в самом деле расплакалась. А через час отправилась в музей, однако он был закрыт. На Пляс де ля Пэ, возле гипсовой красавицы с пышными формами, олицетворявшей собой Вечный мир, она ждала автобуса обратно в Массюэри.
– Опишите мне Англию, – попросила ее в тот вечер сестра г-жи Ланжвен – она тоже изучала английский. – Опишите мне дом вашего отца. В Англии еда ведь невкусная, n’est-се pas? [2]2
Не правда ли? (фр.)
[Закрыть]
Шарлотта стала было отвечать ей по-французски, но высокая, красиво одетая женщина остановила ее. Она хотела слышать звуки английской речи – а иначе какой смысл? Она зевнула. В деревне было скучно; впрочем, в июле и в Париже не намного веселее.
И тогда Шарлотта описала ей дом, где она жила, рассказала про мать и отца. Объяснила, как поджариваются тосты – сестре г-жи Ланжвен обязательно хотелось знать именно это, а еще как английские мясники подвешивают говяжьи туши. В говядине Шарлотта разбиралась неважно, понятия не имела, как называются части разрубленной туши, однако ответ постаралась дать как можно более обстоятельный. Сестра г-жи Ланжвен полулежала на софе: в руке сигарета с черным мундштуком, зеленое шелковое платье обтягивает бедра.
– Я что-то слышала про чай Джексона, – обронила она.
Шарлотта о таком чае слышала впервые. У ее родителей, сказала она, не было слуг. Про королевскую семью она мало что знает.
– Pimm’s Number One, – напомнила ей сестра г-жи Ланжвен. – Qu’est-ce que c’est que ca? [3]3
Что эго такое? (фр.)
[Закрыть]
Поместье Массюэри занимало обширную территорию. За садами тянулись поля, где паслись овцы, а за полями были посажены молодые деревца, не более фута в высоту. На холмах, за лесонасаждением росли ели, много елей, и, бывало, оттуда целыми днями раздавался визг пил, отвратительная какофония, действовавшая Шарлотте на нервы.
Каждое утро, очень рано, садовники шуршали перед домом гравием. Старик и мальчик, орудуя граблями, шире которых Шарлотте прежде видеть не доводилось, в течение часа выравнивали гравий, разбросанный накануне колесами, и уничтожали все сорняки до единого. Тот же мальчик дважды, пример но за час до обеда и перед ужином, приносил в дом овощи.
По обеим сторонам двери особняка застыли мраморные нимфы. Вдоль лестницы, которая сначала, разделившись на два рукава, расходилась влево и вправо, а затем вновь сходилась, тянулась декорированная балюстрада. Дом был выстроен из серо-коричневого камня, а резные ставни на окнах были зелеными. Всюду, и в доме и в поместье, чувствовалась рука хорошего хозяина. Серебро, мебель, люстры, гобелены с изображенными на них сценами охоты, мраморная шахматная доска в огромном холле содержались в таком же идеальном порядке, как и гравий. Длинные, тонкие медные прутья, под которые была пропущена ковровая дорожка, и медные же перила лестницы регулярно полировались, пианино в большей из двух гостиных настраивалось, павлины из эмали в столовой поражали воображение своим великолепием. И вместе с тем в этом величавом особняке был всего один телефон, который стоял в небольшой, специально отведенной для него комнатке на первом этаже. Стены комнаты были оклеены полосатыми красно-синими, под цвет разукрашенного потолка, обоями. На телефонный столик и стоящий перед ним стул падал мягкий свет от лампы под синим абажуром. На столике лежали письменные принадлежности и бумага на тот случай, если надо было что-то записать. Сестра г-жи Ланжвен, оставив дверь нараспашку, часами просиживала в телефонной комнате, беседуя со своими парижскими знакомыми, а также с теми, кто, подобно ей, покинули город на лето.
«Mon Dieu!» – иногда ворчал, проходя мимо, месье Ланжвен. У месье Ланжвена были седые виски. Он был чисто выбрит, среднего роста, с карими глазами, которые в присутствии детей оживлялись и теплели. Дети же, хотя и любили, когда отец потакал их капризам, были ничуть не менее привязаны к своей матери, которая, в отличие от отца, держала их в строгости. Однажды близнецы засунули кошку в дымоход, в другой раз под ними подломилась ветка абрикосового дерева, как-то утром старый Жюль не смог найти своих туфель, ни одной пары. Бывали дни, когда Колетт не желала ни с кем разговаривать, особенно с Шарлоттой, – она лежала в постели лицом к стене и ковыряла пальцем обои. Месье Ланжвена такое поведение раздражало ничуть не меньше, чем история с кошкой, однако соответствующие меры всякий раз принимала г-жа Ланжвен.
У сестры г-жи Ланжвен был роман. Ее муж приезжал в Массюэри в четверг поздно вечером, после ужина, ближе к полуночи. Приезжал он парижским поездом и оставался до воскресенья, а в воскресенье вечером в спальном вагоне возвращался обратно. Эго был жизнерадостный человек, ростом ниже, чем жена, с красным лицом и маленькими черными усиками. После его отъезда г-жа Ланжвен рассказала Шарлотте, что замуж сестра вышла неудачно, при этом о своем зяте говорила тепло, давая понять, что лишь констатирует факт. Г-жа Ланжвен вообще ни о ком плохо не говорила, не хотела никого обидеть – не такая это была женщина. Что у сестры роман, она сказала, пожав плечами. О том, что этим кончится, она догадалась, по ее словам, еще в день свадьбы сестры – такое видно сразу. «Le monde» [4]4
Здесь: так устроен мир (фр.).
[Закрыть], – сказала г-жа Ланжвен таким тоном, словно она нисколько не порицала свою сестру, не отзывалась с пренебрежением о своем зяте-рогоносце.
С зеленой папкой под мышкой Шарлотта спускается по плохо освещенной лестнице из своей квартиры на улицу. Промозглое декабрьское утро. Воротник ее непромокаемого плаща поднят, поверх плаща несколько раз завязан вокруг шеи черный шарф. Интересно, у других тоже так бывает, что одно-единственное событие сказывается на всей последующей жизни? В пять лет Шарлотта тяжело заболела, и, хотя она хорошо помнит все связанные с болезнью волнения, помнит, что ощущала близость смерти и даже с ней примирилась, – этот опыт в дальнейшем ведь на ее жизни не отразился, остался в том времени, она же, переступив через него, легкой поступью пошла дальше. Точно так же оставляла она за спиной и другие события и переживания, воспоминание о которых, казалось, будет неотступно ее преследовать. И только это лето в Массюэри почему-то постоянно, настойчиво ее сопровождает, стало словно бы частью ее самой.
– Это золотистое вино из Юра, – сказал месье Ланжвен – опять по-английски. – Оно отличается от всех остальных вин Франции.
Из окон особняка Массюэри видны горы Юра. Весной и в начале лета из-за дувшего с гор ветра в этих местах иногда бывало холодно. Она об этом часто слышала: горы Юра были постоянной темой разговоров.
– Is there a doctor at hand? [5]5
Есть поблизости доктор? Букв.: есть доктор на руке?
[Закрыть]– произносила сестра г-жи Ланжвен запомнившееся ей выражение из словаря английских идиом, который, по ее настоянию, привез ей из Парижа муж. – Что значит «at hand»? Un medecin sur la main? C’est impossible! [6]6
Доктор на руке? Это невозможно (фр.).
[Закрыть]– И устало, заученным движением, вставляла в мундштук очередную сигарету.
– Ее любовник – молодой человек, – рассказывала по-французски г-жа Ланжвен, растягивая слова. – Работает в аптеке. В один прекрасный день он, естественно, захочет жениться – тем дело и кончится.
«Стоит мне утром открыть глаза, как с улицы до меня доносится запах свежего кофе. Это, должно быть, завтракает прислуга. Позднее, в половине девятого, нам накрывают завтрак в саду, в беседке, обедаем мы там же, а вот ужинаем всегда в доме, каким бы теплым вечер ни был. По воскресеньям в крошечной машинке, которой она с трудом управляет, приезжает мать месье Ланжвена. Живет она, если не считать экономки, одна, в деревне, за тридцать километров отсюда. Она маленькая, очень сердитая и со мной не разговаривает. Иногда вместе с ней приезжает бородатый мужчина, месье Оже. Он подробно рассказывает мне про свое здоровье, а потом я смотрю в словаре слова, которых не поняла. Приезжают по воскресеньям и другие родственники, двоюродная сестра мадам Ланжвен из Солье с мужем и вдова генерала».
Во время войны, когда в Массюэри оставались только женщины и дети, на территории поместья был обнаружен немецкий солдат. Жил он в укрытии, которое сам себе сделал, питался же, видимо, отбросами. Его бы никогда не нашли, не укради он, отчаявшись, сыр и хлеб из кладовой. Больше недели женщины жили, сознавая, что он где-то здесь, поблизости, мельком видели его по ночам, не зная, как им быть. Они сочли, что он дезертир, но наверняка сказать не могли, ведь солдат мог и заблудиться. В конце концов, испугавшись, что немец, по какой-то неизвестной причине, сам за ними следит, они застрелили его, а тело зарыли в саду. «Ici, – сказала г-жа Ланжвен, указывая пальцем на середину большой овальной клумбы, где росли розы. – C’etait moi» [7]7
Здесь… Эьл сделала я (фр.).
[Закрыть], – добавила она, отвечая на вопрос, который Шарлотта задавать ей не стала. Однажды, дождливой ночью, они со свекровью и служанкой подстерегли солдата возле его укрытия и стали ждать, когда он появится. Она выстрелила дважды, но промахнулась, и он двинулся прямо на них. Третий выстрел попал в цель, солдат покачнулся, и она разрядила в него оба ствола. Ей тогда было столько же лет, сколько сейчас Шарлотте, – замужем она была всего несколько месяцев. «Она такая славная, – писала родителям Шарлотта, – вы даже представить себе не можете».








