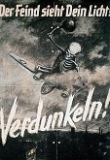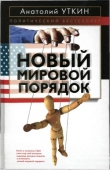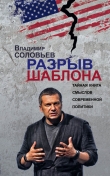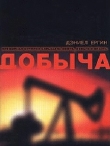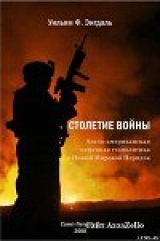
Текст книги "СТОЛЕТИЕ ВОЙНЫ.(Англо-американская нефтяная политика и Новый Мировой Порядок)"
Автор книги: Уильям Энгдаль
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 29 страниц)
Предоставляя ключевую экономическую роль МВФ, в котором доминировали американцы, Джеймс Бейкер и администрация Буша-старшего гарантировали то, что любые западные экономические инвестиции или поддержка советской экономики предварительно должны были пройти утверждение в Вашингтоне. Русским предстояло получить ровно такое же стандартное обслуживание условий МВФ для стран «третьего мира», как для любой бывшей африканской колонии или «банановой республики», и скатиться на уровень общей нищеты населения. Крошечной кучке элиты было позволено стать в долларовом исчислении невероятно богатыми и зависимыми от банкиров и инвесторов с Уолл-Стрит.
Вооруженные своими теориями «шоковой терапии» гарвардские экономисты, вроде Джеффри Сакса, были отправлены в Москву, чтобы помочь разрушить старый аппарат централизованного государства. Технократы от МВФ требовали, чтобы российские нефть и газ, алюминий, марганец и другое сырье продавалось бы по ценам мирового рынка, чтобы прекратились государственные субсидии на еду, здравоохранение и другие предметы первой необходимости, и чтобы российская промышленность была «приватизирована».
В 1992 году как части «рыночно ориентированных» реформ МВФ потребовал прекращения государственной поддержки российского рубля. Плавающий курс рубля привел в течение года к увеличению розничных цен на 9900 % и падению реальных зарплат на 84 %. Впервые с 1917 года, по крайней мере в мирное время, большинство россиян погрузилось в настоящую нищету. Впрочем, это было только началом капитализма в духе МВФ.
Пользуясь руководством МВФ, Вашингтон мог по существу диктовать, какой сектор российской промышленности должен выжить, а какой – нет. «Мировой рынок» определялся Вашингтоном и технократами из МВФ, воспитанными на идеях свободного рынка версии Милтона Фридмана. Российские национальные приоритеты или общее благосостояние населения при этом критериями не являлись.
Сталинскую диктатуру пролетариата народам России и бывшего Советского пространства должен был заменить диктат «глобального рынка» МВФ. Не имело значения то, что уровень экономической свободы в США, взятый якобы за образец, был результатом сложной эволюции на протяжении более чем 350 лет, в некоторых случаях восходящей к Английской революции XVII века. Под руководством МВФ таким странам как Россия и Украина было предписано без какой-либо адекватной подготовки немедленно принять американскую версию рыночной экономики. Результаты были предсказуемы и хорошо спланированы. Стабильная и процветающая Россия отнюдь не являлась целью.
Как вскоре осознало большинство россиян, эффект реформ МВФ был катастрофическим. Вместо ожидаемого процветания в американском духе, капитализма в стиле «две машины в каждом гараже», обычных россиян ввергли в состояние экономической нищеты. Промышленное производство упало вдвое по сравнению с предыдущим уровнем, а инфляция превысила уровень 200 %. Средняя продолжительность жизни для мужчин упала к 1994 году до 57 лет, до уровня Бангладеш и Египта.
Запад и прежде всего Соединенные Штаты со всей ясностью хотели деиндустриализации России, чтобы навсегда сломать экономическую структуру старого Советского Союза. Огромную часть глобальной экономики, почти закрытую для долларового пространства на протяжении более семидесяти лет, следовало привести под долларовый контроль. Под прикрытием ласковой риторики о рыночных реформах регион расчленяли вполне в духе того, как европейские державы колонизировали и делили Африку за сто лет до этого.
Для вашингтонской администрации Клинтона не имело особого значения, что российская приватизация ключевых промышленных активов контролировалась российской элитой, так называемыми олигархами. Главным являлось то, что впервые со времен Ленина российская промышленность привязывалась к будущему доллара. Новые олигархи были «долларовыми олигархами», и львиная доля их нового состояния пришла от экспорта нефти и газа.
Партнером США и специальным уполномоченным для МВФ в ельцинскую эпоху стал Анатолий Чубайс, министр по приватизации. МВФ выделил России 6 млрд. долларов в 1996 году при условии того, что Чубайса назначат ответственным за экономическую политику. Профессор университета Джорджа Вашингтона Питер Реддэвэй писал в «Вашингтон Пост» в 1997 году, что Чубайса в России обвиняли в «цензурировании СМИ, подрыве демократии, проведении сомнительных личных сделок, выполнении приказов из Вашингтона и построении криминальной формы капитализма». Очевидно, этого было достаточно, чтобы Чубайса поддерживал Лоуренс Саммерс, в то время заместитель министра финансов США. Саммерс, тот самый, который в качестве государственной поддержки переправил миллионы долларов американских налогоплательщиков гарвардскому экономисту из школы «шоковой терапии» и советнику по России Джеффри Саксу, приветствовал назначение Ельциным в 1997 году Чубайса первым вице-премьером. Назначение Чубайса ответственным за экономику, утверждал Саммерс, создает «обновленное президентство и экономическую команду мечты». Для большинства россиян эта мечта обернулась кошмаром.
Украину, которая была основным промышленным, военным и зерновым центром СССР, подвергли той же жестокой процедуре, что и Россию. После начала «реформ» МВФ в октябре 1994 года обвал был столь же драматичен. МВФ приказал отменить государственное контролирование обменного курса, и украинская валюта рухнула. Затем МВФ потребовал прекратить государственные субсидии. Цена хлеба выросла на 300 %, электричества – на 600 %, общественного транспорта – на 900 %. В результате требований МВФ население было вынуждено теперь покупать местные товары по ценам, выраженным в долларах. При непомерно возросшей цене на электричество и в отсутствии банковских кредитов государственная промышленность была приведена к банкротству. Иностранным спекулянтам позволили по бросовым ценам выбрать жемчужины среди мусора. По требованию МВФ и Всемирного Банка украинское сельское хозяйство отказалось от государственного регулирования. В результате Украина, когда-то житница Европы, была вынуждена просить продуктовую помощь у США, которые сбрасывали свои излишки зерна в Украину, еще дальше разрушая местную пищевую самодостаточность.
С Россией и республиками бывшего Советского Союза обращались как с Конго и Нигерией, как с источником дешевого сырья, возможно, самым большим источником в мире. После распада Варшавского Договора эти залежи полезных ископаемых впервые с 1917 года оказались доступны для западных транснациональных корпораций. Прежде всего в поле зрения крупных американских и британских нефтяных ТНК попали нефтяные и газовые месторождения бывшего СССР. Как понимали вашингтонские стратеги, современная процветающая промышленная экономика России была бы только помехой для такого разграбления ее сырьевых ресурсов.
В начале 1990-х годов администрация Клинтона предложила Москве термин «зрелое стратегическое партнерство». Многие россияне наивно поверили, что американская помощь и капиталы помогут перестроить энергичную российскую экономику, что с Россией будут обращаться как с равным партнером в некоей форме «мирового совладения» с США, и что ее историческая гегемония над республиками бывшего Советского Союза будет уважаться Вашингтоном. К тому моменту, когда в Москве стало предельно ясно, что это партнерство было пустым и придуманным для обмана лозунгом, было уже слишком поздно. Российский промышленный комплекс был в большинстве своем расчленен. Реформы МВФ ввергли население страны в нищету, возможность России влиять на события на своих границах серьезно уменьшилась. Что вполне устраивало Вашингтон.
Шоковая терапия МВФ в России после 1991 года не только низвела бывшую супердержаву до уровня страны Третьего мира. Она также открыла американским и союзническим нефтяным компаниям возможности контролировать крупнейшего мирового производителя нефти и природного газа. Однако этот процесс должен был занять какое-то время.
При помощи управляемых и подтасованных приватизационных сделок, тех времен столь ценные российские нефтяные и газовые активы были за бесценок розданы избранным дружкам Ельцина и Чубайса. Доклад МВФ в 1998 году оценивал, что 17 российских нефтяных и газовых компаний с примерной рыночной стоимостью, по крайней мере, 17 млрд. долларов были проданы Чубайсом за общую сумму 1,4 млрд. долларов. Кроме того, 60 % государственной газовой монополии «Газпром», крупнейшего мирового производителя газа, было продано частным российским группам примерно за 20 млн. долларов. Рыночная цена составляла около 119 млрд. долларов. Были созданы такие компании, как «Лукойл», «Юкос», «Сибнефть», «Сиданко». Такие олигархи, как Михаил Ходорковский, Борис Березовский и Виктор Черномырдин доминировали в российской экономике в степени, немыслимой для бюрократов коммунистической поры. В ноябре 1996 года Березовский в качестве заместителя секретаря Российского Совета безопасности и как нефтяной олигарх хвастался в своем интервью, что всего семь человек контролируют половину огромных природных ресурсов страны. Он мог бы также добавить, что их доходы были выражены исключительно в долларах.
Летом 1998 года долларизация России чуть не сорвалась. В августе МВФ выдал чрезвычайный кредит на 23 млрд. долларов для поддержки рубля и защиты спекулятивных инвестиций западных банков, которые заработали миллионы на российских государственных облигациях. Попытка МВФ спасти западные банки слишком запоздала.
15 августа Россия объявила дефолт по своим долларовым займам. Для нью-йоркских и других крупнейших банков случилось немыслимое. Несмотря на помощь МВФ, крупнейший должник решился на дефолт. В течение нескольких нервных недель вся долларовая пирамида дрожала до самого основания. Крупнейший в мире хеджевый фонд, «Фонд долговременного управления капиталом», играл по крупному на российском рынке, как и на других мировых рынках облигаций. В его директорах были бывший заместитель председателя Федеральной Резервной Системы Дэвид Маллинс, ведущие инвесторы с Уолл-Стрит и нобелевские лауреаты по экономике. Внезапный дефолт угрожал фонду банкротством и цепной реакцией обвала триллионов долларов по контрактам в финансовых производных. В конечном счете последовала бы череда банкротств, способная обрушить весь мировой финансовый карточный домик. ФРС созвала чрезвычайную встречу за закрытыми дверями с участием 15 самых влиятельных мировых банкиров и принудила всех к спасательной операции. России, слишком ценной в стратегическом плане, тихо простили ее дефолт, и вскоре долларизация продолжилась, хотя и не столь быстрыми темпами.[98]98
Маккарти П. Свидетельские показания перед комиссией по безопасности и сотрудничеству в Европе. Вашингтон, 10 декабря 1998 года. Маккарти, в то время глава «Национального фонда в поддержку демократии», детально описывает роль НФД в финансировании различных групп оппозиции, журналистов, СМИ и профсоюзов в бывшей Югославии начиная с 1988 года. НФД был основан при администрации Рейгана в 1983 году как часть того, что в политических кругах Вашингтона называли «приватизацией разведки». Поумнев после разоблачений того, как ЦРУ финансировало оперативные группы в 1960-х и 1970-х годах, Конгресс согласился создать и финансировать «частные» агентства, вроде НФД, делающие то же самое, но открыто. В интервью «Вашингтон Пост» от 21 сентября 1991 года стратег НФД Аллен Вайнстайн объяснял: «Многое из того, что мы делаем сегодня, 25 лет назад делалось скрытно руками ЦРУ». Когда-то зловещие агенты ЦРУ трансформировались в гуманитарных «активистов» НФД. Вместо выслушивания обвинений в дестабилизации суверенной страны активисты НФД сами обвиняли своих оппонентов в Сербии, Болгарии и в других местах в «коррумпированном национализме». Администрация Буша готовила НФД в конце 2003 года для ключевой роли в «демократизации» пост-саддамовского Ирака. Описание влияния политики МВФ на политическую нестабильность в Югославии в конце 1980-х годов подробно изложено Петером Бахмайером (Балканы как международный протекторат. Цюрих: «Цайт-фраген», 21 октября 2002). Сьюзан Вудворд (Балканская трагедия. Вашингтон: Брукингз инститьюшн, 1995) детально описывает роль политики МВФ в провоцировании беспорядков в Югославии. Подробное описание стратегии НАТО в Югославии можно найти в статье покойного Шона Герваси (О стратегии НАТО в Югославии. Прага: Международный фонд Нино Пасти, январь 1996). Доклад «Расширение НАТО: заигрывая с катастрофой» (Центр оборонной информации, Вашингтон, ноябрь 1995) описывает военные аспекты расширения НАТО. Бывший немецкий парламентарий от ХДС и эксперт по обороне Вилли Виммер в открытом письме на имя канцлера Герхарда Шредера в 2001 году рассказывал свои личные обсуждения с ведущими официальными представителями Вашингтона, которые описывали цели США и НАТО в Югославии в обоснование новой стратегической концепции «НАТО вне границ». Согласно Виммеру, последствия присутствия НАТО в Югославии в апреле 1999 года состояли в прямом доступе партнеров НАТО к сырьевым материалам и контролю над Каспийским морем и Персидским заливом. Это завершало военный контроль НАТО под руководством США от Балтики до Анатолии, «невиданный с момента взлета Римской империи», по выражению Виммера. (Райнер Рупп. Империалистические устремления США на Балканах. Берлин: «Юнге Вельт», 23 июня 2001).
[Закрыть]
Югославию подвергают шоковой терапии
Балканы были выбраны целью для вмешательства США задолго до того, как Советский Союз подвергли американской экономической «шоковой терапии». Главной первоначальной причиной внимания Вашингтона к Югославии была насущность уничтожения югославской экономической модели. По мере развития событий к середине 1990-х стратегическое расположение Югославии по отношению к возможным источникам нефти в Центральной Азии становилось для Вашингтона все более важным. Фактически во второй половине 1990-х годов определяющую роль в балканской политике Вашингтона играли нефть и доллар, хотя и не так упрощенно, как подозревали западные критики.
Задолго до падения Берлинской стены Вашингтон вовсю работал в Югославии, и опять в тандеме с МВФ. Балканским национализмом управляли извне для перекройки карты Евразии, как это было в годы до Первой мировой войны, когда британские и другие интересы вмешались, чтобы развалить Османскую империю и убить немецкие мечты о железной дороге в Багдад.
Очевидной целью на этот раз было раздробить Югославию на крошечные зависимые государства и дать НАТО и США пространство, чтобы развернуться на перекрестке между Западной Европой и Центральной Азией. Нефть и геополитика для Вашингтона играли главную роль.
Забавно то, что с прекращением Варшавского Договора в начале 1990-х, очевидно, исчезла сама причина для существования НАТО. Какая угроза теперь могла бы обосновывать продолжение альянса Холодной войны 1949 года или постоянное военное присутствие США в европейских странах НАТО, не говоря уже про страны восточной Европы? Как только стало ясно, что советская военная угроза исчезла, многие надеялись на то, что НАТО самораспустится. Но еще до краха Советского режима вашингтонские стратеги начали разрабатывать новую цель для НАТО.
В качестве нового мандата НАТО была предложена фраза «использование НАТО вне границ», что означало участие в событиях далеко за пределами стран-членов НАТО. Впоследствии, в 1994 году, этот новый мандат был привязан к вашингтонскому «Партнерству во имя мира», плану постепенного включения оборонной структуры стран Варшавского Договора в структуру НАТО под руководством США. Сенатор-республиканец Ричард Лугар обозначил дилемму, стоящую перед США и НАТО в конце Холодной войны, такими словами: «НАТО: либо выходим из границ, либо выходим из игры». Весьма удачным образом войны на Балканах предоставили Вашингтону столь нужный аргумент в пользу расширения НАТО. Процесс занял более десяти лет.
Более сорока лет Вашингтон тихо поддерживал Югославию и модель смешанного социализма Тито в качестве буфера против СССР. Когда империя Москвы дала трещину, у Вашингтона не стало нужды в этом буфере, особенно в экономически успешном националистическом буфере, который мог бы убедить соседние государства Восточной Европы, что возможен срединный путь, отличный от шоковой терапии МВФ. По мнению высокопоставленных вашингтонских стратегов, югославскую модель следовало разрушить уже только по одной этой причине. Тот факт, что Югославия лежала на критически важном пути к возможным нефтяным залежам Центральной Азии, был тогда еще лишь дополнительным аргументом. Югославию следовало привести, и если нужно, то насильно, к реформам свободного рынка по версии МВФ. НАТО выступало гарантом сделки.
Уже в 1988 году, когда стало ясно, что советская система долго не протянет, Вашингтон послал в Югославию советников из смешной частной некоммерческой организации с громким именем «Национальный фонд в поддержку демократии» или НФД, Эта «частная» организация начала щедро рассыпать доллары во всех уголках Югославии, финансируя оппозиционные группы, скупая мечтающих о новой жизни голодных молодых журналистов, финансируя профсоюзную оппозицию, поддерживающих МВФ оппозиционных экономистов и борющиеся за права человека НПО.
Выступая в Вашингтоне десять лет спустя и за год до натовских бомбардировок Белграда, в 1998 году, директор НФД Пол Маккарти хвастал: «НФД была одной из немногих западных организаций, которая вместе с фондом Сороса и некоторыми европейскими фондами выделяла гранты в Федеративной Республике Югославия и работала с местными НПО и независимыми СМИ по всей стране». Во времена Холодной войны такое внутреннее вмешательство в дела чужой страны назвали бы дестабилизацией ЦРУ. В новом вашингтонском «новоязе» для этого появился термин «укрепление демократии». Что касается уровня жизни сербов, косоваров, боснийцев, хорватов и других – результат был катастрофичен.
Истинное значение того, что происходило в Югославии после 1990 года, понималось лишь немногими посвященными. Вашингтон, используя в качестве инструмента геополитики НФД, «Открытое общество» Джорджа Сороса и МВФ, принес в Югославию экономический хаос. В 1989 году МВФ потребовал, чтобы премьер-министр Анте Маркович провел структурную реформу в экономике. По какой-то причине тот согласился.
Следуя рекомендациям МВФ, югославский ВВП упал на 7,5 % в 1990 году и еще на 15 % в 1991. Промышленное производство упало на 21 %. МВФ потребовал полную приватизацию государственных предприятий. Результатом этого к 1990 году стало банкротство более 1100 компаний и безработица на уровне 20 %. Экономическое давление на различные регионы страны оказалось взрывной смесью. Вполне предсказуемо, что среди нарастающего экономического хаоса каждый регион боролся за собственное выживание и против своих соседей. Не пуская ничего на волю случая, МВФ приказал, чтобы все зарплаты были заморожены на уровне 1989 года, в то время как инфляция значительно выросла, вызвав падение реальных заработков на 41 % только за первые шесть месяцев 1990 года. К 1991 году инфляция превысила уровень 140 %. В этой ситуации МВФ потребовал полную конвертацию динара и отпускание процентной ставки по кредитам. МВФ в явной форме запретил правительству Югославии брать кредиты у своего собственного центрального банка, урезая возможности центрального правительства по финансированию социальных и других программ. Такое замораживание задолго до формального объявления о независимости Хорватией и Словенией в июне 1991 года фактически привело к экономическому распаду государства.
В ноябре 1990 года под давлением администрации Буша Конгресс США принял Закон о присвоении имущества в иностранных операциях. Новый закон США предусматривал то, что любая часть Югославии, не объявившая свою независимость в течение шести месяцев от момента принятия закона, потеряет всю финансовую поддержку США. Закон требовал раздельных выборов в каждой из шести республик Югославии под наблюдением Госдепартамента США. Он также специально оговаривал, что любая помощь будет направляться непосредственно в каждую республику, а не в центральное правительство в Белграде. Короче, администрация Буша потребовала самороспуска Югославской Федерации. Они намеренно поджигали фитиль взрыва новой череды войн на Балканах.
Через такие группы, как Фонд Сороса и НФД, финансовая поддержка Вашингтона переправлялась зачастую в предельно националистические либо бывшие фашистские организации, которые гарантировали бы расчленение Югославии. В ответ на эту комбинацию шоковой терапии МВФ и прямой дестабилизации Вашингтона и в попытке предотвратить распад Федеративной Республики Югославии югославский президент и сербский националист Слободан Милошевич организовал в ноябре 1990 года новую коммунистическую партию. Все было готово для мрачной серии региональных этнических войн, которая продолжалась более десяти лет и привела к гибели более 200 тыс. человек.
В небольшой, но стратегической балканской стране экономическими методами раздували пожар, и раздувала его администрация Буша, В 1992 году Вашингтон наложил на Югославию полное экономическое эмбарго, заморозив всю торговлю и погрузив экономику в хаос с последующей гиперинфляцией и 70 % безработицей. Проправительственные СМИ на Западе говорили публике, прежде всего американской, что все проблемы возникли по вине коррумпированной диктатуры Белграда, Американские СМИ редко или вообще никогда не упоминали ни провокационные действия Вашингтона, ни политику МВФ, которая определяла события на Балканах.[99]99
Встреча крови и нефти: балканский фактор в энергетической безопасности Запада // Журнал Южной Европы и Балкан. Май 2002. Т. 4. № 1. С. 75–89. В течение косовской войны в 1999 году возникло упрощенное толкование, что она произошла из-за нефти. На самом деле, она происходила из-за стратегического отношения ЕС к возможным новым источникам энергии, включая нефть, и вмешательства Ва-шингтона ради контролирования тех же самых источников – то есть слегка отличающаяся ситуация. Вопрос заключался в стратегическом контроле Вашингтоном возможных трубопроводов через Балканы от нефтяных месторождений Каспия, чтобы влиять на энергетическую безопасность ЕС. (Тртица А. Трансбалканские нефтепроводы по ничейной полосе. Сербия: Баня-Лука, 27 февраля, 2001).
[Закрыть]
Война в Боснии завершилась по указке Вашингтона в 1995 году подписанием Дейтонских соглашений. Это совпало с моментом, когда администрация Клинтона убедилась в стратегическом значении каспийской нефти и в усилиях ЕС обеспечить себе доступ к этой нефти по балканским нефтепроводам. Очевидно, Вашингтон решил, что в регионе нужен мир для строительства нефтяных магистралей с Каспия в Европу. Но этот мир следовало заключить на условиях Вашингтона.
После Дейтонских соглашений когда-то многонациональная Босния была утверждена как де-факто мусульманское государство, по сути, государство-сателлит под контролем МВФ и НАТО. Клинтоновская администрация в значительной степени финансировала вооружение армии боснийских мусульман. В международных СМИ войну изображали так, чтобы максимально усилить впечатление о бессилии Европейского Союза, неспособного остановить войну на своих границах без американского вмешательства. Аргументы Вашингтона в пользу расширения НАТО на восток при этом значительно усилились. Польша, Венгрия и Чехия стали перспективными партнерами НАТО, что было немыслимо еще пять лет назад.
Вскоре клинтоновская администрация продолжила работу на следующем этапе разрушения националистических сил на Балканах, которые могли бы предложить региональную программу действий, хоть в какой-то степени отличную от вашингтонской. Американские и британские нефтяные компании боролись между собой за право разрабатывать потенциально огромные нефтяные запасы на Каспийском море возле Баку и в соседнем Казахстане в Центральной Азии. Геологи заговорили о «новом Кувейте и Саудовской Аравии» в этих регионах. По оценкам правительства США, нефтяные запасы могли превышать 200 млрд. баррелей, что означало бы крупнейшее открытие месторождений нефти за последние десятилетия. Хорошо оплачиваемый вашингтонский лоббист Збигнев Бжезинский представлял интересы «Бритиш Петролеум», британско-американского нефтяного гиганта с большим участием в каспийском нефтяном регионе.
Нефтяная геополитика США на Балканах
Не успела рухнуть Берлинская стена, как Европейский Союз по инициативе Франции, Италии и Голландии объявил о широкомасштабной стратегии энергетической безопасности ЕС. Стабильность на Балканах была центральной частью этой стратегии. На саммите ЕС в июне 1990 года голландский премьер-министр Рууд Любберс изложил предложения по созданию европейского энергетического сообщества, связывающего страны «Европейского Экономического Сообщества с СССР и странами Центральной и Восточной Европы». План Любберса был лишь первым в ряду программ помощи ЕС, направленных на энергетическую безопасность ЕС в период после Холодной войны.
К 1992 году ЕС выработал Энергетическую Хартию, которая предоставила бы законодательную основу для инвестиций ЕС в нефтяные и энергетические ресурсы к тому времени распавшегося СССР. Новые независимые государства Каспийского региона, прежде всего Азербайджан и Казахстан, имели первоочередное значение для будущей энергетической безопасности ЕС. Новая клинтоновская администрация, казалось, была занята другими проблемами и в тот момент не обращала внимания на каспийскую нефть. Однако эта ситуация начала понемногу меняться.
К 1994 году, когда ЕС надеялся обеспечить ратификацию Энергетической Хартии 49-ю государствами, среди которых были США и Россия, Вашингтон внезапно отказался ее подписывать по неубедительным техническим причинам. ЕС продолжил без американской поддержки, и в декабре 1998 года странами, подписавшими Хартию, была организована Переходная рабочая группа. Генеральный секретарь этой конференции подчеркнул значение новых нефтяных и газовых регионов, «таких как регион Каспийского моря. Обеспечение надежности поставок из таких областей является ключевой стратегической задачей для правительств». ЕС заговорил о «важной вехе на пути энергетической кооперации Восток-Запад».
Начиная с 1990 года и вплоть до бомбардировки Сербии в 1999 году, ЕС без особого шума предпринял ряд инициатив, включающих помощь по модернизации азербайджанского порта возле Баку, который, согласно одному из докладов Министерства энергетики США, «позволил бы [обеспечить] нефтяные поставки из восточного Каспия вплоть до 500 тыс. баррелей в день». В 1995 году ЕС начал Программу Межгосударственной транспортировки нефти и газа в Европу с целью «повысить безопасность энергетических поставок». В феврале 1999 года непосредственно перед началом бомбардировок Белграда клинтоновской администрацией комиссар ЕС Ханс ван дер Брок обозначил цель Программы как «помощь в высвобождении огромных газовых и нефтяных запасов Каспийского бассейна путем преодоления…узких мест, которые затрудняли им доступ на местные и европейские рынки».
Самое узкое место было впереди: бомбардировки НАТО Белграда.
Правительства Западной Европы однозначно рассматривали район от Балкан до Каспийского моря как стратегическое поле для инвестиций в альтернативные поставки нефти и газа, потенциальный шаг к энергетической независимости, особенно ввиду снижения запасов нефти в Северном море. Со всей определенностью можно сказать, что ведущие политические круги в Вашингтоне в 1999 году такую точку зрения не разделяли.
К середине 1990-х, частично благодаря активному лоббированию Бжезинского и крупнейших нефтяных компаний США, администрация Клинтона начала рассматривать вопрос о каспийской нефти как стратегически приоритетный вопрос. В июле 1996 года Вашингтон сформировал «Южнобалканскую инициативу развития» для обсуждения сотрудничества по трубопроводам с Болгарией, Македонией и Албанией. Он поддержал две каспийские ветки трубопровода. Одна из них должна была пройти из Баку через Грузию в турецкий порт Джейхан. В 1997 году бывший госсекретарь Буша Джеймс Бейкер написал статью в номере «Нью-Йорк Таймс» от 21 июля, озаглавленную «Жизненные интересы Америки на Новом шелковом пути». Бейкер, который позднее стал важной фигурой в последующей администрации Буша-младшего, утверждал, что «стратегическим интересам Соединенных Штатов отвечает установление максимально возможных экономических, культурных и политических связей с Грузией», той страной, которая находилась между каспийской нефтью и западными рынками. «Каспийская нефть может постепенно оказаться настолько же важной для промышленно развитых стран, как ближневосточная нефть сегодня», – добавил он. В то время Бейкер также представлял интересы «Бритиш Петролеум Амоко» в Баку.
Вторая ветка трубопровода, АМБО или «Албанско-македонско-болгарская нефтепроводная корпорация», поддерживаемая правительством США и банком «Ферст Бостон», была заморожена на несколько лет. Вашингтон решил, что прежде чем двигаться дальше, ему следует убрать препятствие в лице режима Милошевича.
Слободан Милошевич, избранный президент Югославии, бывший банкир, в свое время пользовался благосклонностью Вашингтона, полагавшего, что Милошевич будет играть по правилам МВФ. Теперь же в американских СМИ он стал новым «Адольфом Гитлером». Многочисленные свидетельства региональных и сторонних наблюдателей подтверждали, что к середине 1990-х все стороны в дестабилизированной бывшей Югославии были виновны в военных преступлениях: и боснийские мусульмане, и хорватские католики, и сербские православные христиане. Срежиссированные в Вашингтоне и НАТО репортажи, однако же, концентрировались только на одной стороне: на непокорном сербском президенте Милошевиче. До тех пор пока в сердце Балкан оставался хорошо защищенный анклав, отринувший «реформу» МВФ и присутствие НАТО, долгосрочные геополитические планы Вашингтона по контролю трубопроводов с Каспия и из Центральной Азии были заблокированы.
К началу 1999 года администрация Клинтона решила, что настало время это изменить. Милошевич в Рамбуйе с негодованием отверг требования США, печально знаменитое Приложение Б, предписывающее ему позволить войскам НАТО оккупировать Косово и возможно Сербию «по гуманитарным причинам предотвращения геноцида». Предсказуемый отказ Милошевича был использован для обоснования войны. Вашингтон начал кампанию массированных бомбардировок, отринув условности международных законов, Хартию ООН, какое-либо посредничество ООН при этом, Хартию НАТО, которая определяет чисто оборонительную роль альянса, хельсинкские соглашения от 1975 года и даже забыв про объявление войны Конгрессом США, требуемое конституцией США. Президент Клинтон, ссылаясь на «гуманитарные» причины, угрозу неотвратимого геноцида в отношении косовских албанцев, начал безжалостные бомбардировки гражданских объектов в Сербии.
Тысячи тонн бомб спустя, разрушив экономику и инфраструктуру Сербии на примерную сумму 40 млрд. долларов, Пентагон начал строительство одной из крупнейших военных баз США в мире. «Кэмп Бонд Стил» неподалеку от Гнилане на юго-востоке Косово, крепость с 3 тыс. солдат, аэродромом и самыми современными телекоммуникациями дала Соединенным Штатам решающее и, очевидно, постоянное военное присутствие на стратегических Балканах, откуда рукой подать до Каспийского моря.
В июне 1999 года, как только завершились бомбардировки Сербии, правительство США объявило, что оно профинансирует исследование перспективности нефтепровода АМБО. Ссылаясь на установление контроля НАТО над Сербией и Косово, высокопоставленный представитель правительства США Джозеф Грандмейсон объявил: «Перспектива того, что правительство США гарантирует безопасность в регионе, а также обеспечит финансовые гарантии, делает теперь этот проект (трубопровода) гораздо более привлекательным предложением».
Исследование инженерной реализуемости проекта АМБО было предпринято компанией «Браун и Рут» корпорации «Халибертон» в те времена, когда главой «Халибертона» был Дик Чейни. Когда в мае 2000 года результаты нового исследования были опубликованы, посол США Ричард Армитедж, впоследствии заместитель госсекретаря в администрации Буша, заявил: «Албания, Македония и Болгария теперь ищут экономическую компенсацию от Запада за свою поддержку, это можно назвать "прибылью от бомбардировок" или причитающейся платой за поддержку этими окружающими странами действий НАТО во время косовского конфликта».[100]100
Цитируется в «Исследовании выполнимости», трубопроводный консорциум АМБО, май 2000, Министер-ство торговли США, документ Национальной службы технической информации № РВ2000106974. С. 1–78.
[Закрыть]
В той же степени, как когда-то Багдадская железная дорога представляла собой попытку континентальной Германии перед Первой мировой войной открыть независимый от британского морского контроля торговый путь к Персидскому заливу, так, возможно, и новая сеть трубопроводов на Балканах могла бы предложить ЕС разнообразие нефтяных поставок и снижение зависимости от источников энергии, контролируемых США и Россией. После войны в Косово США уничтожили такую возможность энергетической независимости, установив контроль НАТО и США над всеми возможными трубопроводными маршрутами и источниками. Пока Белград расчищал завалы и мусор после бомбардировок косовской войны, США оказались полностью контролирующими все возможные трубопроводы, ведущие в ЕС.
Конец косовской войны означал огромный шаг в военном контроле Евразии единственной сверхдержавой, США. Демократия доллара вновь шествовала вперед. Знамя свободного рынка было прочно водружено посреди разгромленной Югославии. К 2001 году Вашингтон обладал безусловным военным контролем на Балканах. Новый посол США при дворе Св. Иакова в Лондоне Уильям Фэриш, сын богатой нефтяной семьи из Техаса, указывал на огромные нефтяные залежи каспийского региона как на главную причину американского интереса к Балканам.
В интервью «Санди Таймс» 23 сентября 2001 года Фэриш говорил о своей запланированной поездке на Балканы, которая была, по меньшей мере, необычным вояжем для американского посла в Британии. Фэриш был близким другом семьи Бушей, наследником богатств «Стандарт Ойл», понимающим нефтяную геополитику, что, без сомнения, послужило истинной причиной его назначения послом при королевском дворе. Он говорил об укреплении присутствия НАТО на Балканах как о следствии террористических актов в США в том месяце, называя при этом Балканы возможной «буферной зоной по отношению к нестабильным режимам на востоке». Он также упоминал стратегическое значение каспийских энергетических ресурсов и трубопроводов.