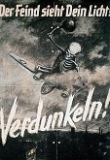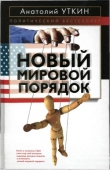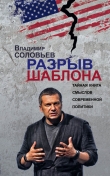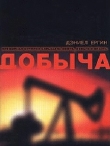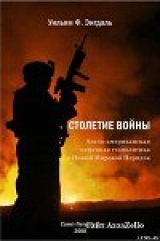
Текст книги "СТОЛЕТИЕ ВОЙНЫ.(Англо-американская нефтяная политика и Новый Мировой Порядок)"
Автор книги: Уильям Энгдаль
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 29 страниц)
Глава 8
КРИЗИС СТЕРЛИНГА И УГРОЗА СО СТОРОНЫ
АЛЬЯНСА ДЕ ГОЛЛЬ – АДЕНАУЭР
Континентальная Европа возрождается из послевоенных руин
В конце 1950-х годов, впервые за последние тридцать лет, мир, по крайней мере большинство западных европейцев, а также поднимающиеся государства Южного полушария, которые тогда еще называли «развивающимися странами», увидел перспективы.
После подписания соглашения в Риме в 1957 году была создана новая форма экономического сотрудничества – Европейский Экономический Союз (ЕЭС), ядром которого стали Франция, Западная Германия и Италия. В январе 1959 года, по условиям этого Соглашения, ЕЭС начал свое существование. ФРГ восставала из руин войны, вновь отстраивая крупнейшие в Европе производственные мощности. В 1958 году во Франции генерал Шарль де Голль вернулся к власти и приступил к решительной реализации плана срочной реструктуризации, подготовленного его экономическим советником Жаком Рюэффом. Целью плана было построить современную инфраструктуру и поднять разоренные промышленность и сельское хозяйство, а также восстановить государственную финансовую стабильность. Италия в конце 1950-х пользовалась плодами экономического процветания, которые в основном были следствием инициатив, запущенных Энрико Маттеи и его ЭНИ.
Фактически впервые за двадцать лет после окончания Второй мировой войны некоммунистические экономики Европы и многие развивающиеся страны переживали беспрецедентный рост промышленности и сельского хозяйства. В начале 1960-х годов обрабатывающая промышленность континентальной Европы увеличивалась на 5 % ежегодно. За период между 1948 и 1963 годами общий объем мировой торговли, которая после 1938 года находилась в упадке, возрос на 250 %, и не было заметно никаких признаков замедления этого процесса. В 1957 году уровень торговли промышленными товарами на мировых рынках впервые превысил уровень торговли сырьем и продуктами питания.
Локомотивом этого подъема стал быстрорастущий общеевропейский рынок. В 1953 году на страны ЕЭС приходилось 16 % мирового экспорта, а в 1960 году они уже обошли США и в абсолютных и в относительных цифрах, производя уже 26 % мирового экспорта на общую сумму около 30 млрд. долларов.
Западноевропейские инвестиции в новые заводы, дороги и инфраструктуру электроснабжения, модернизацию портов в таких городах, как Гамбург, Роттердам и других не менее важных терминалов – все это вместе заложило основу впечатляющего роста производительности западноевропейской экономики. С 1950-х по 1960-е годы производительность труда в расчете на человеко-час росла в западной континентальной Европе со скоростью 7 % в год, в полтора раза быстрее, чем производительность труда в США в этот же период.[53]53
МакКракен П. К полной занятости и ценовой стабильности. Доклад группы независимых экспертов // Доклады ОЭСР. Париж, 1977
[Закрыть]
Начиная с конца 1950-х в процессе этого внушительного промышленного и торгового роста континентальной Европы также значительно расширились торговые отношения с развивающимися странами, что как никогда ранее в этом веке ускорило промышленное развитие этих государств. Показателем этого процесса явился рост в общем объеме мировой торговли доли промышленных товаров из развивающихся стран, которая увеличилась от 6,5 % в 1953 году до 9 % в 1963-м году, что означало только относительный рост на 50 % за одно десятилетие и гораздо больше значило в абсолютных цифрах.[54]54
Байрох П. Международный индустриальный уровень от 1750 до 1980 // Европейская экономическая история. 1982. Т. 11.
[Закрыть]
Повторный приход де Голля к власти во Франции в 1958 году стал политическим событием, сильно подтолкнувшим экономическое развитие европейского континента. Опытный военный и политик де Голль не строил иллюзий по поводу далеко идущих британских замыслов в Европе и все более склонен был считать послевоенные американские цели столь же опасными. Став президентом в 1958 году, де Голль начал серию бесплодных переговоров с президентом Эйзенхауэром, предлагая фундаментальную реформу структуры НАТО, которая позволила бы Франции, среди прочего, накладывать вето на использование ядерного оружия. В сентябре 1959 года он так выражал свои опасения в письме американскому президенту:
«В течение двух мировых войн Америка была союзником Франции, и Франция не забыла, что она обязана американской помощи. Но она не забыла и того, что в Первую мировую войну помощь пришла только через три долгих года борьбы, которая чуть не привела к смертельному исходу, и того, что в течение Второй мировой она была уже раздавлена, прежде чем вы вмешались… Я знаю, как знаете и Вы сами, что государство такое, какое оно есть – с его географией, интересами, политической системой, общественным мнением, страстями, страхами, ошибками. Оно может помочь другому государству, но не сможет идентифицировать себя с ним. Вот почему, хотя я и остаюсь верным нашей коалиции, я не могу согласиться с интеграцией Франции в НАТО».[55]55
Шарль де Голль. Военные мемуары. Лондон: «Виденфельд и Николсон», 1967.С.214.
[Закрыть]
Поскольку Вашингтон остался глух к предложениям Франции, де Голль инициировал создание независимых французских сил быстрого ядерного развертывания и объявил о выходе средиземноморского военного флота из-под командования НАТО. В 1960 году Франция успешно испытала в Сахаре свою первую ядерную бомбу. Де Голль ясно выразил новые политические взгляды возрождающейся послевоенной Европы.
Одним из первых шагов де Голля на посту президента стало приглашение немецкого канцлера Конрада Аденауэра на встречу в свое личное убежище в Коломбей-ле-де-Эглиз недалеко от Парижа в сентябре 1958 года. Это было началом не только исторического политического сближения между бывшими врагами, но также началом близкой личной дружбы между двумя закаленными ветеранами войны. Своей высшей точки этот процесс достиг пять лет спустя, 22 января 1963 года, когда де Голль и Аденауэр подписали «Соглашение между Французской Республикой и Федеративной Республикой Германия», очертив в нем контуры тесного взаимодействия глав государств, скомбинированного с различными формами экономической и политической координации обеих стран.
Это соглашение стало тревожным звонком и для Вашингтона и для Лондона. Континентальная Европа под руководством де Голля, Аденауэра и Альдо Моро (Италия) становилась слишком независимой во всех отношениях, чтобы кое-кто продолжал чувствовать себя комфортно. В Лондоне отнюдь не осталось незамеченным, что на следующий день после подписания исторического франко-немецкого соглашения французское правительство наложило вето на британскую заявку на членство в ЕЭС, что отразило глубокое и давнее недоверие де Голля по поводу отношения Британии к сильной и независимой континентальной Европе.
Большой англо-американский заговор против Европы
В начале 1962 года влиятельные политические круги в вашингтонской администрации Джона Кеннеди сформулировали свою альтернативу притязаниям Европы на независимость, выразившимся в возрастающем сотрудничестве между Германией Аденауэра и Францией де Голля. Группа политических советников, включая все еще влиятельного Джона Дж. Макклоя, который в 1949–1952 годах был верховным комиссаром Трумэна в Германии, советника по национальной безопасности Белого Дома МакДжорджа Банди, министра финансов Дугласа Диллона, заместителя Госсекретаря Джорджа Болла и Роберта Боуи из ЦРУ, сформулировала противоположный франко-германскому представлению о сильной и независимой Европе термин: «большой атлантический план».
На фоне бурной риторики в поддержку Европы Жана Моне суть вашингтонской политики сводилась к тому, чтобы открыть новый общеевропейский рынок для американского импорта и жестко запереть его в военный альянс НАТО, в котором голоса Британии и США преобладали. План Вашингтона также требовал поддержки членства Британии в ЕЭС, который тогда состоял из шести стран – то, против чего, как отмечалось, по веским причинам выступал де Голль.
Во время встречи де Голля и Аденауэра в январе 1963 года вашингтонская политика противодействия была максимальной и скоординированной с аналогичной британской. Госдепартамент Кеннеди не делал секрета из своего сильнейшего недовольства франко-германским соглашением. Американское посольство в Бонне получило инструкции оказать максимальное давление на некоторых членов партии ХДС Аденауэра, либеральной СвДПГ Эриха Менде и оппозиционной СДПГ. За два дня до первого чтения франко-германского Соглашения в Бундестаге 24 апреля 1963 года канцлером был избран Людвиг Эрхард, жесткий оппонент де Голля и откровенный атланстист, поддерживавший вступление в ЕЭС Британии. Итог всей работы Аденауэра на посту канцлера – ратификация франко-германского Соглашения – был украден у него в последний момент англо-американской кликой.
С этого момента содержание формально ратифицированного франко-германского соглашения превратилось в пустую бумажку. Канцлер Людвиг Эрхард неэффективно управлял разделившейся на два лагеря партией. В июле 1964 года в ответ на вопрос прессы о прогрессе в реализации франко-германского соглашения сам де Голль нарисовал мрачную картину состояния немецко-французских отношений. «Нельзя пока сказать, – заявил де Голль с горечью по поводу своих отношений с преемником Аденауэра, – что Германия и Франция согласились проводить совместную политику, и нельзя оспорить тот факт, что это является результатом того, что Бонн до сих пор не считает, что эта политика должна быть европейской и независимой».
На тот момент влиятельные лондонские и вашингтонские круги заблокировали опасность мощного и независимого от англо-американского атлантического замысла альянса в европейской политике. Слабейшее европейское звено, послевоенная «оккупированная» Германия, было разорвано. Базовый британский стратегический «баланс сил» в континентальной Европе вновь был восстановлен, как перед 1914-м годом. На этот раз Англия восстановила это «равновесие» руками Госдепартамента США. Сейчас англо-американцам оставалось решить проблему с де Голлем. Но это оказалось нелегким делом.[56]56
Луи П. де Мани. Кто говорит за Европу? Видение Шарля де Голля. Лондон: «Виденфельд и Николсон», 1977; Менде Э. От кризиса до кризиса: 1962–1982. Мюнхен: Хербиг Ферлаг, 1986.
[Закрыть]
1957 год: точка невозврата для Америки
Хотя на первом этапе Вашингтон поощрял создание ЕЭС, чтобы он служил более эффективным рынком для экспорта американских промышленных товаров и капитала, меньше всего англо-американский истеблишмент желал видеть континентальную Европу политически и экономически независимой.
Эта проблема приняла новый зловещий оборот, когда в конце 1957-го года США вошли в первый этап глубокого устойчивого послевоенного экономического спада, результатом которого стали стагнация в промышленности и выросшая безработица. Этот спад продолжался до середины 1960-х годов.
Фундаментальные причины этой рецессии мог бы с легкостью предсказать любой, кто серьезно над этим задумался бы. Прошло двадцать лет с тех пор, как огромный объем инвестиций в промышленные предприятия и оборудование вытащил экономику США из депрессии 1930-х годов, само же промышленное развитие пришлось на военное время – 1939–1943 годы. К 1957 году и заводы, и оборудование, равно как и уровень профессиональной подготовки рабочих и служащих нуждались в обновлении на базе современных технологий. Соединенные Штаты в конце 1950-х годов столкнулись с необходимостью огромных реинвестиций в свои производительную рабочую силу, систему образования и технологическую базу, чтобы продолжать оставаться ведущей мировой индустриальной экономикой.
Но, к сожалению для США и остального мира, ведущие американские политические круги позаботились, чтобы после рецессии 1957-го в Вашингтоне возобладала именно неверная политическая альтернатива. В американских политических кругах прошли дебаты по поводу путей выхода из кризиса. Нью-Йоркский Совет Международных отношений, Фонд братьев Рокфеллеров и другие организации предлагали свои политические варианты. Именно в этот период амбициозный юный гарвардский профессор по имени Генри Киссинджер присоединился к группе Рокфеллера.
Вопрос заключался в том, что делать со все углубляющимися последствиями рецессии в США. Естественная потребность промышленников и фермеров в дешевых кредитах, технологическом прогрессе и капитальных инвестициях была отодвинута в сторону, благодаря мощной комбинации либерального истеблишмента Восточного побережья. Как мы отмечали ранее, к концу 1950-х годов банки Нью-Йорка купались в невероятно мощной сконцентрированной финансовой власти и искали источники своих прибылей уже вдали от американских берегов.
Решающим голосом в этих спорах стал голос председателя Нью-Йоркского Совета Международных отношений Джона Дж. Макклоя. Именно он лично выписал Киссенджера в конце 1950-х из Гарварда, чтобы тот формулировал политические рецепты, которые изготавливались для нации «мудрецами» макклоевского Совета Международных отношений. Адвокат с Уолл-Стрита Макклой в то время был председателем банка «Чейз Манхеттен». Как мы отмечали ранее, «Чейз Манхеттен» был банком Большой Нефти. В 50-х годах крупные американские транснациональные нефтяные корпорации и их банкиры в Нью-Йорке рассматривали весь мировой рынок как свои личные угодья, не замыкаясь в узких границах США. Саудовская Аравия стала для них в некотором смысле более «стратегической», чем Техас. Как мы увидим далее, этот момент стал решающим фактором.
После 1957 года в политических дебатах в США верх взяли международные банки Южного Манхэттена и Уолл-Стрита, используя влияние национального телевидения и газет, которые ими контролировались. В успехе продвижения политики, прямо противоречащей интересам государства и его граждан и ставшей поворотной точкой, имело решающее значение то, что большие международные банки Макклоя и его друзей были связаны тесными узами с нарождающейся телевизионной сетью с центром в Нью-Йорке, а также контролировали некоторые важные средства массовой информации, такие как «Нью-Йорк Таймс». Именно в это время народ назвал эти круги «Либеральным истеблишментом Восточного побережья».
«Этот Шеви-58…»
В конце 1960-х годов фермер из Айовы или квалифицированный машинист из Цинциннати имели мало представления о том, что было поставлено на карту в последние дни президентства Эйзенхауэра. Но уже тогда большие, ориентированные на международные операции банки Нью-Йорка начали подготовку к переходу на зеленеющие зарубежные финансовые поля, покидая пространство американских инвестиций.
Однажды Генри Форд заявил, что он охотно платил высокие зарплаты в промышленности, продавал самые недорогие в мире автомобили и при этом стал богатейшим человеком в мире – и все это благодаря использованию современнейших технологий. Печально, но в ранние 1960-е влиятельнейшие голоса в американском политическом истэблишменте забыли уроки Форда. Они были слишком озабочены процессом создания «быстрых денег» с помощью типичной торгашеской игры «покупай дешево, продавай дорого».
В самой «Форд Мотор Компани» к концу 50-х полный контроль над корпорацией получил бухгалтер Роберт МакНамара. Американский истэблишмент уклонялся от инвестиций в реконструкцию городов США, от вложений в образование населения, от инвестиций в более современное промышленное производство и тем самым от укрепления национальной экономики. Вместо этого их доллары выводились из Соединенных Штатов, чтобы скупать «по дешевке» уже действующие промышленные компании в Западной Европе, Южной Америке или в возрождающейся Азии.
После кризиса 1957 года крупная американская промышленность и банки начинали все в возрастающей степени следовать ущербной «британской модели» промышленной политики. Систематическое мошенничество с качеством продукции становилось повседневным. Мильтон Фридман и другие экономисты предпочитали называть это «монетаризмом», но это было ни чем иным, как крупномасштабным вторжением в американскую производственную базу британских методов «покупай дешево, продавай дорого», которых Британия придерживалась, начиная с 1846 года. Идущее от осознания своего мастерства чувство собственного достоинства и приверженность к техническому прогрессу стали уступать место корпоративной финансовой «нижней строке», в которой записывалась каждые три месяца чистая прибыль корпоративных акционеров.
Чтобы понять, как это работало, среднему американцу достаточно было просто посмотреть на свой семейный автомобиль. Вместо того чтобы после 1957-го года сделать необходимые изменения для модернизации заводов и оборудования и тем самым увеличить их технологическую производительность, Детройт принялся изворачиваться. В 1958 году количество стали для «Шевроле» производства «Дженерал Моторс» снизилось до половины уровня модели 1956 года. Нет нужды говорить, что одним из результатов стала резко возросшая смертность на дорогах. Национальная металлургия также отражала этот процесс. В 1955 году американские доменные печи произвели 19 млн. тонн стали для автомобильной промышленности, а в 1958 это количество упало до 10 млн. тонн. В начале 1960-х годов то, «что хорошо для "Дженерал Моторс"» стало плохим для Америки и всего мира. Да и американцы платили гораздо больше за этот «Шеви-58». Красивая реклама на Мэдисон Авеню, все увеличивающиеся задние «плавники» и хромовая отделка были предназначены для того, чтобы залакировать реальность. Чтобы компенсировать снижение прибылей, промышленность США была вынуждена совершать систематическое самоубийство, обманывая своего клиента. Но подобно пьянице, падающему с двадцатого этажа и воображающему, что он летит, большинство не осознавало реальных последствий этой «постиндустриальной» тенденции 1960-х на следующие десять или двадцать лет.
Долларовые войны 1960-х
Из-за более высокого процента прибыли за рубежом при покупке действующих западноевропейских компаний задешево нью-йоркские банкиры начали поворачиваться спиной к США. В Европе был огромный дефицит капиталов из-за войны и полного упадка промышленности. В результате она была вынуждена платить значительно более высокий процент, чтобы привлечь единственно доступную тогда «международную» валюту – американские доллары из банков Нью-Йорка.
Со своей стороны «Чейз Манхэттен», «Ситибанк» и другие воспользовались шансом получить неожиданные барыши в Европе, зачастую вдвое большие, чем те, которые бы они получили, вкладывая свои средства в муниципальные облигации США для восстановления канализационных систем, мостов и жилищного фонда. Проблема заключалась в том, что Вашингтон, опасаясь оттолкнуть влиятельные финансовые круги Нью-Йорка, по сути, отказывался решать эту жизненно важную проблему. Деньги покидали берега США в погоне за более высокими прибылями за рубежом.
В начале 1957 года впервые после окончания Второй мировой войны капиталы начали уходить из Соединенных Штатов в количествах больших, чем привлекаемые. За периоде 1957 года по 1965 чистый экспорт капитала США в Западную Европу увеличился с менее чем 25 млрд. долларов до более чем 47 млрд. долларов США, ужасающей по меркам тех дней суммы.
Но если бы проблемой были только покидающие США американские доллары. Это дополнялось ускоряющимся с 1958 года устойчивым снижением объемов золотого запаса США. Крах Бреттон-Вудской монетарной послевоенной системы стремительно приближался, но американские политики отказывались это видеть. Они прислушивались к мнениям нью-йоркских банков, больших нефтяных компаний и крупных американских корпораций, которые после рецессии 1957 года в поисках путей увеличения прибыли начали разворачиваться к дешевой рабочей силе за пределами Соединенных Штатов.
К концу 1950-х годов, прошедших под знаком превосходства США, доллар как мировая резервная валюта послевоенной Бреттон-Вудской системы превратился в платежное обязательство в полном смысле слова, Европа снова начала достигать независимого индустриального статуса с гораздо более высокими показателями производительности по сравнению со стареющей экономикой США, и уже одно только это драматизировало растушую слабость экономического положения США на момент приведения президента Кеннеди к присяге в начале 1961 года.
Когда американские участники переговоров в Бреттон-Вуде вырабатывали свои правила послевоенной международной валютной системы в 1944 году, они заложили в ее основу фатальный порок. Бреттон-Вуд установил «золотовалютный стандарт», в соответствии с которым все страны – члены нового Международного валютного фонда – договорились увязывать стоимость своей валюты не с золотым эквивалентом, а непосредственно с американским долларом, фиксированная стоимость которого, в свою очередь, была установлена в 35 долларов США за унцию.
35 долларов за унцию были той ценой, на которой доллар был зафиксирован со времен Рузвельта в 1934 году в течение глубокой Великой Депрессии. Это отношение доллара к золоту не устарело за более чем четверть века, несмотря на вмешательство Второй мировой войны и драматического развития послевоенных событий в мировой экономике.
Пока Соединенные Штаты оставались единственной в западном мире мощной экономической державой, эти фундаментальные недостатки можно было игнорировать. Первые десять лет после войны Европа срочно нуждалась в долларах для финансирования восстановления и приобретения американской и британской нефти для своего экономического подъема. В США также находилась значительная часть мирового золотого запаса. Но в начале 60-х годов многим стало ясно, что что-то изменится в фиксированных Бреттон-Вудских соглашениях, поскольку Европа начала развиваться опережающими США темпами.
Однако Вашингтон, находясь под растущим влиянием нью-йоркского банковского сообщества, отказывался играть по тем правилам, которые были согласованы союзниками в 1944 году. Банки Нью-Йорка начинали инвестировать за рубеж в новые источники высоких прибылей. Провал попыток Вашингтона под руководством Эйзенхауэра и его преемника – демократа Кеннеди прервать этот обширный отток жизненно важного инвестиционного капитала стал ядром проблемы, которая в 1960-х годах стала источником все ухудшающихся международных валютных кризисов.
Какой же международный банкир из Нью-Йорка захочет рекламировать тот факт, что он получает огромные доходы, отказываясь от инвестирования в будущее Америки? В соответствии с Докладом президента Конгрессу США в январе 1967 года, за период с 1962 года по 1965 год корпорации США получали в Западной Европе от 12 до 14 % годовых. Те же самые инвестиции в промышленность США приносили менее половины от этого!
Банки тихо лоббировали Вашингтон, чтобы продолжать свою игру. Они держали свои доллары в Европе, вместо того чтобы возвращать прибыли на родину и вкладывать их в развитие Америки. Так началось то, что позже стало известно как рынок евродолларов. Это был рак, угрожавший в 70-х годах разрушить всю мировую валютную систему.
Очевидно, было бы гораздо лучше для страны и фактически для всего остального мира, если бы Конгресс США и Белый Дом потребовали бы вместо этого от налоговой и кредитной политики направить эти миллиарды при справедливой норме прибыли в новые американские заводы и оборудование, передовые технологии, в транспортную инфраструктуру, модернизацию сгнившей железнодорожной системы и в развивающийся промышленный потенциал рынка стран третьего мира, еще незадействованный для экспорта американской промышленности. Возможно, это было бы более целесообразно для страны, но не для власти некоторых влиятельных нью-йоркских банков.
Если данная национальная экономика производит некий объем товаров на продажу на одной и той же технологической базе в течение, скажем, десяти лет и печатает двойной объем своей национальной валюты для того же объема продукции, относительно начала десятилетия, то «потребитель» замечает эффект значительного роста цен. Он в 1960 году платит два доллара за кусок хлеба, который стоил ему только один доллар в 1950 году. Но когда этот эффект оказался распределен по всей мировой экономике в силу господствующего положения доллара США, реальность этого раздувания могла быть замаскирована немного дольше. Результаты, однако, были не менее разрушительными.
В свои первые дни в офисе под руководством своих советников президент Линдон Байнс Джонсон, политик из крохотного техасского городка, не разбирающийся в международной политике, не говоря уже о денежно-кредитной, отменил принятое ранее решение Джона Кеннеди. Президента Джонсона подвели к мысли, что полномасштабная война в Юго-Восточной Азии поможет решить многие проблемы стагнации экономики США и покажет всему миру, что Америка все еще непоколебима.
Вьетнамский вариант принят
После трагической войны во Вьетнаме написаны тома об ее причинах и мотивах. Но логически было ясно, что значительная группировка в американской оборонной промышленности и финансовых кругах Нью-Йорка приветствовали решение Вашингтона о войне, несмотря на абсурдные военные обоснования и противоречивую внутреннюю реакцию, поскольку военное строительство предлагало им политически обоснованный предлог оживить значительный перекос промышленности США в производство оборонной продукции. Все больше и больше в 1960-е годы сердце экономики США превращалось в своего рода военную экономику, где Холодная война против коммунистической опасности служила оправданием расходов в десятки миллиардов долларов. Военные расходы становились резервом для глобальных экономических интересов нью-йоркских финансовых и нефтяных кругов, еще одно эхо Британской империи XIX века, прикрытое в XX веке борьбой с коммунизмом.
Стратегия вьетнамской войны с самого начала была старательно разработана министром обороны Робертом МакНамара, советником по национальной безопасности МакДжорджем Банди совместно с пентагоновскими разработчиками и ключевыми советниками вокруг Линдона Джонсона как «война без победы», с тем чтобы обеспечить длительное накопление оборонной составляющей экономики. По мысли Вашингтона, американские избиратели примут большие расходы во имя новой войны против предполагаемых «безбожных строителей коммунизма» во Вьетнаме, несмотря на огромный бюджетный дефицит США, если это даст рабочие места в оборонной промышленности.
Благодаря правилам Бреттон-Вуда, раздувая доллар через огромный внутренний дефицит, Вашингтон фактически мог заставить Европу и других торговых партнеров «проглотить» эти военные издержки США в виде «подешевевших» долларов. До тех пор пока Соединенные Штаты отказывались девальвировать доллар против золота с учетом ухудшения экономической активности в США, с 1944 года Европе приходилось оплачивать расходы США по тому же соотношению доллар – золото, что и двадцать лет назад.
Для финансирования огромного дефицита своего «Великого Общества» 60-х годов и вьетнамского строительства, Джонсон, боясь потерять голоса в случае подъема налогов, просто печатал доллары, продавая больше казначейских облигаций США, чтобы покрыть дефицит. Начиная с 1960 года дефицит федерального бюджета США в среднем был около 3 млрд. долларов ежегодно. Он достиг тревожной цифры в 9 млрд. долларов в 1967 году в связи с тем, что военные расходы резко возросли, а уже в 1968 году – пугающей цифры в 25 млрд. долларов.
Центральные банки в Европе в этот период начинают накапливать большие долларовые счета, которые они используют в качестве официальных резервов, так называемые евродолларовые накопления за рубежом. По иронии судьбы, в 1961 году Вашингтон просил союзников в Европе и Японии (Группа десяти) уменьшить вывод золотого запаса США, сохраняя свои растущие резервы в долларах без обмена их на золото, как было предписано Бреттон-Вудской конференцией.
Европейские центральные банки получали прибыль от этих долларов, инвестируя в американские государственные казначейские облигации. Общий же эффект заключался в том, что европейские центральные банки тем самым «финансировали» огромный дефицит США в 60-е годы, годы вьетнамской катастрофы. Говорят, что американский футурист Герман Кан возбужденно говорил своему приятелю, узнав об этих подробностях: «Мы сорвали крупнейший куш в истории! Мы заткнули за пояс Британскую империю». Но в тот момент это не казалось столь очевидным для тех, кого «заткнули за пояс». Как мы вскоре увидим, лондонский Сити готовился вернуться на мировую сцену с помощью американских долларов.
Очевидно, состояние европейских экономик, таких как Германия и Франция, в 1964 году уже отличалось от того, каким оно было в 1944-м, когда составлялись Бреттон-Вудские соглашения. Но политические круги США отказывались прислушиваться к их протестам, особенно со стороны де Голля во Франции, поскольку они полагали, что девальвация доллара приведет к сокращению полномочий «всемогущих» банков Нью-Йорка на мировых рынках капитала. Вашингтон брал пагубный пример с Англии в преддверии Первой мировой войны 1914 года.
Ранее, когда банкиры Нью-Йорка начали выводить большие средства за пределы Соединенных Штатов для спекуляций в Западной Европе или Латинской Америке, президент Кеннеди попытался вновь поднять американский технологический энтузиазм и стимулировать значительные инвестиции в новые технологии, запустив лунную программу «Аполло» и процесс создания НАСА. Еще в 1962 году значительное большинство населения Америки верило, что страна найдет «продуктивный выход» этого кризиса.
Но 22 ноября 1963 года Джон Кеннеди был убит в Далласе, Техас. Новоорлеанский судья Джим Гаррисон, в то время вовлеченный в расследование в качестве окружного прокурора Нового Орлеана, и многие годы спустя продолжал настаивать, что это убийство было осуществлено ЦРУ с помощью ряда фигур из организованной преступности, включая Карлоса Марчелло. Среди прочего, за несколько дней до своей гибели Кеннеди после переговоров с бывшим генералом Дугласом А. Макартуром был готов выйти из Вьетнама; это изменение политики подтверждал и его близкий друг и советник Артур Шлезингер.
Причины убийства Джона Ф. Кеннеди являются предметом многочисленных спекуляций, которые начались уже в ноябре 1963 года. Но ясно, что молодой президент продвинулся по целому ряду стратегических направлений, чтобы сформировать свою собственную американскую политику, путь, на котором пункт за пунктом начинали возникать противоречия с влиятельными финансовыми и политическими интересами, управлявшими либеральным истэблишментом Восточного побережья. Более чем за два года до своей роковой поездки в кортеже по Дили Плаза в Далласе в мае 1961 года Кеннеди приезжал в Париж, где лично встречался с генералом де Голлем.
В своей книге «Воспоминания надежды» де Голль дает выразительную личную оценку американскому президенту. Кеннеди представил де Голлю американские аргументы в поддержку диктатуры Нго Динь Зьема в Южном Вьетнаме и первые меры, предпринятые для высадки подразделений американского экспедиционного корпуса под прикрытием экономической помощи этой стране в Юго-Восточной Азии. Кеннеди убеждал де Голля, что было важно создать бастион против советской экспансии в Индокитае. «Но вместо одобрения, как он того хотел, я сказал президенту о том, что он ступил на неверный путь», – пишет де Голль.