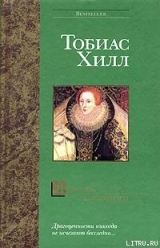
Текст книги "Любовь к камням"
Автор книги: Тобиас Хилл
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 26 страниц)
Я прохожу по двору и стучу в дверь. Птичья песенка обрывается на полуфразе. Других звуков в доме не раздается, ни голосов, ни шагов. Когда дверь открывается, я, полуотвернувшись, смотрю на двор.
В дверном проеме стоит гигант. Даже без тюрбана он, должно быть, выше меня больше чем на фут, а я не маленькая женщина. Лицо у него смуглое, орлиное, семитское. Ловлю себя на том, что сосредоточилась на его огромных руках и чертах лица, словно разглядываю ребенка. Его рост и молчание сбивают меня с толку. Он ждет, пока я соберусь с мыслями.
– Прошу прощения. Я ищу женщину по фамилии фон Глётт. Она живет здесь? Вы говорите по-английски?
Гигант делает полукивок-полупоклон.
– Меня зовут Кэтрин Стерн.
Он ждет, придерживая одной рукой дверь. Вижу, что в другой у него что-то гладкое, похожее на ствол пистолета.
– Я торгую драгоценностями. Жемчужинами. Ничто в его лице не меняется, но он убирает руку с двери. В другой у него не оружие, а деревянный духовой инструмент. В красной древесине просверлены отверстия. Гигант ведет меня в дом. Каменные стены коридора побелены известью. Сводчатый потолок низкий и плохо освещен. Пахнет нафталином. Откуда-то издалека доносятся голос с американским акцентом и звуки стрельбы.
– Прошу вас.
Я осматриваюсь. Гигант, сгорбясь, ждет. В коридоре его сила выглядит нелепой, обращенной против себя. Я иду следом за ним. По обеим сторонам коридора статуи, персидские и вавилонские, каменные и гипсовые. Сделанные в форме черепов часы времен Османской империи перетикиваются на длинных полках друг с другом. Атмосфера накопленного богатства, сохранившиеся красоты древних империй.
Гигант идет быстро. Его босые ступни не издают ни звука. Откуда-то снова слышатся голоса, становится виден конец коридора. Подходим к портьере из нитей черных бусин, сквозь них мерцает свет. Гигант раздвигает нити, и я вхожу.
В полной килимов и диванов комнате старуха смотрит телевизор. Спина ее совершенно прямая, волосы окрашены в стальной цвет. На ней белое кашемировое платье с желтовато-серым оттенком и бесформенные отороченные мехом шлепанцы. Телевизор большой. На экране Арнольд Шварценеггер в роли Терминатора. Домовладелец в халате стучится к нему в дверь. Арнольд поднимает взгляд от похищенной книги. Позади него сквозь узорчатую ширму светит диярбакырское солнце. На приставном бронзовом столике джин с тоником.
Гигант уходит. Старуха отрывается от телевизора и смотрит на меня. Она хрупкая, как древний фарфор, кожа у нее почти прозрачная.
– Кто вы? Налоговый инспектор?
По-немецки она говорит с восточным аристократическим произношением. Непохожим на городское, франкфуртское или берлинское. В Лондоне ее прозвали бы мудрой старой птицей, но в ней есть и нечто характерно немецкое. Отчасти это строгая утонченность одежды и косметики, готическая мрачность единственной нитки черного жемчуга. Отчасти какая-то сила. Выглядит она стойкой и вместе с тем хрупкой, как алмаз. Несовместимости, которые тем не менее сосуществуют.
Взгляд у нее проницательный, холодный. Старуха может погнать меня из-за любой мелочи, а я могу предложить ей всего-навсего одну жемчужину. Теперь, когда я здесь, она кажется не такой уж ценной. Мне нужно быстро завладеть вниманием хозяйки и не давать ему угаснуть. Решив, как начать, говорю по-английски:
– Мне ваш дом нравится. – Немка молчит, и я делаю еще одну попытку. – Я всегда думала, что восхищающиеся камнями люди живут в окружении красивых вещей.
– Камнями? – Она рявкает, словно я глухая или рассеянная. – Камни я терпеть не могу.
По-английски она говорит с более сильным акцентом, чем Шварценеггер. На экране Терминатор идет сквозь завесу перекрестного огня.
– Драгоценностями.
Я делаю два шага в комнату, затем еще один.
– Драгоценностями, да. И у меня все красиво. Мой вкус безупречен.
– Безусловно. Что у вас с ковровыми шлепанцами?
Пауза, достаточно долгая, чтобы задаться вопросом, не ошиблась ли я в ней. Старуха подается вперед, словно намерена плюнуть. Но вместо этого отпивает глоточек джина и слегка улыбается.
– Раз вам интересно, я жду присылки новых шлепанцев. Из Парижа.
Немка тяжело опускает стакан. Непонятно, гнев причиной тому, опьянение или просто плохая координация. Она смотрит на меня, голова у нее трясется. Она очень стара.
– Вы явно не из налоговой инспекции. Те прилетают из Германии и всегда надлежаще одеты. Притом никогда не бывают такими невежливыми. Вам очень повезло, дорогая моя, что у меня есть чувство юмора. Как вас зовут?
– Кэтрин Стерн.
– Что вам нужно в моем доме?
Я подхожу к столу, кладу рядом со стаканом жемчужину. На ее розовой поверхности мерцает свет. Старуха берет ее с величайшей осторожностью, словно может раздавить пальцами, как яйцо крохотной птички. Хотя это не хрупкий камень, жемчужина. Нежная, однако обладающая органической прочностью. Округлый перламутр эластичнее плоского кристалла. Я начинаю описывать драгоценность, ее вес и происхождение, но фон Глётт жестом меня останавливает.
Из телевизора гремят стрельба и музыкальное сопровождение. Разглядев в жемчужине все, что хотела, старуха зажимает ее в кулак. Снова поднимает взгляд на меня и хлопает по дивану рядом с собой:
– Идите сюда, присаживайтесь. Я должна счесть это подарком? Или же уплачу вам пятьсот долларов. Не больше.
– Я пришла к вам не ради денег.
Фон Глётт снова разжимает руку. Жемчужина светится на ее серой коже. Склонив голову набок, она улыбается:
– Очаровательная. Очаровательная.
– Я пришла поговорить с вами.
– А вы добиваетесь своего. – Рука ее сжимается. – Мне кажется так, Кэтрин Стерн.
– Иногда.
– Иногда. Попьем чаю, потом поговорим. – Она шарит по диванным подушкам, пока не находит пульт дистанционного управления. Ударяет им трижды о приставной стол, убирает звук телевизора, кричит все сразу: – Хасан! Чаю. Закусок. Молока.
Из-за портьеры доносится какой-то шелест. Моему воображению представляется гигант, который ходит босиком по дому. Старуха вновь обращается ко мне:
– Меня зовут Ева фон Глётт. Пока вы здесь находитесь, будете обращаться ко мне «Глётт» или «мэм». К чаю вам нужно молока. Вы англичанка.
– Спасибо.
Она трет жемчужину между ладонями, словно обмылок. На стене позади нее черно-белая фотография мужчины лет сорока с лишним. Выцветшая от времени и восточной жары. Красивое, чисто выбритое лицо, улыбающееся из прошлого. Немецкий военный мундир.
– Какая это прелесть, жемчужины. Кэтрин, вам нравятся алмазы?
– Нравятся, пожалуй, не то слово.
– Я так и знала. Алмазы! – Смех у нее неприятный, визгливое хихиканье, как в салонах красоты. – Алмазы – просто-напросто возвеличенный уголь. В раю ангелы будут бросать их в огонь. А все самоцветы вульгарны. Безделушки. Камни, с какой стати мне их носить? Меня что, может унести водой? Когда умру, камней на груди у меня будет предостаточно. Но жемчужины…
Хасан, тот самый гигант, входит с чаем, тарелкой маслин, тарелкой хурмы. Я смотрю, как он ставит поднос на стол, наливает две чашки. На нас он не смотрит. Все его движения бесшумны. Поднос, оставленный им, старый, из лакового дерева, инкрустированный золотыми листьями. Рядом со мной Ева фон Глётт все говорит и говорит:
– Да, жемчужины. Они так изящны, обладают такой утонченной красотой. Они растут. Маленькие жизни. Представляют собой функцию боли.
Она берет маслину. Ест. Вынимает косточку из зубов. Поговорить она любит, и я думаю, с кем ей разговаривать в своем обнесенном стеной особняке? Стараюсь не давать ей умолкнуть.
– Боли?
– Да. У моллюска нежная плоть. Легкоранимая. Когда туда попадает песчинка, плоть окутывает боль в перламутр. Устраняет рану. Жемчужина – это функция боли. Но это и часть ее красоты, вам не кажется?
– Не думала об этом.
– Я считаю так и думала об этом много. – Она отпивает чаю. От него в пробивающемся сквозь шторы свете поднимается пар. – В них есть очарование красивых девушек. Они бывают всех оттенков человеческой кожи. У вас кожа хорошая. Если станете следить за собой, будете очень красивая.
– Ну конечно.
Она снова смотрит на экран. Мы сидим рядом на диване, не разговаривая. Женщина, любящая жемчужины, и женщина, любящая камни. Будто старые приятельницы, оскорбляющие друг друга.
Звук выключен. На экране мужчина и женщина занимаются сексом. Свет и тени падают на их плоть, лица. Все оттенки кожи. Ева фон Глётт с приоткрытым ртом смотрит на них, но недолго. Ждать больше нельзя, и я начинаю негромко говорить:
– Я ищу кое-что. Слышала, что вы могли бы помочь мне. Это драгоценность. Знаменитая. Я занята поисками вот уже… Я готова на все…
Смотрю на свои руки. Костяшки пальцев розоватые, как жемчужины. Черчу на коже рисунок: треугольник, бриллиант.
– Это золотой треугольник. Средневековая вещь. Из Бургундии. Аграф величиной с мою ладонь. Золото с восемью вправленными камнями. Один бриллиант, три рубина, четыре жемчужины. Его древнее название – «Три брата», Les Trois Freres. Это…
– Я знаю, что это, – говорит старуха. Она неотрывно смотрит на экран. Голос у нее снова негромкий. Задумчивый. – Вы очень умны, раз нашли меня здесь. Или очень удачливы. И принесли мне такой славный подарок. Это подарок?
– Если хотите.
– «Три брата» некогда побывали в руках моего отца.
– Что?
Я поворачиваюсь и таращусь на фон Глётт, ничего не могу с собой поделать. Профиль ее тонко и мягко очерчен, но глаза остаются суровыми. Пульт управления все еще у нее в руке.
– «Братья» принадлежали вашему отцу?
– Вы не слушаете, – говорит Глётт. – Мой отец коллекционировал изящные драгоценности, но деловыми талантами не обладал. Аграф, который вы ищете, ему предлагали в Лондоне. В конце прошлого века, кажется. К сожалению, для моего отца он был слишком дорог. Неимоверно дорог, а отец уже не был неимоверно богат. Аграф выскользнул у него из рук. Он жалел об этом до конца жизни. Говорил об аграфе, когда напивался. Плакал. – Она останавливает фильм и поворачивается ко мне. – Видеть не могу, как мужчины плачут.
– Кто купил аграф?
– Откуда мне знать?
Я сижу неподвижно, не сводя с нее глаз. Возможно, она говорит правду. Я знаю, что в XIX веке «Братья» были в Англии. Эти факты совпадают, и старуха, судя по ее виду, не лжет. Однако видимость обманчива. Я оценивающе рассматриваю ее. Под моим взглядом она начинает нервничать.
– Вы не верите мне?
– Не знаю.
Глётт сжимает губы. Теперь вид у нее не беспокойный, а гордый. Я совершила ошибку. Вечно я рано или поздно совершаю ошибки.
– Я слышала раньше рассказы о «Братьях». О людях, которые владели ими. О тех, кто знал этих людей. Всегда только рассказы…
– Вы не верите мне.
Она поднимает пульт и снова включает фильм. Звук стрельбы заполняет комнату.
– У вас есть какие-то доказательства?
– Для вас – нет.
Глётт произносит это шепотом. Лицо ее окаменело. Глаза прикованы к экрану. Губы и скулы очерчены четко, как у восковой фигуры.
Я сижу рядом с ней. Глаза мои обращены на экран, но я ничего не вижу. Пытаюсь беспристрастно оценить создавшееся положение. Если уйти сейчас, то придется возвращаться ночью, сегодня или завтра. Я видела только одного охранника, пусть он и гигант, и одну камеру наблюдения. Но кража здесь не выход. Я не знаю, что мне нужно в этом доме и что здесь можно украсть. Видела только старуху, чья голова полна сведений. Их бы я, будь это возможно, украла.
В душе у меня начинает подниматься отчаяние. Стараюсь подавить его. С каждым днем не поддаваться ему все труднее. Я пребываю в поисках уже пять лет. Старуха рядом со мной хихикает. Когда поднимаю взгляд, она смотрит на меня веселыми глазами.
– Вы теперь в затруднении. Правда? Это заметно. Что станете делать, если я вам не помогу? Не дам кое-чего. Куда подадитесь, а?
Не знаю. Себе это сказать я могу, ей – нет.
– И долго вы занимаетесь поисками?
Теперь ее голос звучит мягче. Я качаю головой и встаю. Жемчужина лежит на приставном столе, и я ее забираю. Это цена билета на самолет, куда бы я ни подалась.
– Постойте. Постойте же! – Глётт с трудом поднимается. Ноги у нее тонкие, негнущиеся, как палки. Когда она стоит, они дрожат. – Раз говорю постойте – значит, постойте. Я спросила, долго ли вы занимаетесь поисками, потому что хочу знать, много ли знаете о драгоценностях.
– Знаю все, что мне нужно.
Достаю из кармана турецкую банкноту в миллион лир и заворачиваю в нее жемчужину, словно безделушку.
– Да. Не сомневаюсь, – говорит старуха. Неуверенно делает шаг ко мне. Повышает голос, словно я уже далеко. – Мне нужен кое-кто. Служанка.
– В служанки я не гожусь.
– Работница. Кто-то знающий, с чем имеет дело. Мой отец любил камни. Их у меня больше, чем вы когда-либо видели. И больше, чем когда-либо мне понадобится. – Она делает еще шаг. Теперь фон Глётт держится твердо, для старухи она довольно высокая. – У меня есть предложение. Раз уж вы здесь, я хочу, чтобы вы составили каталог камней моего отца.
– Зачем мне это?
– Дабы получить то, что вам нужно. Здесь должны быть отцовские дневники. Деловые записи. Поработайте у меня. Посмотрим, сможем ли найти их.
Выход сбоку от меня. Сквозь шторы пробивается солнце.
– Я жалею вас, Кэтрин Стерн. Пока не поздно, соглашайтесь.
Поворачиваюсь и ставлю чемодан. Жемчужина все еще у меня в руке, протягиваю ее. Глётт отмахивается:
– Пф-ф… оставьте ее у себя.
– Нет, она для вас. – Подхожу к ней. – Я никогда не любила жемчужин.
– Вот как? – Старуха поднимает подведенные брови и берет драгоценность. – Ну так я научу вас их любить. Время у нас есть.
Над нами ревет самолет, металлическая тяжесть, висящая в жарком небе. Глётт улыбается мне. Зубы у нее голубовато-белые, желтые. Всех цветов жемчуга. Протягивает руку, и я беру ее в свою.
Жизнь камней – это жизнь мертвых, всегда ведущая в прошлое, никогда в будущее.
Моя записная книжка на вид старая. Я пишу методично, запечатлевая каждый предпринятый шаг. Она не похожа на дневник Арафа с его педантичными маленькими секретами. Я не записываю секретов, и их никто никогда не прочтет. Вот здесь – адрес с полупорнографического календаря. Вот здесь – номер телефона в северной Швейцарии. Между ними подстрочные примечания. Страницы выглядят старыми, я тоже.
Время сейчас уже позднее. За моим окном двор, выложенный черным камнем. Стены дома сложены из мужского базальта, если выйду и приложу к нему руку, почувствую тепло. Женский базальт под ногами будет прохладным. Снаружи летают летучие мыши, я слышу их. Они рыбачат своими голосами. Забрасывают маленькие грузила звука, вытаскивают.
Я в Диярбакыре, в доме Евы фон Глётт. Пишу историю «Трех братьев», представляющую рассказ о себе. Все владельцы их мертвы, драгоценность пропала.
Трепет крыльев летучих мышей. Я нахожусь внутри дома и ощущаю тепло, идущее от его каменных крыш и коридоров. Глётт ненавидит камни и все же выбрала для себя дом из камней. Видимо, дом из жемчужин ей еще не по карману. Мне кажется, через несколько лет она сможет себе это позволить.
Меня клонит в сон. Сегодня я ничего не записываю. Не черчу карты с «Братьями» – три шага к востоку и один шаг назад. Это только для себя. Записная книжка скоро кончится, и я пожалею об этих попусту истраченных страницах.
На столе подле меня лежит бирюза с вырезанными куфическими буквами. Линии букв тонкие, примитивные, как зарубки топором. Им уже семьсот, восемьсот, а может, и девятьсот лет. Они будут по-прежнему разборчивыми, когда белые страницы с моими записями станут ветхими, бумага вновь обретет цвет древесины, чернила начнут тускнеть. Когда все записи, сделанные при моей жизни, расслоятся, фотографии выцветут в красные небеса и фиолетовые силуэты, надписи на драгоценных камнях останутся неизменными. Нет ничего долговременнее камней. Они – это Розеттский камень, Эйвербери-авеню, архив Дариуса.
Я весь день искала старуху. Ночью поймала себя на том, что думаю о матери. Она умерла, когда мне было семь лет. Ее звали Эдит, она была уже старой, родив меня. У меня где-то есть ее камень, гранат с порвавшейся нитки.
Эдит. Она пахла темной комнатой: старыми фотографиями и высохшими кюветками. Темная комната пахла ею. Ничто в доме не было столь значительным, как затемненная буфетная рядом с кухней. Единственная комната, знать которой мы не могли, неисследованная химическая темнота, где Эдит могла скрыться на несколько минут или часов, стать недосягаемой, поскольку открывать дверь было нельзя.
В кошмарах мне снилось, что Эдит растворяется в темноте, когда дверь распахивается, чернеет, словно азотнокислое серебро. Мать-Эвридика. Нам лишь изредка дозволялось входить туда, поодиночке, иначе мы дрались за стул возле кюветок с проявителем и фиксажем. В этом душном пространстве Эдит склонялась над нами. Ее пожелтевшие пальцы извлекали фотографии из темноты. Ее голос произносил: «Вот и все. Абракадабра». Частички черного серебра превращались в улыбающиеся лица. Запах его не походил ни на какой другой – запах опасных и драгоценных вещей.
Писать об Эдит мне трудно. Это отрывает меня от собственной жизни. Думая о ней, я как бы оглядываюсь через плечо.
Но такова характерная особенность мертвых: они всегда ведут тебя в прошлое. Драгоценности то же самое.
«Три Брата» манили меня через пятьсот лет истории, а в истории драгоценностей пятьсот лет – это только начало. Самые древние украшения в сто раз старше «Братьев». Восточноафриканские бусы из скорлупы страусиного яйца. Наряду с обработанными камнями они древнейшее свидетельство человеческого разума. Меня это занимает само по себе: то, что украшения и оружие – средство познать себя. Стремление создавать то и другое – наша общая основа, неизменная вот уже пятьдесят тысяч лет. Назначение украшений так же интуитивно, как назначение секиры, и мы видим в том и другом проявление разума. Оружие создано из необходимости убивать. Украшение – из любви к вещам. Любовь и смерть приводят нас к тому, что мы узнаем себя в своих предках. Это вполне естественно.
Ведут в прошлое. Я расслабляюсь. Ночь. Вспоминаю то, что было несколько лет назад. Клуб находится в Хокстоне, стоит зима, но здесь, где танцуют, теплее. Я ищу одного человека. Толпа движется вокруг меня, я пробираюсь сквозь нее.
Стены клуба выкрашены черной краской, музыка бьется о них. Звуки контрабаса отзываются дрожью у меня под ложечкой. Здесь никто не разговаривает, мало кто танцует, это слишком целенаправленно. Но все движутся и глазеют. В движении есть удовольствие, легкое возбуждение. Эдакая легкая, завуалированная наэлектризованность сексом.
Ищу я мужчину, с которым приехала. Я оставила его разговаривать с диск-жокеем, но когда вернулась, он уже ушел, никто не знает куда. Его зовут Трики, как известного певца. Его подружку – Трисия. Трики и Трисия. Я не его подружка. Тем не менее приехала с ним и хочу, чтобы он отвез меня домой. Позади звуковой системы – черная дверь. Поворачиваю ручку и вхожу.
В комнате груды динамиков, поцарапанных, черных, монолитных. Между динамиками раскладушка. Там лежит парень. Босой, в армейских брюках, укороченном халате. Внешностью и одеждой похожий на японца, он улыбается. Не обязательно мне. На пупке у него голубая таблетка.
Я улыбаюсь ему или отвечаю на улыбку. Музыка даже здесь громкая, и мне приходится слегка повышать голос.
– Трики не видел?
Теперь парень определенно улыбается мне. Указывает на таблетку, лежащую в углублении его плоти. Я качаю головой:
– Нет. Трики. Знаешь его?
Он пожимает плечами. Плечи у него щуплые. Кожа желтоватая, с пепельным оттенком. Мне приходит на ум, что он красив. Не просто привлекателен, а красив, как девушка. По-английски он говорит хорошо, с легким американским или канадским акцентом.
– Не знаю, но жалею, что я не он. Может, составишь мне компанию?
Парень делает демонстративный вдох, задерживает воздух и надувает живот. Глаза его широко раскрыты, лицо удивленное. С вложенной в отверстие пупка таблеткой он выглядит странной пародией на исполнительниц танцев живота, и я не могу удержаться от смеха. Музыка становится приглушенной, и я догадываюсь, что дверь закрылась. Не оглядываюсь. Указываю подбородком на таблетку:
– Что это?
Он вынимает ее. Держит большим и указательным пальцами возле улыбающегося рта. Поворачивает, будто ключ. Приподнимает брови, черные, тонкие.
– Наркотик или лекарство? – спрашивает он.
– Наркотик или пустышка.
– Да ну что ты! – Он садится с обиженным видом. Снова устраивает безмолвное представление. – Давай примем. Это стоило мне почти сорок долларов. Вот как ты мне уже нравишься.
– Угощения от незнакомцев не принимаю.
Он подает мне руку:
– Иохеи.
– Кэтрин.
Мы обмениваемся рукопожатием. Я сажусь на раскладушку.
– Ну вот. Теперь мы не такие уж незнакомцы, говорит он.
И протягивает мне таблетку. Она ярко-голубая, цвета превосходной бирюзы. Ложится, втискивает руку в брючный карман и достает еще одну. Точно такую же, как моя. Поднимает ее.
– Кэтрин, я хочу сказать тост. Можно?
– Можно.
– За угощения от незнакомцев.
– За них.
Мы чокаемся таблетками. Они действуют всю ночь. Наутро, после восхода солнца, занимаемся любовью.
Помню, как целовала его. На лбу и на щеках у него были крохотные волоски, пушок, напоминающий пыль на свету. Он был нежным любовником. Через полгода Иохеи уехал обратно в Канаду. Будучи реалисткой, думаю, что больше никогда его не увижу. Однажды мы разговаривали на эту тему. В японском языке есть такое слово энг, сказал он. Это и общее понятие, и конкретный совет. Оно означает, что любой встречный может оказаться самым значительным человеком в твоей жизни. Поэтому к каждому незнакомцу нужно относиться как к другу. Любить его, пока не поздно. Никогда не знаешь, сказал он, в какую ночь отплывет твой корабль. Иохеи любил Англию. Был без ума от королевской семьи. Говорил, что дело тут в его японской крови, и не будь этого семейства, поклонялся бы какой-нибудь другой британской иконе. Сказал, что в обществе подтяжек для носков и отелей, где кормят постояльцев едой, похожей на обеды в самолете, происходили истории похуже, чем с принцессой Дианой.
Когда мы отправились в лондонский Тауэр, у Иохеи это было уже третьим посещением, а я не бывала там еще ни разу. Он устроил мне экскурсию. Оба мы были с похмелья после бурно проведенной ночи. День был пасмурным, обычным для весенней Англии.
– Не корми их.
– Почему?
– Так написано. Посмотри.
Он смотрит. На лужайке в ярде от нас два объявления. Одно гласит: НЕ ХОДИТЬ ПО ТРАВЕ. Другое: НЕ КОРМИТЕ ВОРОНОВ. Двое из них подходят к Иохеи. Скромные, увертливые птицы. Мускулистые, как питбули. Клювы их напоминают что-то из Музея средневекового оружия.
– Послушай, если б этих тварей можно было убить стаканчиком мороженого, они бы вымерли столетия назад.
Он бросает им половинку сигареты. Ближайшая птица хватает ее – клэк. Мимо нас, пятясь, проходит мужчина, он снимает кинокамерой и что-то бормочет.
Иохеи поднимается.
– Ладно. Пошли в сокровищницу британской короны.
У меня падает настроение.
– Господи, Иохеи, ты ведь не завтракал.
– Завтракал. Тобой. Я думал, тебе нравятся драгоценные камни.
– Нравятся.
Мы уже идем. У двери в сокровищницу очередь. Какая-то старушка спрашивает меня, где туалет для девочек. Иохеи объясняет ей. С Тауэрского моста доносится запах выхлопных газов.
Продвигаясь дюйм за дюймом, мы наконец попадаем внутрь. Стиснутые толпой, проходим мимо жертвенного меча Ранделла и Бриджа со свищами бриллиантов и изумрудов. Между двумя движущимися дорожками – длинная, заставленная коронами витрина. Иохеи показывает их мне по пути: корона королевы-матери, святого Эдуарда. Последняя в этом ряду – имперская церемониальная корона.
Она усеяна бриллиантами, словно посыпана крупной солью. Из-за блеска ее трудно рассмотреть, мы возвращаемся и вновь проделываем этот маршрут. Я становлюсь лицом к движению, он спиной, впереди меня. Показывает мне камни под стеклом. Сапфир Стюартов величиной со сливу, но тонкий, голубой осколок цвета глаз. На верху четырех зубцов короны жемчужины, именуемые «Серьги королевы Елизаветы». Мне они кажутся уродливыми. Четыре сероватых узорчатых нагортанника свисают над складками бархатной шапочки.
– Давай поменяемся.
Иохеи берет меня за бедра и переставляет. Теперь я спиной к движению, а он лицом. Говорит, чтобы я искала взглядом рубин Черного Принца. Меня больше интересует он сам. Я ловлю отражение его глаз в стекле.
Мы лицом к лицу – я и этот камень. Черновато-красное яйцо неправильной формы. В нем просверлено отверстие, не имеющее никакого отношения к короне. Его видно отчетливо, потому что оно заткнуто рубином поменьше. Он бледнее. Капелька крови на толстом сгустке камня.
Движущаяся дорожка кончается. Я спотыкаюсь и едва не падаю. Меня подхватывают Иохеи и один из охранников. Они смеются, потом Иохеи внимательно смотрит на меня и спрашивает:
– Кэтрин? Ты хорошо себя чувствуешь?
Я что-то невнятно бормочу. Иохеи встревожен.
– Ты белая. Чрезмерно даже для англичанки. И холодная. Надо бы выйти на воздух.
– Нет. Здесь теплее. Погоди минуточку.
Я стою спиной к коронам. Кто-то сходит с движущейся дорожки и натыкается на меня. Я не оборачиваюсь. Часть моего существа хочет обернуться, но я ей не позволяю.
– Господи! Ты выглядишь так, словно увидела призрака.
Я поднимаю взгляд на Иохеи. Заставляю себя улыбнуться.
– Место для этого подходящее, верно?
Он смеется. Мы оба смеемся и уходим. На призрака под стеклом я не оглядываюсь. Проходит три дня, прежде чем я возвращаюсь, уже одна. Кружу, кружу вокруг драгоценных камней и смотрю только на один. Первый, который люблю по-настоящему, хотя он будет не последним. Мой первый рубин-балас. Я хочу протянуть руку и коснуться его. Чувствую внутри какое-то движение, приливы и отливы крови.
Камни ведут тебя по жизни, подобно пагубному пристрастию. Начав, остановиться трудно. Даже если места, куда они заводят, тебе не нравятся. Иногда достаточно только одного камня. Например, поверхность рубина Тимура исписана именами всех его владельцев до последнего. Первый Акбар-шах, потом чередой остальные: Джехангир-шах; Салиль Ойран-шах; Аламгир-шах; Бадшах Газу Мухаммед Фарух Сияр; Ахмед Шар Дури-и-Дуран. Это лучший рубин среди 25 000 самоцветов Царя Царей.
Или рубин Черного Принца, уродливый шар. Можно проследить его путь по остовам ныне пустых корон до самой английской Реформации. Камень просверлен и заткнут в Азии прежде, чем был вставлен в западную корону. Более того. Его химическая структура – шпинель. Рубин-балас состоит из алюминия, кислорода, магния. Очень высокая температура, тысяча лет темноты… а в конце неизбежный результат. Ничего не остается, кроме камней.
Я просыпаюсь одна, среди ночи, и задаюсь вопросом, то ли это самое, что я ищу.
Я открываю глаза. В каменном доме тихо. Не помню, что разбудило меня, но словно бы какой-то звук. Я жду, чтобы он раздался снова, и он раздается, краткий вскрик.
Его можно принять за лисий или заячий, такие в нем вожделение и исступленность, однако я знаю, что он человеческий. За ним следует ритм движений. Едва слышный сквозь каменные стены.
Я быстро сбрасываю с себя остатки сна. В подслушивании занятий любовью есть чувство опасности. Глаза и уши напрягаются в темноте еще до того, как я начинаю толком соображать. Вскрик раздается снова, и я знаю наверняка, что он женский. Отвращения у меня это пока не вызывает. В этом есть какая-то привлекательность. Я – замершая, неслышная – прислушиваюсь.
Сажусь. У меня обострилось даже обоняние. Дом фон Глётт пахнет известняком, как церковный склеп. Слабее чувствуется запах соли, камфары, скипидара. И еще слабее – кислый запах старости и утраты.
В дешевом отеле звуки секса – обыденная вещь, но в отшельнической тишине дома Глётт они неуместны. На миг представляю себе старуху с гигантом Хасаном в некоей сложной позе соития и отгоняю это видение. В уголках губ у меня дрожит улыбка. Чем дольше длятся звуки, тем комичнее становится.
А потом они наскучивают. То, что я слышу, превращается в простой ритм частей тела, тяжелого дыхания, мышц, работающих навстречу друг другу. Монотонный, как приступ кашля. Отбрасываю простыню и стою голая в прохладной темноте, прислушиваясь. Трудно разобрать, откуда доносится звук. Вокруг меня тусклые очертания кровати, письменного стола, стула, гардероба из древесины благовонного кедра.
Я беру стул, переворачиваю и с силой тычу ножками в потолок. Всего три раза. Звук замирает. Если бы я могла извиниться, то, пожалуй, извинилась бы, но не могу. Возможности общения с помощью стула исчерпаны полностью.
Я ставлю его, сажусь за стол и включаю свет. На столе лежат мои часики и записная книжка. Черная, с бурыми пятнами, перехваченная резинкой. Растолстевшая от пользования, словно слова внутри оказывают собственное давление. В чемодане у меня еще девять таких же, завернутых в пакет. Одна с еще чистыми страницами. В течение последних пяти лет они извещают меня, откуда я приехала, сообщают, куда поеду. Сейчас три часа ночи, и я чувствую себя одинокой, как никогда. Достаю из чемодана ручку, принимаюсь писать, а через некоторое время кладу голову на стол и засыпаю.
Солнце будит меня, пригревая волосы и сгиб руки. Открываю глаза и вижу на столе записную книжку – на черной жесткой обложке потек слюны. Вытираю обложку начисто, отодвигаю стул. Отбрасываю волосы назад и растираю затекшие плечи.
Свет со двора заливает комнату. Я чувствую себя окутанной жарой, сонной и раздражительной, как девчонка. Чтобы окончательно разогнать сон, достаю то, что понадобится для работы. Чемодан не распаковываю, потому что долго здесь задерживаться не собираюсь.
Беру лупу, представляющую собой увеличительное стекло ювелира. Последний рубин. Доллары, единственную оставшуюся ценность, кроме рубина и купленного талисмана. Ручка с записной книжкой лежат на столе, беру их тоже. Часики. Они отстают. Я проспала, но я здесь, в конце концов, не ради работы, только ради сведений. «„Три брата“ некогда побывали в руках моего отца».
Вчерашняя одежда лежит на полу, я облачаюсь в нее, рубашку и хорошие джинсы цветом темнее индиго. Хасан играет на своей деревянной флейте; одеваясь, я вижу его во дворе. Протираю на запыленном стекле чистый круг. Он сидит у стены, в десяти футах, спиной ко мне, склонив голову набок. Мне видны его зачесанные за ухо волосы, кожа, облегающая выпуклость черепа. Представляю, каково было бы поцеловать его туда. Он красивый мужчина, воплощение мужчины, но я не ищу мужчин.
На внутренней стороне дверцы гардероба зеркало. Я смотрю на отражение своей шеи, ямочку, под которой некогда висела цепочка. Теперь никаких украшений у меня нет. Я давно не носила их для удовольствия. Словно меня ничто не может устроить, кроме «Братьев». Тем не менее в своем дорожном облачении чувствую себя как бы не совсем одетой. В пути люди знакомятся, зная, что больше не увидятся никогда. И мне это нравится. Все просто, на дружбу или вражду времени нет. Возвращаюсь к чемодану. Внутри расческа, туалетные принадлежности, минимум косметики. Перед выходом из комнаты расчесываю волосы, пока они не начинают блестеть.








